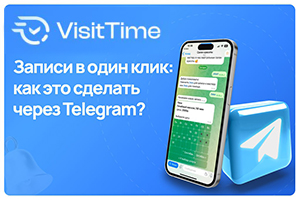Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Михаил Чехов — Гамлет. — «Вопль оскорбленного вкуса». — Живые чувства Гамлета. — Внутренняя наполненность и строгая правда.
|
|
… При открытии занавеса Гамлет в свите короля уже сидел на сцене. Скромный черный костюм, желтовато-бледное лицо, длинные гладкие волосы, внимательно следящие за всем происходящим глаза.
Он слушал тронную речь короля, будто боялся пропустить не только слово, но малейшую интонацию. Внимательным взглядом провожал послов, потом Лаэрта, которому Клавдий разрешил вернуться во Францию.
Обращенный к нему вопрос Клавдия на секунду будто выбивал его из активной душевной деятельности. Его ответные реплики звучали сдержанно, скупо, бескрасочно. Он вынужден отвечать — этого требует вежливость. Но вежливость давалась ему с трудом. А от него ждали слов. Клавдию и Гертруде нужно, чтобы он смирился перед неизбежностью:
Ты знаешь, все живое умирает
И переходит в вечность от земли[14].
Чехов — Гамлет соглашался: «Да, все умрет».
Но если так, то Гертруде не понятно, почему Гамлету все кажется так странно.
Услышав эти слова, Чехов — Гамлет вдруг резко отступал от матери и протягивал руку вперед, как бы защищаясь от страшного удара. Создавалось {112} впечатление, что своими словами Гертруда дотрагивалась до открытой, кровоточащей раны.
Нет, мне не кажется, а точно есть.
И для меня, что кажется, — ничтожно,
говорил он с той пронзительной простотой и искренностью, которые сразу выводили Гамлета из разряда «высоких» поэтических образов и приближали к реальному, живому, знакомому.
У маленького тщедушного принца кровоточило сердце, и он сурово разграничивал горе, кажущееся и истинное. Всем внешним признакам горя — траурному плащу, черному костюму, грустному виду, вздохам, слезам — всему тому, что «можно и сыграть», что только кажется, — он противопоставлял то истинное, что он несет в душе, что «есть», «что выше всех печали украшений»…
Исполнение Чехова вызывало много споров. Большинство не признало этого Гамлета. Я не берусь судить о том, кто в этом споре прав, — меня этот Гамлет потряс. Я видела после него многих великолепных Гамлетов (в том числе и Моисси), но никогда мне не удавалось получить такого полного, всеобъемлющего чувства художественного удовлетворения. Ведь каждый из нас любит Гамлета по-разному. Гейне пишет: «Мы знаем этого Гамлета так же, как знаем собственное лицо, которое мы так часто видим в зеркале и которое, однако, нам менее знакомо, чем мы думаем»[15]. И это действительно так.
Чеховского Гамлета я навсегда полюбила за то, что он приоткрыл мне сложность характера шекспировского героя. Он позволил шаг за шагом пройти вместе с ним через все горнило страданий, сомнений, потрясений, выпавших на долю бедного датского принца.
Чехов потрясал в Гамлете силой восприятия случившегося, размахом мысли и чувства, возникавших в нем в ответ на события в Эльсиноре. Реальность этих событий была так жгуча, что, несмотря на помпезную бутафорию всего спектакля, она доходила через Чехова — Гамлета как живая действительность.
Гамлет был ролью, по всем внешним данным противоположной Чехову. Ни голоса, ни дикции, ни внешности, хотя бы отдаленно отвечающих требованиям, обычно предъявляемым к исполнителям Гамлета, не было и в помине. Исполнение Чехова явилось одним из самых удивительных, самых смелых ниспровержений театрального амплуа.
Не удивительно, что это было встречено далеко не миролюбиво. Известный трагик Н. П. Россов написал статью под названием: «Гамлет популярный». Журнал, в котором были напечатаны выдержки из этой {113} статьи, характеризует ее как «подлинный вопль оскорбленного вкуса». Россов обвиняет Чехова в низведении образа до себя. «Мне совсем не интересно, как думает и чувствует сам Чехов, беспечно беря мысли и чувства датского принца для вышивания на них собственных узоров, — пишет автор статьи. — Это принцип характерно любительский и при “седьмом поте” и бесчисленных репетициях доступен любому с улицы…»[16].
Он упрекает Чехова в том, что его дарование «все основано на психологии будней». «Ох, сдается мне, Чехов, как даровитый артист, отлично сознает, чего ему не хватает в Гамлете. Не отсюда ли подчеркнутая простота костюма. Ведь придворный костюм Возрождения обязывает к пластической красоте и величавости жестов, а стильным длинным париком еще более обезличивается маленький рост, и крайне реалистические, реалистические до натурализма, приемы игры делают невозможным придавать какую-либо гравюрность классической роли»[17].
С моей точки зрения, все в этих оценках — от предвзятости, от органического неприятия трагиком старой школы самой индивидуальности Чехова. Чехов в Гамлете слишком многому из общепринятого противоречил — и понятию об амплуа, и многим другим театральным условностям. Взамен всего этого как единственный принцип исполнения он выдвигал правду.
Правда была не только категорией, характеризующей стиль актерского исполнения. Стремление к правде было главной чертой характера Гамлета. Это стремление было таким всепоглощающим, таким страстным и подлинным, что казалось, человеческое сердце не в силах выдержать подобное напряжение. Мысль о кажущихся и истинных чувствах, которая прозвучала в первом появлении Гамлета, была камертоном всей роли.
Когда я сейчас вспоминаю, чем отличался чеховский Гамлет от других, которых пришлось видеть, мне кажется, что он был, как ни странно, молчаливым человеком. По-видимому, длинные монологи, насыщенные образами, развернутые реплики, полные глубоких мыслей-метафор, воспринимались настолько неотделимо от того, как Чехов слушал, молчал и думал, что самый момент возникновения монолога или реплики был неуловим. Он говорил потому, что не мог молчать, спрашивал потому, что ответ ему был нужен, как воздух. Потому труднейшие монологи Гамлета казались прозрачно ясными.
Умение довести до кристальной ясности самые сложные и глубокие психологические положения было одной из особенностей чеховского таланта. Это как бы высвобождало воображение зрителей, давало им возможность, не спотыкаясь об алогизмы ударений, рваную речь, неясность {114} психологических переходов, непосредственно соприкасаться с живыми созданиями Чехова и сочувствовать им.
Внимая просьбам короля и матери, Гамлет остается в Эльсиноре.
«Я повинуюсь вам во всем», — говорил Чехов покорно. И в этой покорности уже звучала трагическая нота. Его сейчас не тянет в Виттенберг, он ни на чем не настаивает. Казалось, он потерял чувства будущего.
Получив согласие Гамлета, двор во главе с королем и королевой уходит. Гамлет остается один. Покойно и печально Чехов — Гамлет провожал уходящих взглядом. Не меняя ни мизансцены, ни даже положения тела, только отвернув от уходящих голову и глядя куда-то вперед, он начинал говорить. Он освобождался от необходимости быть среди чужих людей. У него вырывался долго сдерживаемый стон:
О если б вы, души моей оковы,
Ты, крепко сплоченный состав костей,
Ниспал росой, туманом испарился;
Иль если б ты, судья земли и неба,
Не запретил греха самоубийства!..
Он не хочет жить, потому что горе непосильно, а измена матери непонятна, страшна, и мозг не может примириться с тем, что случилось.
В первом монологе Гамлета есть фраза: «Покинь меня, воспоминанья сила!». Так вот именно сила воспоминаний — живых, ярких, мучительных и подлинных — заслоняла все и парализовала стремление к жизни.
Здесь еще Чехов — Гамлет далек от мысли о преступлении. Просто самый факт молниеносной свадьбы матери после едва совершившегося погребения был трагический несовместим с его представлением о жизни. Дело в том, что у чеховского Гамлета был свой прекрасный, великий идеал человека, который как бы освещал все вокруг. Несоответствие происходящего с тем, что достойно имени человека, переполняло его горем и презрением.
Чувства чеховского Гамлета были столь живыми еще и потому, что идеал человека являлся для него не абстракцией, — он воплощался в безгранично любимом образе отца. Гамлет любил отца беспредельно, сыновняя любовь становилась огромной моральной силой, активным импульсом к действию.
Весть о появлении тени отца приводила Чехова — Гамлета в неописуемое возбуждение. В нем менялось все — ритм, пластика, голос, взгляд. Вместо человека, покорно и безнадежно несущего свою скорбь, перед нами возникал юноша, который взволнованно, пылко, нетерпеливо требовал ответа. В то, что Горацио, Марцелл и Бернарде не ошиблись, что они действительно видели покойного короля, он верил сразу, безоговорочно. {115} В слове: «Странно!», которым он венчал рассказ Горацио, гласная «а» звучала, как долгий стон. Это «странно!» было, как рокот волны. В нем не было недоверия к словам друга, оно скорее выражало предчувствие, готовность подойти к какой-то тайне.
Теперь Гамлету нужны подробности. И вопросы, один за другим, все стремительнее обрушивались на Горацио. «Но где же это было?», «Ты с ним не говорил?», «Он был вооружен?», «Так вы лица не видели его?», «Что ж, грозно он смотрел?», «Он был багров иль бледен?», «И очи устремлял на вас?», «И цвет волос на бороде седой?». Внутренняя энергия Чехова была необыкновенной. Казалось, все в нем дрожит, но в этой напряженности не было никакого элемента физического напряжения. Призрак искал его, Гамлета, он нужен отцу, — и в чеховском Гамлете зрела глубочайшая убежденность в своих силах, в своей воле, они помогут ему проникнуть в тайну, которую он сейчас ощущал как реальный факт.
Сцена с призраком решалась в спектакле исключительно интересно. Призрак не появлялся на сцене. Нельзя утверждать, что такое решение правомерно для всех постановок трагедии, но для спектакля, где Гамлета играл Чехов, это было абсолютно органично. Воображение Чехова и его заразительность были так масштабны, что зритель верил каждому его слову, и образ короля Гамлета «в доспехах бранных с головы до ног» рисовался нашему воображению таким, каким его видел Чехов.
В этой сцене Чехов — Гамлет поднимался до глубоких философских обобщений. В нем как бы просыпались те силы души, которые вдохновляли его на борьбу с миром коварства и зла.
Несмотря на ужас, который овладевал им при виде безмерно любимого отца, он тянулся к нему. Грозное счастье увидеть еще раз того, кто был навсегда потерян, наполняло Гамлета и счастьем и страхом, но все эти противоречивые чувства вытеснялись желанием узнать, что кроется в этом таинственном появлении. И воля и познание тайны делали чеховского Гамлета бесстрашным. Он отчаянно боролся с непосредственностью своего чувства к отцу:
Твой образ так заманчив!
Я говорю с тобой, тебя зову я
Гамлетом, королем, отцом, монархом!
Казалось, что в эти определения он хочет вложить всю свою нежность и любовь. Но он подавлял эти чувства. Сейчас надо узнать, зачем король покинул склеп.
В сцене, когда Горацио и Марцелл не пускают Гамлета за манящей его тенью, Чехов обнаруживал такие черты Гамлета, без которых нами не мыслится человек эпохи Возрождения. Да, этот Гамлет умел фехтовать, {116} скакать на коне, его можно было представить не только углубленным в книгу, но и на поле боя.
Стремление услышать то, что призрак мог открыть ему только наедине, наполняло его львиной силой и ловкостью. И вот начиналась сцена, которая осталась для меня одним из самых сильных впечатлений жизни.
Сквозь густые облака пробивался лунный свет, освещавший лицо и руки Гамлета. Все остальное было погружено в темноту. На сцене не было не только актера, изображающего призрак, но не было и его голоса: Чехов произносил и слова призрака, и слова Гамлета, а за сценой звучали на фоне какой-то музыкальной ноты четкие удары гонга и барабана, означавшие ритм шагов призрака. Смысл этого решения был в том, что Чехов переводил разговор Гамлета с тенью во внутренний монолог. Мысли отца жили в самом Гамлете, и Гамлет как бы высвобождал то, что еще не озарила ясная мысль.
В нем существовали теза и антитеза, и он огромным напряжением воли стремился к синтезу. То он, не отрываясь, следил глазами за призраком и расстояние между ними казалось огромным, то слышал слова отца как бы в себе самом. Он слушал и, для того чтобы запомнить каждую мысль, повторял слова старого Гамлета. Он говорил не весь текст. Были куски, когда он только слушал, и по его лицу, глазам, жесту, какому-то одному слову становилось понятно, какая страшная тайна обрушилась на него.
Такое решение имело определенные сценические корни. Мы сейчас недооцениваем, какую огромную роль сыграло исполнение В. И. Качаловым роли Ивана в «Братьях Карамазовых». Трактовка сцены Ивана с чертом не только потрясла современников, но оставила глубочайший след и в сценическом искусстве, и в драматургии, и в теоретических обобщениях. Решение Качалова играть в сцене «Кошмара» одновременно и Ивана, и черта испугало вначале даже Вл. И. Немировича-Данченко, но творческое озарение Качалова привело его к тому, что в результате на сцене не было двух действующих лиц — Ивана и черта. На сцене был только Иван, а в нем было как бы два «я». «Черт» был вторым, тайным «я» Ивана. И перед зрителем возникал человек, ведущий напряженнейший разговор с самим собой.
Чехов не мог пройти мимо опыта Качалова, к которому он относился восторженно, влюбленно. Думаю, что он знал о неосуществленной мечте Качалова играть Гамлета без призрака. Необыкновенная доброта и отзывчивость Василия Ивановича, его активное желание помочь и поделиться своими мыслями с молодыми актерами позволяют мне думать, что Чехов знал об этих мыслях от самого Качалова.
О. В. Гзовская приводит в своих воспоминаниях о Качалове такой его разговор с К. С. Станиславским.
{117} — Я, Константин Сергеевич, не верю в привидения, я должен конкретно и реально зажить живыми чувствами, и потому для меня слова тени отца Гамлета являются словами самого Гамлета, который отвечает своим собственным мыслям, своим собственным чувствам, — тогда я могу зажить этой сценой. Эта сцена для меня не диалог, а это мой внутренний монолог[18].
Василий Иванович сыграл Ивана Карамазова в сезон 1910/11 года. Гамлет был им осуществлен в следующем сезоне. В работе над Иваном он сумел превратить столкновение человека с чертом, с потусторонними силами в сложность внутренних конфликтов, раздирающих человека, — конфликтов, в которых в конечном счете торжествует сила человеческого разума.
Я далека от мысли утверждать, что Михаила Чехова в период работы над Гамлетом увлекали ясные, материалистические позиции Качалова, но Чехов-художник был явно не в ладу с целым рядом мыслей мистического порядка, которые сам он тогда исповедовал. Во всяком случае, в сцене с призраком он пошел за Качаловым — внутренний монолог стал для него основой решения.
В пору работы Чехова над Гамлетом Чеховской студии уже не существовало, но Чехов по-прежнему пытался объединять вокруг себя людей, заинтересованных в его творческих поисках. Группа эта состояла преимущественно из актерской молодежи разных театров. Он никому не обещал ни занятий по системе Станиславского, ни организации хотя бы в далеком будущем нового театра, ни работы над ролями или отрывками.
— Есть вопросы, которые интересуют, мучают меня, — говорил он. — Мне кажется, что эти вопросы вообще имеют значение для театра. Если хотите, будем совместно искать, пробовать, думать. Цель занятий — развить в себе более пристальный взгляд на творческий процесс актера. Путь — терпеливые поиски. Мы будем решать разные сценические проблемы. На это никогда не хватает времени в суете театральной жизни.
Он особенно настаивал на том, что участие каждого должно быть совершенно бескорыстно, — нужно твердо знать, что никто не получит ни благ, ни ролей, ни возможности продвинуться в театре. Состав этой новой студии, естественно, был непостоянен. Кто-то быстро ушел, часто приходили новые люди. Иногда на занятиях бывало много народа, иногда всего несколько человек. Я еще расскажу о работе этой новой студии, так как, по-моему, именно в этот период у Чехова сформировались те мысли об искусстве, которые сыграли решающую роль в его отходе от Станиславского.
{118} Гамлет захватил Чехова еще более властно, чем все предыдущие роли. Он много говорил о Гамлете, пробовал при нас отдельные моменты роли. Однажды он рассказал нам, как ему видится сцена с призраком. Кто-то стал спорить с ним. Ведь призрак открывает Гамлету то, что до этого было ему неизвестно, — об измене матери и убийстве, совершенном Клавдием, Гамлет ничего не знал. Стоит ли отказываться от возможности, которую дает Шекспир и в которой может проявиться одна из сильнейших сторон чеховского таланта — непосредственность восприятия? Чехов, наверное, слышал подобные возражения и в театре, поэтому отнесся к ним нервно, нетерпимо.
— Почему восприятие слов тени более глубоко, более выразительно, чем озаряющая душу догадка? — спрашивал он. — Ведь Гамлет и раньше чувствует, что что-то не так, еще до встречи с тенью он говорит: «Неловко что-то здесь: я злые козни подозреваю». А после слов призрака, открывших ему преступление: «О, ты, пророчество моей души! Мой дядя…» Его мысль билась где-то близко, она просто еще не созрела…
Чехов так и играл эту сцену. А таинственные шаги призрака была данью более традиционному решению — у театра не хватало смелости, которую в свое время проявил Качалов в сцене «Кошмара».
Замечательно играл Чехов сцену после исчезновения призрака. «Прощай, прощай и помни обо мне», — эти слова призрака он говорил еле слышно, как бы повторяя, запоминая, прислушиваясь к себе. После этих тихих, с удлиненными гласными слов: «Прощай, прощай…», звучащих, как далекое эхо, Чехов — Гамлет как бы вступал в новую эру жизни.
Твои слова, родитель мой, одни
Пусть в книге сердца моего живут
Без примеси других, ничтожных слов!
Горячим потоком лились эти слова. Чехов — Гамлет в этот момент действительно рвал с прошлым, посвящая себя одному великому делу.
Своеобразно трактовал Чехов отношение Гамлета к Офелии. К этой стороне роли он часто обращался в беседах с нами.
— Я, Гамлет, любил Офелию, — размышлял он. — Но это — прошлое. С тех пор как в мою жизнь вошла громадная цель — соединить порванную связь времен, — любви нет места. Я не доверяю своей тайны ближайшему другу — Горацио, тем более не доверю ее благовоспитанной девочке, дочери Полония…
Чехов считал, что Гамлет решил представиться сумасшедшим для всех, включая Офелию, но он пришел к ней не для того, чтобы напугать ее или проверить, насколько он убедителен в роли безумца, а для того, чтобы проститься с той, которую он когда-то любил. Это прощание с любовью он играл замечательно.
{119} Чехову очень нравился рассказ Офелии об этой сцене. Он знал его наизусть, как, впрочем, и целый ряд других мест в пьесе, в которых описывалось поведение Гамлета. Рассказ Офелии он часто читал вслух.
Больше всего ему нравилось, как здесь Офелия описывает вздох Гамлета. Гамлет проверял Офелию, способна ли она понять его великие цели, пойти за ним, но почувствовал, что она чужая. Чужая, как все, — и отказался от нее. Отказ от любви, прощание с любовью — это еще одна рана в его сердце. Чехов — Гамлет был безжалостно, язвительно жесток с Офелией. Казалось, что теперь его чувство к ней близко к ненависти. Он не верил ей. Каждое слово Офелии резало его слух, подобно фальшивой ноте. М. Дурасова, игравшая Офелию, рассказывала мне, что она никогда не могла сдержать слез обиды и унижения, — так смотрел на нее Чехов — Гамлет.
Сложное чувство испытывал Чехов — Гамлет к своей матери, виновнице всех бед. Но он не только ненавидел ее, — он ее любил. Любил безгранично, мучительно, стыдясь и презирая свое чувство. Чем глубже он осознавал ее вину, тем беспомощнее было его желание разлюбить ее. Слова тени:
Но как бы ты не вздумал отомстить,
Не запятнай души: да не коснется
Отмщенья мысль до матери твоей! —
казались его собственными словами, которыми он запрещал себе касаться того, что с детства было для него святыней.
Во время работы над Гамлетом у Чехова дома висела литография Делакруа «Гамлет и мать». Мизансцена, ритм движений, бурная линия одежды и четкий энергичный рисунок выражают стремительность конфликта, накаленность страстей. Кажется, королева только что упала в кресло, пораженная упреками сына. В ее позе нет устойчивости — одна нога опирается на скамеечку, другая осталась на полу, руки стремятся отстранить сына, оттолкнуть портрет отца, который Гамлет протягивает ей, а голова падает и прижимается к его плечу. Она и отталкивает сына и ищет у него защиты. Гамлет — невысокий, некрасивый. Он смотрит мимо матери на портрет. В жесте его рук, протянутых вперед, — растерянность, недоумение. Движение тела порывисто — он тянется к матери, он прильнул к ней, как бы отвечая на ее стремление найти у него защиту от себя самой.
Чехова поразило, что художника, по-видимому, волновало в этой теме то же, что и его самого. Все, что он делал в сцене Гамлета с матерью, было так далеко от трафарета «карающего сына», так непосредственно, сильно и человечески страстно.
{120} Мать вызвала его к себе, и он пришел, сразу после того, как отказался от убийства Клавдия. Он отложил момент мщения, но его удержало не мягкосердечие, не слабость. В словах: «Живи еще, но ты уже мертвец», — звучала ясность и воля. Таким он и приходил на свидание к матери. Собранный, чужой, как будто победивший в себе сыновнюю любовь.
Постой, садись: ты с места не сойдешь,
Пока я зеркало тебе не покажу,
В котором ты свою увидишь душу, —
Чехов говорил эти слова властно. В них была такая внутренняя сила, что естественным был смертельный испуг королевы. После того как крику о помощи вторил крик подслушивавшего Полония, Гамлет со словами: «Как! Мышь?» — стремительно обнажал шпагу. Он был убежден в том, что ему удалось поймать короля. Увидев Полония, он не испытывал ничего, кроме разочарования. К самому факту убийства Полония он относился удивительно равнодушно. Ему было даже жалко Полония, но жалко так, будто его убил кто-то другой. Сердце его молчало, совесть не мучила.
Помню его удивительную по неожиданности и правдивости интонацию, когда он говорил королеве: «Да не ломай так рук, потише! Сядь!» Казалось, он безгранично утомлен крикливым изъявлением чувств. Казалось, Гамлет физически не может больше жить среди фальшивого шума и жаждет тишины, чтобы заставить мать прислушаться к своим истинным чувствам, разобраться в самой себе.
Только безграничная любовь к матери могла породить такое разнообразие внутренних ходов. Чехов — Гамлет был в этой сцене и жесток, и ласков, и презрителен, и нетерпим, и горяч, и нежен. Порой казалось, что на сцене разговаривает не сын с матерью, а отец с дочерью, настолько мудро, глубоко и тонко чеховский Гамлет разбирался в сложных вопросах жизни. Его совесть отзывалась нестерпимой болью на зло, творимое кругом. Этот Гамлет понимал, что грех матери связан со всем «развратным веком», которому он объявил войну. И поэтому, несмотря на глубокую интимность переживаний Гамлета, мы все время чувствовали, что все происходящее воспринимается им в крупном охвате времени. Решение вопроса — «я» и «действительность» — занимало основное, ведущее место в трактовке каждой отдельной сцены.
В сцене Гамлета с актерами исполнители чаще всего сужают шекспировский замысел — Гамлет рассматривает приезд актеров только как удобный случай, чтобы устроить «мышеловку» и разоблачить Клавдия. Чехов тоже осуществлял эту действенную сюжетную линию, но, помимо нее, он доносил до зрителя огромную, восторженную любовь Гамлета {121} к театру, веру в его волшебство, в его огромную силу воздействия на людей.
В слово «друзья», которым он приветствовал актеров, вкладывалось такое активное тяготение к людям, что одиночество Гамлета при дворе становилось особенно ясным. Рассказ Энея об убийстве Приама он слушал, как живую быль о собственной жизни. Последующий монолог построен так, что Гамлет, получив согласие актеров сыграть при дворе «убийство Гонзаго», как бы бросает на какое-то время эту мысль и оказывается во власти глубочайшего самоанализа, сопоставляя себя, свою пассивность с пламенным воображением актера. Чехов великолепно, чувствовал структуру этого монолога.
Не дивно ли: актер при тени страсти,
При вымысле пустом был в состоянии
Своим мечтам всю душу покорить.
Его лицо от силы их бледнеет.
В глазах слеза дрожит, и млеет голос,
В чертах лица отчаянье и ужас,
И весь состав его покорен мысли.
И все из ничего — из-за Гекубы!
Что он Гекубе? Что она ему?
Что плачет он о ней? О! если бы,
Как я, владел призывом к страсти,
Что б сделал он?
Актер Чехов словами Шекспира пел гимн актеру. Это кажущееся отступление обнаруживало глубину и тонкость натуры Гамлета, ясно понимающего, какие душевные черты мешают ему выполнить свой долг. Чехов с удивительной тонкостью подчинял тему размышления Гамлета об актерах теме собственной слабости. Он не умел, подобно актеру, подчинять «состав» владеющей им мысли. «А я, презренный, малодушный раб…» — говорил Чехов с такой мукой, с таким презрением к себе, что сама интенсивность этого взрыва отчаяния поражала подлинно шекспировским трагизмом.
В спектакле были сделаны большие текстовые купюры. Многие из них были, безусловно, во вред постановке. В спектакле, например, не было Фортинбраса, Озрика. Не было и сцены, в которой Гамлет дает свои замечательные наставления актерам. Меня лично это очень огорчило — такой актер, как Чехов, имел особое право говорить со сцены о том, как надо играть. Чехов отказался от этой сцены, решив, что она останавливает действие. Кроме того, само положение учителя актеров казалось ему необыкновенно ответственным.
— Боюсь, что в этот момент все забудут о Гамлете и начнут думать: а сам-то Чехов, как играет? Так ли, как он требует от актеров, или нет?
{122} Но, отказавшись от этой сцены, он все же в какой-то степени использовал ее. Перед «Мышеловкой» игралась пантомима, которую Гамлет как бы заранее репетировал. Чехов сидел в кресле, а актеры (их было трое) репетировали убийство короля, Сцена шла в сопровождении музыки. У одного из актеров в руках был кинжал, и он направлялся к спящему королю, чтобы убить его. Чехов в этот момент останавливал хлопком рук действие и показывал актеру, как надо сыграть этот момент, — убийство должно свершиться не кинжалом, а ядом, который нужно влить в ухо короля. Чехов играл этот кусок блестяще. Он подкрадывался мягко, тихо, необычайно пластично. Не было ни одного движения, рассчитанного на эффект, и вместе с тем это было удивительно ритмично и выразительно. Ни одна капля яда не должна попасть мимо — содержание действия диктовало удивительную целесообразность движений, а их пластическая выразительность поражала почти звериной свободой. Актер, которого играл А. И. Благонравов, сейчас же повторял подсказанные ему Гамлетом движения. Он тоже был очень пластичен и вносил в повтор ту долю импровизации, которая сразу раскрывала дух, суть шекспировского театра.
Главная тема Чехова — Гамлета — сохранение человеческого. Эта тема особенно ярко раскрывалась в финале. Вступив в борьбу, Гамлет сам принужден бороться звериными средствами. Это — дань времени, дань жестокой эпохе. Он подделывает письмо короля, заменяя в нем свое имя именами предавших его Гильденстерна и Розенкранца. Их, а не его, должны будут казнить. Он убивает Полония. И все же потребность человеческого звучала в нем таким высоким и страстным призывом, что невольно заставляла зрителей заглядывать в свою собственную душу.
Чехов — Гамлет оскорблял Лаэрта, потому что во время похорон Офелии был взбешен риторикой его печали. Но степень раскаяния за нанесенную незаслуженно обиду, желание сказать Лаэрту об этом и то, как он просил при всех прощения, потрясали. Казалось, только до конца прощенный Лаэртом он в силах приступить к дуэли.
Он шел на этот бой, действительно забыв все зло. Он весь светился изнутри. Чистая, светлая, открытая для добра душа раскрывалась в умении забывать зло.
Помню замечательный момент — королева подходила к Гамлету, чтобы вытереть его разгоряченное в пылу боя лицо.
«Благодарю», — говорил Чехов, и его лицо освещалось детской улыбкой. Заботливый жест матери как бы воскрешал для него детство, счастье материнской любви, гармонию чувств.
Это длилось какую-то секунду, но секунда буквально впечатывалась в память. Казалось, эту улыбку заметила я одна. Но ее видели все, и каждый думал, что заметил он один. В этом была баснословная техника {123} Чехова-актера. А потом смерть матери, отравленная рапира, и конец. Слова, которыми Чехов — Гамлет сопровождал убитого короля, были до жути бескрасочны. Гамлет совершал свой долг. Он убивал не просто короля Клавдия, он убивал зло.
Я теоретически знаю, что такое катарсис. Но пережила я это в театре только однажды — в момент смерти чеховского Гамлета. Театральный прием был очень прост. Во время дуэли сцена была тускло освещена. Светом вырывались лишь отдельные фигуры.
После ранения Гамлета сцена постепенно заливалась полным белым светом.
Чехов падал, но слуги подхватывали его движение, и он оказывался на громадном щите. Так, — прислоненный спиною к щиту, — он обращался к Горацио с просьбой поведать миру о жизни Гамлета.
Не меняя позы, он говорил: «Конец — молчание». А потом слуги на высоко вытянутых над головами руках под звуки фанфар уносили щит с мертвым Гамлетом…
Из всех рецензий тех лет я полностью разделяю оценку П. А. Маркова. Не принимая спектакля в целом из-за отсутствия режиссерской сосредоточенности, смешения оперности с приемами Вахтангова, найденными для «Эрика XIV», Марков безоговорочно берет Чехова под защиту. «О Чехове будут писать и говорить, что он не Гамлет. Между тем, его исполнение — огромной и непосредственной заразительности, — пишет П. А. Марков. — Он лишает Гамлета безволия и рационализма. Его Гамлет приведен к строгому единству. Он не рассуждает, а ощущает. Его философия, ставшая частью существа человека, мысль, которая стала чувством, болью и волею Гамлета. Основной мотив роли — “распалась связь времен”. Ощущение разрушающегося мира стало основной нотой музыкального исполнения. Образ Гамлета не ущемлен, но под знаком этого ощущения живут и любовь, и гнев, и ненависть, и презрение Гамлета. С момента развертывания событий Гамлет — Чехов поставлен в необходимость действовать. Он доведен до предела. Так возникает образ — почти лирический, до конца волнующий зрителя, острый и трогательный…» Заканчивает Марков свою статью так: «Чехов обещает единственное разрешение Гамлета, оправдывающее и шумливость спектакля, и его помпезность своей внутренней наполненностью и строгой правдой»[19].
Мне кажется, что нельзя найти лучших слов, чтобы определить сущность этого исполнения, — «внутренняя наполненность и строгая правда».
|
|