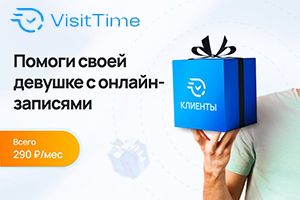Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Разбойники». — Хмелев играет Шпигельберга. — «Гроза». — Моя сумасшедшая барыня.
|
|
Вскоре после премьеры «Сказки об Иване-дураке» Художественный театр во главе со Станиславским уехал на гастроли за границу.
Немирович-Данченко, остававшийся в Москве, был целиком занят своим Музыкальным театром и планом реорганизации МХАТ. В студии он бывал редко — только к выпуску спектакля. На целых два года Вторая студия была предоставлена сама себе. Руководящая пятерка — Б. Вершилов, И. Судаков, Е. Калужский, Н. Баталов, В. Вербицкий, такие же молодые, как остальные студийцы, — отлично понимала, какую {162} ответственность возлагает все это на них. Впервые без зоркого глаза стариков студийцы должны были доказать свое право на жизнь, право называться студией МХАТ.
Необходимость нового репертуара стала настоятельной. Одновременно шла работа над двумя спектаклями: «Разбойниками» Шиллера и «Грозой» Островского. И тот и другой рассматривались студийцами как их манифест в искусстве. Манифесты в то время вообще были очень модны. И Вторая студия, разумеется, не могла обойтись без своего. Во всяком случае, эти новые спектакли воспринимались студийцами как начало какого-то нового пути. Все, что студия делала раньше, рассматривалось лишь как необходимый этап, подводивший к чему-то самому главному.
Первой такой премьерой-манифестом были шиллеровские «Разбойники». Работу над этим спектаклем в свое время начал еще Л. Леонидов, потом в спектакль вошел А. Вишневский, но тоже быстро оставил его. И наконец постановку взял в свои руки Б. Вершилов, вместе с переводчиком П. Антокольским решивший увести ее как можно дальше и от шиллеровского текста, и от эпохи, и от всего привычного, что связывалось в сознании зрителя с знаменитой трагедией. В день премьеры все невероятно волновались, особенно когда Б. Вершилов изложил представителям печати новое кредо студии, выдержанное в весьма самоуверенном тоне.
— Немирович-Данченко, — говорил Вершилов, — и в печати, и в беседах с сотрудниками неоднократно заявлял о пересмотре традиций и путей МХТ. Впрочем, и без директив и давления сверху, которого, в сущности, и не было, мы сами поняли, что давно уже пропел в третий раз петух и нам пора оторваться от «Младости», «Зеленого кольца» и «Узора из роз». Мы на переломе. Если нас спросят, кто вы, — я отвечу: мы — «Разбойники», мы — «Гроза», мы — «Невидимка», мы — наше будущее!
Время показало, что считать «Разбойников» будущим Второй студии можно было весьма условно. Но от «Младости» и «Зеленого кольца» этот спектакль действительно отрывал ее начисто, выводя на овеянный всеми ветрами простор исканий.
Зритель, привыкший к камерным, «молодо-старомодным» спектаклям Второй студии, на «Разбойниках» терялся. Вместо привычных, «как в жизни», декораций — какие-то кубы, лестницы, обнаженные конструкции. Вместо реальных гримов — неестественно деформированные лица, подчеркнуто экспрессивные, острые, резкие. Вместо знакомой шиллеровской прозы — белый стих. Злой гений Карла — Шпигельберг, которого играл Хмелев, призывал восстановить иудейское царство, перед которым померкнут Спарта и Рим, и монолог его звучал так:
Выстроим в Иерусалиме театры;
Цирки, музеи, метрополитены…
{163} Тракторы пустим, турок прогоним,
Электризацию полную от Назарета
До Трапезунда. Рекламы, газеты,
Черную биржу…[33]
В отличие от шиллеровской трагедии, спектакль заканчивался не смертью Карла, а эпилогом, в котором воскресший Карл Моор обращался с призывными, стихотворными воззваниями-монологами.
И это на сцене театра, недавно твердо заявлявшего себя верным сторонником мхатовских традиций! Было от чего растеряться…
Впрочем, демонстративная новизна спектакля оказалась только внешней. Приверженцы левого искусства, несмотря на кубы, конструкции и переделку текста, так и не признали его своим. Слишком глубоко были восприняты студийцами уроки Станиславского, Лужского, Мчеделова, чтобы все эти атрибуты левизны могли стать для студии естественными. Вероятно, прав был один из критиков, писавший о спектакле, что элементы конструктивизма воспринимаются в «Разбойниках» настолько чужеродными, что лучше бы их вообще не было.
Сила спектакля оказалась совсем в другом. Была в нем та звенящая нота высокой романтики, которую так требовало время. Не знаю, откуда она пришла в спектакль, — от Шиллера, от времени или от той душевной приподнятости, которая жила Во всех молодых актерах. Исполнение многих ролей было овеяно дыханием настоящего большого искусства. Именно после «Разбойников» пресса заговорила о Баталове, Хмелеве, Азарине, Прудкине.
Я играла в спектакле почти безмолвную роль карлика — слуги Франца. Искать эту роль в трагедии Шиллера бессмысленно — ее там нет, я выдумала ее сама, умолив режиссера сделать одного из слуг Франца карликом. Вершилов удивился, поколебался некоторое время, потом спросил, не будет ли заметно, что играет женщина. Я, одержимая уже существующим в моей фантазии образом мрачного, зловещего уродца, как бы освещенного отблеском злодейства своего хозяина, заверила его, что видно ничего не будет. И действительно, придумала, как это сделать.
Я долго и упрямо работала над внешним обликом карлика. Привязала колени к шее, от чего руки получались длинными, уродливыми, походка странной и неестественной. Карлик двигался прыжками, как какой-то фантастический зверек. Двигаться по бесконечным лестницам с коленями, привязанными к шее, было очень трудно, и я целыми днями тренировалась, приучая себя к тому стремительному, нервному, взвинченному ритму, в котором шел спектакль. Много трудов стоил {164} мне грим моего уродца. Грим в студии преподавал Хмелев, он же помогал находить гримы всем участникам «Разбойников», в том числе и мне. Мы с ним решили, что в самом облике карлика должно быть что-то инфернальное, говорящее о трагической атмосфере замка графов Моор.
Гримам, которые делал Хмелев и себе и другим актерам, предшествовало множество зарисовок. Как жаль, что он чаще всего уничтожал их! Вначале он, вероятно, стеснялся «копить» зарисовки, потом у него возникло ощущение, что сохранение их тормозят его фантазию. «Я все запомнил», — говорил он, когда кто-нибудь останавливал всем памятное движение, которым он резко уничтожал клочок бумаги или коробку из-под папирос, на которых рисовал гримы.
В своих воспоминаниях о Н. П. Хмелеве милейший Всеволод Алексеевич Вербицкий (актер, друг всей студийной молодежи, до слияния с МХАТ директор Второй студии) писал:
«Будучи школьником Второй студии, Николай Павлович в свободные свои вечера часто бывал за кулисами Художественного театра. Приходил он с альбомом для рисования под мышкой и с множеством карандашей, торчащих из нагрудных карманов его неизменной толстовки. Он неплохо рисовал, и многие из моих сверстников и старшие товарищи по МХАТ, наверное, помнят его в ту пору усердно зарисовывающим портреты актеров»[34].
Вербицкий был одним из немногих людей, которым Хмелев подарил свою работу. По-видимому, он считал, что она ему удалась. Он нарисовал Вербицкого в роли Елецкого из тургеневского «Нахлебника». На рисунке интересная надпись: «Дорогому Всеволоду Алексеевичу Вербицкому на память от Н. Хмелева. Искренне уважающий и любящий вас, благодарный “тип” И. Хмелев»[35]
«Типом» прозвал Хмелева Леонидов. Работая с ним над одним из первых его отрывков (Снегирев — «Братья Карамазовы»), вконец измученный его настойчивостью, Леонидов сказал: «Знаете, молодой человек, вы сами “тип”. Вас самого играть надо». Вместе с тем даже тот же Вербицкий относился к Хмелеву с симпатией, но без серьезной веры в его актерские возможности.
«Курьезно, что в одном из моих стихотворений, которыми я грешил с давних пор, обращенном к юному Хмелеву, я писал:
Милый мальчик! Милый Коля!
Вы счастливее меня,
Живописца лучше доля,
Чем такая, как моя…»[36]
{165} Роли Шпигельберга и Огня в «Синей птице», сыгранные в следующем сезоне, развеяли эту легенду, рожденную симпатией к «странному» мальчику, резко изменили всеобщее к нему отношение. В Художественном театре появился еще один большой актер, это становилось все более ясным.
Роль Шпигельберга — первая большая роль, которую довелось сыграть Хмелеву. Грим для нее он придумал, как нам тогда казалось, исключительно интересный: неестественно огромная, странно деформированная голова, громадный нос, сардонически зловещий изгиб язвительного рта. Этот фантастический грим был до последней черточки оправдан всем характером пламенного властолюбца и неудачника. Казалось, вместе с лицом Хмелев сделал себе новую душу, новый ход мыслей.
«Зерно» созданного им образа было в чудовищном, не утоленном, денно и нощно сжигающем его честолюбии. Он был одержим фантастической манией величия, убежден в том, что он — сверхчеловек, а все остальные — орудия, данные ему богом для осуществления его грандиозных замыслов. Из спутника Моора Шпигельберг в исполнении Хмелева превращался в центральный образ спектакля. В нем жил политический деятель огромных масштабов, диктатор и авантюрист, готовый ради достижения своей цели затопить мир кровью. Нас, игравших рядом с Хмелевым, потрясала абсолютная убежденность, которой веяло от каждого произносимого им слова. Было непостижимо, как совсем юный актер, почти мальчик, выросший в рабочем пригороде, застенчивый и нелюдимый, делал абсолютно своим, пережитым до мельчайших деталей сложнейший внутренний мир Шпигельберга. Как достигал он такой всепоглощающей веры в собственную избранность, исключительность, в то, что именно ему высшей силой предначертано вести за собой толпу в неведомое царство?
Он нервно ходил по сцене, развивал перед разбойниками свои грандиозные планы, осушал бокал за бокалом. Резкий, угловатый, опьяненный не столько вином, сколько своими честолюбивыми замыслами, он властно захватывал внимание разбойников. Станиславский говорил, что для осуществления сценической задачи актеру нужна бульдожья хватка. Я поняла, что это означает, наблюдая за тем, как Хмелев работал над ролью Шпигельберга. Здесь нашла выражение сильнейшая черта его таланта — огромная актерская воля. Даже физические недостатки Хмелева, доставлявшие ему немало страданий и забот, подчинялись ему в этом спектакле, становились неповторимой особенностью, без которой уже нельзя было представить созданный им образ. У Хмелева был скрипучий голос. В то время он еще не умел придавать ему чистоту и богатство оттенков, но в роли Шпигельберга этот режущий слух голос обретал огромную выразительность. В нем была вся душевная дисгармония человека. Хмелев поразил всех нас необыкновенной {166} лепкой фразы, и, кажется, именно после «Разбойников» стали говорить, что он ввинчивает фразу в зал.
Он буквально гипнотизировал зал силой своей сосредоточенности. Дело доходило до анекдотов. Однажды на спектакле во время действия у Хмелева отвалился огромный наклеенный нос. В пылу монолога, ни на секунду не выходя из образа, он, не задумываясь, резко оторвал его, отшвырнул в сторону и продолжал говорить. И такова была гипнотическая сила его исполнения, что зрители даже не заметили происшествия.
В театре авторитет Хмелева после «Разбойников» поднялся очень высоко. Он сразу получил ряд ролей — Огня в «Синей птице», Коростылева в «На дне», Василия Шуйского в «Царе Федоре». Но для самого Хмелева роль Шпигельберга был, а важна не только потому, что сразу выдвинула его в ряд ведущих актеров. В этой роли он нащупал и раскрыл важные свойства своей индивидуальности — волю, властность, острую мысль. Осознав эти свои возможности, он обрел то состояние постоянного творческого горения, в котором пребывал на сцене МХАТ двадцать с лишним лет. Не случайно говорили, что роль Огня в «Синей птице» стала трагическим символом его жизни.
Вот несколько строк из воспоминаний о Хмелеве В. Я. Виленкина: «… Как сейчас видишь перед собой его Огонь в сказке Метерлинка, — образ, кажущийся теперь символическим для начинающего Хмелева. Когда во время превращений он возникал из печи, в бешеном ритме освобождения из плена, в неуловимом мелькании острых багровых языков развевающегося плаща, можно было поверить, что на сцену ворвалась стихия. Опаляющими и опасными казались его прикосновения…»[37]. Это было именно так.
Второй значительной удачей «Разбойников» был Н. Баталов — Франц Моор. Может показаться странным, что именно Баталову, с его заразительным обаянием и жизнерадостностью, актеру, русскому до мозга костей, поручили роль зловещего ханжи. Но ему очень хотелось играть эту роль — его интересовала философия злодейства. Наблюдая процесс работы, я видела, что Баталов жестоко мучился над ролью, боялся быть «русопятым», трудно и мучительно искал пути перевоплощения. Он настойчиво подбирался к душе Франца Моора, постигая такой далекий от его собственного характера внутренний склад человека.
Всегда необыкновенно искренний, Баталов и в этой роли, казалось, проходил все ступени горьких страданий. Всем существом недавнего богопротивника, высокомерно отрицавшего веру в доброе и светлое человеческое начало, окунался он в ужас содеянного. Но осуждая себя, обуреваемый страхом перед неумолимо надвигавшейся расплатой, он {167} ни на минуту не позволял думать, что станет другим. Полный бессильного и злого страха, загипнотизированный ужасом перед близким возмездием, он упорно не смирялся.
Сейчас, перечитывая «Разбойников», я не перестаю удивляться сложности философского содержания, которое вложил Баталов в образ канонического злодея. В его исполнении характер претерпевал изменения поистине шекспировские, в отдельные моменты поднимаясь до высот Макбета.
Я еще вернусь к рассказу о Баталове — Франц Моор вовсе не исчерпывал его творческих возможностей.
Очень мне нравился в роли патера А. Азарин. Он выходил на сцену весь в наклейках, с огромными матерчатыми ушами и крохотными свинячьими глазками. Но сила его убежденности была так велика, что все эти наклейки казались не только оправданными, но и совершенно необходимыми.
Немирович-Данченко решительно не принял «Разбойников». В письме к Станиславскому (март 1923 года) он писал: «… Вторая студия сдала “Разбойников”. Самостоятельно. Меня повели на общую генеральную репетицию, уже поставив на афишу. Я не скрыл, что мне спектакль не нравится решительно… Спектакль какой-то неприятный. Нарочитая левизна, внешняя, вздорная, дешевая: то есть конструктивизм, чудища вместо людей и пр. … Актеры по-актерски недурны… А внешность неприятная…»[38].
В «Грозе», выпущенной вскоре после «Разбойников», тоже довольно ощутимо давало о себе знать общее увлечение левым искусством. Вообще работа над спектаклем (ставил его И. Судаков) шла очень трудно. Кажется, кроме Судакова, по-настоящему верил в будущий спектакль только один Немирович-Данченко. Остальные относились к пьесе весьма прохладно, считали ее несовременной и ненужной студии. В протоколе художественного совета Второй студии, на котором решалась судьба спектакля, записано, что ввиду «несовременности пьесы, неувлечения ею актеров, кроме Молчановой, а также неудовлетворительности плана постановки, представленного И. Я. Судаковым, пьесу с постановки снять». Протокол второго совещания, которое происходило на следующий день в кабинете Немировича-Данченко, выдержан уже в другом тоне: «Ввиду предложения Вл. И. Немировича-Данченко, считать пьесу не снятой вовсе с репертуара, а отложенной на неопределенное время». И наконец третий протокол гласит, что Судаков заявляет о своей готовности работать над пьесой в порядке частной инициативы и о согласии на это художественного совета студии[39].
{168} Если «Гроза» вообще увидела во Второй студии свет рампы, то только благодаря воле, энергии и настойчивости Судакова, влюбленного в пьесу. Он хотел раскрыть в ней то, что остается вечным, нетленным, независящим от времени, — горячую веру автора пьесы в прекрасное. Этой идее Судаков подчинял весь замысел спектакля, его музыкальное и декорационное оформление. Многое в этом замысле сейчас кажется наивным. Катерину Судаков представлял себе сошедшей с картины Нестерова — чистой, неземной, с золотыми волосами. Каждому ее выходу предшествовала музыка, написанная композитором Оранским.
Работа над спектаклем стоила Судакову огромных трудов. Но спектакль получился лишь в отдельных деталях. Стилистически это была чудовищная мешанина. На фоне абстрактных кубов появлялась нестеровская Катерина — Молчанова со светлым и прекрасным лицом мученицы. Рядом с ней особенно земными и плотскими казались Кудряш — Станицын и Варвара — Пузырева. Сами по себе яркие, сочные, они пришли в «Грозу» словно из другого спектакля. Полностью нес поэтическую тему, ради которой и ставился спектакль, только Кулигин — Азарин. Его светлая вера в будущее освещала весь спектакль, и Островский, нечего греха таить, представлявшийся нам в то время бытовым и старомодным, вдруг обретал высокую поэтическую интонацию, становился живым и современным. Роль Феклуши блестяще сыграла А. Зуева.
До «Грозы» Зуева уже сыграла ряд ролей, и каждый раз в ней открывалось что-то новое и неожиданное.
Помню ее в роли десятилетнего мальчика Васьки в «Младости». Эту серьезность, целеустремленность трудно забыть. Отец Васьки хочет выпить стакан чаю «со свежим воздухом» у только что открывшегося окна. Для Васьки принять участие в этом чаепитии становится делом жизненной необходимости: «Мамочка, ну Христа ради, дай и мне стаканчик чайку сюда, я с папой. Мамочка, если ты не дашь!» — страстно умоляла Зуева, так страстно и упорно, как если бы от этого зависела жизнь Васьки. Но как только Васька выпил свой чай «со свежим воздухом», перед ним тут же возникли какие-то новые, совершенно безотлагательные задачи. «Папа, а тебе не скучно будет, если я пойду?» И пока отец медлит с ответом, Васька — Зуева дрожит от нетерпения, ноги его уже сами куда-то бегут.
Васька возвращается из церкви после пасхальной службы с зажженной свечкой. «Папа! — с внутренним ликованием и с поразительной серьезностью говорил этот Васька: — Донес! Первый!.. Мне ребята фонарь разорвали, а я бумажку сделал. Донес! Только дорогой два раза от старушки зажигал. Смотри!..»
Помню Зуеву и в почти безмолвной роли страшной старухи — содержательницы притона г‑ жи Фриче из «Приключения лейтенанта {169} Ергунова»[40]. Тяжелый взгляд, «неслышная» походка, руки преступницы. Немецкий акцент — абсолютно органичный. Казалось невероятным, что на сцене та самая Настя Зуева, которая широко и певуче будет рассказывать в «Грозе»: «В одной земле сидит на троне Салтан Махнут турецкий, а в другой — салтан Махнут персидский… и, что ни судят они, все неправильно…». Казалось непонятным, откуда в этом молодом существе такая бездна красок, такая достоверность, яркость разнообразных человеческих черт. Когда в «Грозе» она неторопливо вела свой рассказ, казалось, что ее Феклуша так и ходит из дома в дом, поест, попьет, уйдет и вновь придет, когда найдет это нужным, когда ей это будет по дороге…
У меня отношение к «Грозе» было особое. Я любила этот спектакль, потому что играла в нем роль, которая и до сих пор кажется мне замечательной. С благодарностью вспоминаю, что Судаков поверил в меня, совсем молодую актрису, и сначала назначил во второй состав, работал со мной в нерепетиционное время, а потом ввел в спектакль. Он обнаружил в этой работе и доброту, и терпение, и широту взгляда режиссера — моя трактовка сумасшедшей барыни была совсем иной, чем у основной исполнительницы.
Мне не давало покоя одно из воспоминаний детства. Как-то возвращаясь из-за границы с родителями, мы переезжали реку. Поезд въехал на паром, и мы, как и большинство пассажиров, вышли на паром, чтобы подышать воздухом. В это время я увидела, как из одного вагона вырвалась страшная взлохмаченная старуха. Какие-то люди ловили ее, стараясь втащить обратно в вагон, она вырывалась, бросалась ко всем за помощью, а все в ужасе убегали. Она выкрикивала какие-то проклятья. Как выяснилось, это была психически больная, которую перевозили из одной больницы в другую. Сопровождавшие чуть не упустили ее, она рвалась к воде, но хотела, чтобы кто-то бросился вместе с ней.
Случай этот тогда произвел на меня очень сильное впечатление. Читая первый раз в жизни «Грозу», я представила себе сумасшедшую барыню в облике этой старухи, одержимой страхом и ненавистью.
Когда я получила эту роль, у меня опять всплыло, правда, уже туманное, воспоминание детства: «лиловая старуха» — она была одета в ярко-лиловое шелковое шуршащее платье. Помнила я и ее лицо, искаженное одновременно и страхом и злой силой, готовой уничтожить, испепелить, истребить все вокруг. На одной из репетиций я рассказала Судакову о «лиловой старухе». «Покажите мне ее», — сказал он. Я показала. Конечно, не ее, а уже сплав своих детских воспоминаний и того, что смутно ощущала в роли. «Все ясно, — энергично и весело {170} сказал Илья Яковлевич, — ты (с тех пор он стал меня называть на “ты”) брала до сих пор только одну сторону монеты — проклинать, накликать на Катерину и всех окружающих зло, грозить им геенной огненной. А сейчас показала мне страх за себя, который гонит тебя, не дает тебе покоя. Ты хочешь снять его с себя, переложить на других. С ними, с ними должно случиться то, чего я боюсь, а не со мной!»
По внешнему рисунку эта роль была данью той же гиперболической экспрессии, которая увлекала тогда всех нас. Грим делал Хмелев. Он перебрал множество вариантов, не ленился ходить по многу раз в зрительный зал, проверяя, не мешают ли наклейки ясной дикции. Мы встречались с ним во время обеденного перерыва, после спектаклей. «Я угадываю? Я угадываю?» — спрашивал он, заставляя проигрывать ему роль, и тут же делал мне великолепные замечания. «Только не говорите Илюше (Судакову), что это я вам подсказал. Дайте слово, что не скажете, а то я не буду вас гримировать».
Незадолго до возвращения Художественного театра из Америки во Второй студии был поставлен спектакль, вновь завоевавший студийцам симпатии публики, — «Елизавета Петровна» Д. П. Смолина. Начинал постановку В. Л. Мчеделов в содружестве с. Л. В. Баратовым, но после смерти Мчеделова Баратов выпускал ее самостоятельно. Сейчас я, конечно, острее, чем в годы юности, ощущаю бедность драматургического материала. Но было в этой последней самостоятельной работе студии особенное обаяние. Чувство, испытываемое актерами в этом спектакле, можно сравнить с тем, которое испытывает птица, вдруг понявшая, что крылья держат ее в воздухе. В «Елизавете Петровне» ощущение незрелости, ученичества, то и дело дававшее себя знать раньше, уступило место чему-то новому. Студийцы почувствовали себя настоящими актерами. В первую очередь это касалось Н. Хмелева — Ушакова и В. Соколовой — Елизаветы.
Образ Ушакова, «придворного палача в перчатках», как называл его молодой М. А. Булгаков, был значительным созданием Хмелева. Его скупые изящные жесты, от которых мороз проходил по коже, запоминались всем, кто видел спектакль. Если, играя Шпигельберга, Хмелев искал грим, «какого не было на свете», то здесь, в роли Ушакова, он шел от старинного портрета — за галантным обликом блистательного вельможи и элегантного вольнодумца ощущался неутоленный и страстный честолюбец. На изящном придворном камзоле, казалось, лежали кровавые отблески факелов, освещавших ночные бдения в подвалах Тайной канцелярии. Узкое бледное лицо аскета, горящие глаза и контрастировавший с ними елейный голос — все было точно, реально и страшно. Уж он-то знает, что мгновенно превращаются в комок дрожащей плоти все эти герои и вершители судеб России, стоит лишь палачу сорвать с них придворный наряд, пригрозить кнутом или дыбой. Целая эпоха, {171} в которой причудливым образом смешались европейский лоск и исступленная азиатская жестокость, просвещенность и юродство, элегантный скепсис и острое наслаждение властью над душой и телом человеческим, раскрывалась в этом образе.
Кроме Соколовой и Хмелева пресса заговорила о Пузыревой — Анне Иоанновне, Кедрове — Меншикове, Телешевой — Екатерине, Станицыне — Разумовском, Вербицком — Бироне. У меня в памяти осталось еще много маленьких эпизодов, которые были блестяще сыграны совсем юными актерами: Яншин — пономарь, Петрова — Разумиха, Молчанова — безумный мальчик Иоанн Антонович, Комиссаров — юный Петр II, Андровская — Екатерина II, Раевский — Петр III.
«Елизавета Петровна» была единственным молодежным спектаклем, который старики МХАТ после возвращения из-за границы сочли достойным включить в репертуар театра. Он шел долго, уже после слияния студии с театром, пользуясь большим успехом. Поздравляя молодежь с сотым представлением «Елизаветы Петровны», К. С. Станиславский писал: «Это ваша победа. Эту пьесу вы сами вырастили, вынесли на свет и донесли с любовью и заботой до сегодняшнего дня. Это чрезвычайно радостно, потому что намекает на живущую в вас инициативу. Пускай же она почаще просыпается именно теперь, пока живы “старики” и могут на деле направлять и передавать вам свои нажитые опытом традиции»[41].
|
|