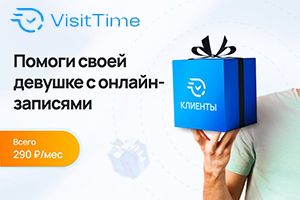Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Новая студия. — Андрей Белый. — Пластический язык букв. — «Мячи». — Теория имитации. — Последняя встреча.
|
|
Я уже обмолвилась, что во время работы над Гамлетом встречалась с Чеховым уже в его новой студии.
На занятиях этой, студии бывали интересные люди. Участие Андрея Белого привлекало сюда и поэтов. Дружба Белого с Чеховым возникла после «Ревизора». Андрей Белый был покорен чеховским Хлестаковым. Он страстно любил Гоголя и восторженно принял «живого Хлестакова» — Чехова. После первой же встречи Михаил Александрович увлекся интересной, своеобразной, талантливой личностью А. Белого. Помню его рассказ о том, как поражают огромные, удивленные, будто бы вобравшие в себя непосильно многое, глаза Белого, его странные, широкие движения рук и т. п. Чехов уговорил его прийти на занятия, прочитать несколько лекций о поэтике. Белый был далек от театра, но сразу согласился, может быть, почувствовав в Чехове человека, мятущегося и потому близкого ему.
После нескольких бесед, которые протекали в атмосфере крайней накаленности, — поэзия, разные поэтические направления живо интересовали всех участников, — Белый стал бывать в студии очень часто. Часто он читал нам свои стихи. Я увидела, насколько точно Чехов, рассказывая о Белом, сумел передать внутренний ритм человека, готового будто отделиться от земли, куда-то улететь и вместе с тем понимающего бессилие этих попыток. Было в нем что-то и трагическое, и смешное одновременно. «Читает он, будто Сивилла вещающая и, читая, руками машет, подчеркивая ритм не стихов, но своих тайных помыслов, — пишет о А. Белом И. Эренбург. — Это почти что смешно, и порой Белый кажется великолепным клоуном. Но когда он рядом, — тревога и томление, ощущение какого-то стихийного неблагополучия овладевают всеми»[20].
Рыдай, буревая стихия,
В столбах громового огня!
Россия, Россия, Россия, —
Безумствуй, сжигая меня…
читал Белый, как бы тяготясь законом притяжения земли, а в словах:
Россия, Россия, Россия —
Мессия грядущего дня!
звучала глубокая, неистовая привязанность поэта к родине.
{125} И. Эренбург сказал о Белом, что он «пророк, не способный высечь на скрижалях письмена». Эренбург прав. Прав он и в том, что «Белый выше и значительнее своих книг». Действительно, талантливая, противоречивая фигура Белого, влюбленного и в Гоголя, и в Маяковского, каменщика, работающего на постройке антропософского храма в Швейцарии, Белого, мечтавшего о грядущей революции и всем сердцем принявшего «пролеткульт», была одной из тех трагических фигур русской интеллигенции, которые умерли, не успев понять, что революция, о которой они мечтали, уже совершилась. Блуждая в сложных философских умозаключениях, пытаясь стать «челом века», он не увидел живой, реальной действительности, и это стало его трагедией.
Однажды мне нужно было сговориться с ним о намеченной лекции. Он жил тогда недалеко от Москвы, на станции Кучино. Была снежная зима. Подхожу к калитке. На дорожке, ведущей от калитки к даче, стоят Борис Николаевич (А. Белый) и дворник. У дворника метла в руках. Борис Николаевич крепло держит дворника за пуговицу пальто и что-то горячо доказывает ему. На Белом шапка и короткая драповая куртка, из-под которой виден длинный теплый халат. Все это густо заснежено. Разговор, по-видимому, шел уже давно. Старик дворник был откровенно рад моему приходу. Здороваясь со мной, Борис Николаевич вынужден был отпустить его, дворник воспользовался секундной паузой и молниеносно исчез.
— Представьте себе, — сказал мне Белый, удивленно ища глазами старика, — Степан Михайлович — милейший человек, но он никак не может уразуметь разницу точки зрения на мир Платона и Аристотеля!
— Может быть, это ему неинтересно? — спросила я.
— Этого не может быть! — категорически ответил Белый.
Однажды Борис Николаевич тяжело пострадал из-за своего абстрагированного мышления. Где-то на Кавказе он увидел медвежонка и, преисполненный нежности к нему, кинулся его гладить. Этот порыв обошелся ему дорого. С тяжелым костным переломом он долго пролежал в больнице. Рассказывая впоследствии о случившемся, он растерянно и недоуменно говорил:
— Вы представляете себе, мишка такой милый, такой апатичный, такой вялый, мне захотелось его приласкать, и вдруг!.. — и горестно разводил руками.
Помню Белого на следующий день после смерти Маяковского. Мы встретились в одном из арбатских переулков. Борис Николаевич был подавлен и растерян.
— Мне сегодня приснился страшный сон, — сказал он. — Будто с каких-то громадных гор летит, перелетая пропасти, грузовик, и страшный гудок гудит голосом Маяковского: «Пустите меня, я — Маяковский, пустите меня»…
{126} Белый представляется мне человеком, который не в силах справиться с богатством собственных ощущений, и страдает от невозможности выразить то, что он чувствует. Абстрагированность мысли, сложные, рациональные ее формы создавали вокруг него некую туманную среду, сквозь которую он никак не мог прорваться к живой жизни. Вместе с тем его индивидуальность была заразительна, притягивала своей внутренней напряженностью и загадочностью.
Возможно, под влиянием Белого ритм стал одной из основных проблем, которые разрабатывались под руководством Чехова и Белого в новой студии.
Чехов писал о работе над «Петербургом» А. Белого: «Я и все мы, участники этого спектакля, искали подхода к ритмам и метрам в связи с движениями и словом»[21]. Начало этих поисков можно отнести к работе над «Гамлетом», когда впервые Чехов и Белый объединились для экспериментирования.
Прошло много лет — я не берусь точно описывать эти занятия. Помню только, что иногда мы делали упражнения под музыку, а иногда один читал текст, а остальные сопровождали чтение разнообразными движениями.
Потом мы изучали «пластическое» выражение каждой буквы, гласные и согласные имели свой определенный рисунок движения. Впоследствии я узнала, что эти движения были заимствованы из учения Р. Штейнера о так называемой эвритмии, учения, носящего антропософский, мистический характер. Чехов, вероятно, знал об этом от Белого, но нам ничего не говорил.
Мы учились «грамматике» жеста, переходя от буквы к слогу, к фразе, к предложению. Натренировавшись, мы делали достаточно трудные упражнения. «Читали» жестами Пушкина, сонеты Шекспира, хоры из «Фауста», а однажды самостоятельно приготовили стихи Маяковского, которого А. Белый очень любил.
Чехов, конечно, был впереди всех и владел «пластическим» языком букв в совершенстве. Иногда он предлагал читать медленно любой незнакомый ему текст и почти синхронно двигался, раскрывая жестами буквы слов. Он был в этих движениях не только текстуально точен, но умел передать общий характер, атмосферу произведения, ее психологическую окраску. Это было очень красиво и выразительно.
Можно ли было назвать это абстрактными движениями? Думаю, нет. Содержание, смысл произведения доходили через произносимый текст, а движения были своеобразным ритмическим аккомпанементом, каким-то желанием добавить к звуку слова эмоционально-пластическое отношение к нему.
{127} Одно из новых упражнений называлось «мячи». Чехов перенес его в работу над Гамлетом. Об этих «мячах» много спорили — считалось, что в них выразились мистические настроения Чехова. В МХАТ поговаривали о назревавшем конфликте между группой А. Дикого и М. Чеховым. Рассказывали, что в одном из фойе театра репетировалась — громко, сочно, жизнерадостно — «Блоха» Лескова, а в соседней комнате царила полная тишина — там готовился «Гамлет». Голосов не было слышно. «Бросают друг другу мячи и молчат», — рассказывали актеры. Эти слухи вызывали нездоровый интерес в театральных кругах и создавали напряженную атмосферу вокруг Чехова.
Упражнение же само по себе было, по-моему, очень интересным, не содержало в себе ничего мистического и служило одним из выражений требования Станиславского: не произносить авторских слов до тех пор, пока не возникнет внутреннее к ним побуждение. Но Чехов, как всегда, искал свой путь для реализации закона, принятого от Станиславского.
Он решил перенести опыт ритмических упражнений непосредственно в процесс репетиций. Первыми подопытными кроликами были мы. Он разобрал с нами отрывок из «Двенадцатой ночи». Каждый должен был определить характер своих взаимоотношений с партнерами и свои задачи. После этого он попросил нас принести на урок мячи. Чехов читал нам вслух текст, а мы, не произнося слов, только внимательно вслушиваясь в смысл текста, вызывали в себе те внутренние волевые побуждения, которые заставляли нас бросать партнеру мяч. А Чехов следил, чтобы мы вкладывали в свои движения то содержание, которое диктует автор.
Как только мы в какой-то степени разобрались в этом упражнении, он передал чтение пьесы одному из участников, а сам стал действовать от лица Мальволио.
Он проиграл нам сцену, когда Мальволио после получения написанного Марией письма встречается с Оливией. К тому времени он уже сыграл эту роль в театре и теперь с легкостью вызывал в себе «зерно», физическое самочувствие и т. п.
Это было похоже на великолепное немое кино, в котором не было ни одного иллюстративного, объясняющего жеста. Чехов был переполнен достоинством, — достоинством ничтожества, претендующего на высочайшее признание. Вместе с тем он был счастлив так, что ему еле‑ еле удавалось скрыть дрожь. Он соблазнял Оливию улыбкой и зовущими глазами. Самому себе он казался прекрасным. В поворотах головы, в движениях ног, на которых Оливия должна была увидеть крест-накрест завязанные подвязки, пела, кричала торжествующая самовлюбленность. Слова его роли и роли Оливии медленно и спокойно читал кто-то из студийцев. (В этом чтении не было никакой игры.) А в это время сам он, не шевеля губами, не изображая ничего мимически, переводил все {128} во внутренний монолог, живя мыслями и чувствами Мальволио. В руках у него был мяч, и он бросал его Оливии, вкладывая в движение невероятно глупое, чванливое изящество, кокетство. В самом посыле этого мяча была такая динамика, что казалось, что у него не хватает терпения получить обратно мяч, который принесет ему ответное признание. Для Оливии поведение Мальволио настолько удивительно, что она забрасывает его вопросами о том, не болен ли он, и наконец приходит к убеждению, что он безумен.
Чехов давал своей партнерше, молоденькой студийке, великолепный материал, но та в первую минуту растерялась от блеска чеховской фантазии и стала вслед за читающим пьесу произносить вслух свои реплики. Потом, поняв сущность задания, быстро нашла не только верный, но и разнообразный ритм своих вопросов. Она кидала мяч то настороженно-медленно, то быстро и энергично, то опасливо. Между партнерами возникло безмолвное, но удивительно насыщенное общение. Интересно было то, что при повторении этюда исполнительница роли Оливии с удивлением отметила, что она почти точно запомнила текст этой сцены. Внутреннее движение сцены связывалось для нее с текстом, еще не произнесенным вслух, но уже осознанным.
Эти занятия увлекли нас. Мы брали разнообразные отрывки. Тут были и разные авторы и разные жанры. Брали шекспировские трагедии и комедии, рассказы А. П. Чехова и водевили. Увы, мы ничего не доводили до конца — Чехову было важно ощутить право на постановку нового эксперимента, а доводить его до конца он собирался в работе над Гамлетом с актерами театра.
Впоследствии он писал: «Одним из первых упражнений на репетициях “Гамлета” были мячи. Мы молча перебрасывались мячами, вкладывая при этом в свои движения художественное содержание наших ролей… Мы избавляли себя от мучительной стадии произнесения слов одними губами без всякого внутреннего содержания, что бывает всегда с актерами, начинающими свою работу с преждевременного произнесения слов. Во-вторых, мы учились практически постигать глубокую связь движения со словами, с одной стороны, и с эмоциями, — с другой. Мы постигали закон, который проявляется в том, что актер, многократно проделавший одно и то же волевое и выразительное движение, имеющее определенное отношение к тому или иному месту роли, получает в результате соответствующую эмоцию и внутреннее право на произнесение относящихся сюда слов»[22].
Если сравнить эти слова с высказываниями Станиславского, можно понять, что Чехов тогда искал и думал в том же направлении, в котором искал и Станиславский.
{129} Трагедией его стало не то, что он как актер практически изменил реализму и Станиславскому, — во всех своих ролях, включая последние работы в русском театре, он оставался крупнейшим реалистическим актером. Но, окунувшись в сложность творческого процесса актера, он не смог увидеть там той гармонической силы, которую увидел Станиславский. Основные труды Станиславского были тогда еще не опубликованы, важнейшие открытия сформулированы значительно позднее, а Чехова нестерпимо тянуло заглянуть в тайны творчества и самостоятельно осознать его законы. Именно с этим он не справился.
Столкновения разнообразнейших влияний в разных сферах искусства, богоискательство, декадентщина, страх перед революционными буднями — все это повергало Чехова в смятение и не давало возможности разобраться в окружавшей жизни и законах искусства. Он запутался в терминологии, модной для тех лет, и пытался при помощи этой ложной терминологии решить сложнейшие проблемы театра. Терминология брала над ним верх, он становился ее рабом.
Какие же мысли волновали Чехова? Мне кажется, те же, что волновали и Станиславского, и Немировича-Данченко. Но ответы, выводы, к которым они приходили, разительно отличались друг от друга.
Сложность человеческой личности, глубина духовной жизни человека не пугали Станиславского и Немировича-Данченко, проблема раскрытия «жизни человеческого духа роли» стала путеводной звездой учения Станиславского. Чехов же (как актер, познавший моменты истинного вдохновения) отнесся ко всем этим вопросам как древний человек, который не в силах объяснить силы природы. Он стал придумывать богов.
Станиславский писал: «То, чем я восторгаюсь, называют разными непонятными именами: гением, талантом, вдохновением, подсознанием, интуицией. Но где они находятся — не знаю; чувствую их в других, иногда в себе. Некоторые считают, что это таинственное, чудотворное наитие “свыше”, от Аполлона или от бога. Но я не мистик и не верю этому, хотя в моменты творчества хотел бы этому верить. Это воодушевляет»[23].
Чехов был одержим мыслью «поверить алгеброй гармонию», объяснить то, что казалось необъяснимым, и схватился для этого за достаточно схематические философские формулы. Отталкиваясь от верной мысли, что специфика актерского искусства состоит в том, что материалом, которым пользуется актер, является он сам, Чехов пришел к убеждению, что творческая индивидуальность как бы разъята на два «я», на «два сознания». «Низшее я» постепенно вытесняется «высшим я», и это «высшее я» рождает третье «я», «третье сознание», присущее созданной {130} роли. Он относился к этому определению как к какой-то открывавшейся ему потусторонней тайне, при этом положение о «трех сознаниях» обрастало туманными философскими выводами.
Станиславский утверждал единство человеческой личности, способной на различные психические состояния. Само творчество, по мнению Станиславского, может возникнуть лишь в результате высокой сосредоточенности, при которой силой воображения человек-художник переносится в мир образного мышления. В творческом процессе актера всегда есть элемент раздвоения, но это совсем не означает ни присутствия, ни конфликта «двух сознаний».
Станиславский учит, что в процессе перевоплощения актер никогда не теряет чувства контроля. Оно не только не позволяет ему забыть, что он на сцене, но отмечает все малейшие детали происходящего вокруг. Анализируя творческий процесс, Станиславский говорит о человеко-роли, о постепенном создании нового человека из материала творящего. Станиславский толкает актера к тому, чтобы искать в самом себе творческие силы, которые способны в бесконечных комбинациях создавать галерею разнообразнейших характеров. Неколебимая вера в цельность и богатство человеческой личности заставляла Станиславского все время говорить о «я» человека, художника, которое заключает в себе в потенции будущие сценические создания.
Основа искусства — воображение.
Это утверждал Станиславский, и это стало символом веры Чехова. Но в попытке самостоятельно, теоретически обосновать эту мысль Чехов запутался и попал в лабиринт, выход из которого ему чудился опять-таки в мистических категориях.
Мир театра, мир искусства актера для него — некая субстанция, в ко торой как бы витают образы, которые при терпеливом ожидании художника постепенно становятся зримыми. Имея цель, художник должен ждать, — тогда образ начнет действовать сам. Задача актера в том, чтобы, не навязывая ничего и ничего не выдумывая, он мог подглядеть, каков же тот, кого он должен воплотить. Для этого необходимо развить в себе максимальную объективность — она должна спасти актера от рассудочного вмешательства в свое собственное творчество.
Чехов приходит к тому, что он называл «новой техникой репетиций». Она заключалась в том, что актер сначала строит свой образ исключительно в воображении, а затем старается имитировать его внутренние и внешние качества.
Для имитации нужна, с точки зрения Чехова, утонченная техника как внешняя, так и внутренняя. Если в жизни мы обычно видим только внешнюю сторону поведения человека, то в искусстве надо проникнуть внутрь образа. Для такого угадывания нужно вырабатывать в себе как бы тончайшие щупальца, улавливающие жизнь.
{131} Чехов приходит к убеждению, что человек, актер, не в силах совершить это. Его дело — ждать, задавая один вопрос за другим, пока образ не выступит из необозримого потустороннего пространства и не станет таким очевидным, что актер будет в состоянии его имитировать.
Смысл одного из стихотворений А. К. Толстого близок идеям Чехова:
Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!
Вечно носились они над землей, незримые оку.
Нет, то не Фидий воздвиг олимпийского славного Зевса!..
Нет, то не Гете великого Фауста создал…
Или Бетховен, когда находил он свой марш похоронный.
Брал из себя этот ряд раздирающих сердце аккордов…
Нет, эти звуки рыдали всегда в беспредельном пространстве…
Убежденность в том, что творчество художника иррационально, уводила Чехова все дальше от Станиславского, а Константин Сергеевич в те годы интенсивно разрабатывал свое глубоко материалистическое учение об актерском творчестве.
Один из многочисленных ходов к созданию образа Константин Сергеевич видел в работе над «видениями».
Но если для Чехова образ — «видение» — является чем-то осеняющим актера извне, то Станиславский считал, что «видения» возникают только на основе жизненного и творческого опыта человека.
Мысль Станиславского, что «видения» обладают удивительной силой (они не только не штампуются, но становятся богаче и многообразнее от каждого возврата к ним мысли художника), — эта мысль будто бы очень близка утверждению Чехова, что нужно активно ждать созревания воображаемого образа. А ждать активно означает задавать ему, образу, вопросы. Станиславский тоже говорит о вопросах, которые надо задавать себе — себе в роли: о чем я думал в этом месте роли, какая у меня походка, какие руки, какие глаза, что я люблю в жизни и т. д. и т. д. И он знал, что воображение откликнется.
«Я утверждаю, что непосредственное интуитивное переживание, подсознательно направляемое самой природой, наиболее ценно и не может быть сравнимо ни с каким другим творчеством»[24], — говорил он, веря, что {132} такое творчество возможно только, если человек мобилизует для него все свои творческие силы. Так же как Пушкин, он считал, что вдохновение является результатом груда. А труд актера состоит в том, чтобы вовлечь постепенно всю эмоциональную природу человека в творческий акт.
Чехов говорил: для того чтобы увидеть будущий образ, нужно развить в себе максимальную объективность. Станиславский и Немирович-Данченко призывали к максимальной субъективности, к активному, субъективному отбору видений, к определенному творческому замыслу роли.
Чехов утверждал, что образ, рожденный поэтом, начинает свою самостоятельную жизнь. Он преувеличивал эту самостоятельность, придавая ей особое, мистическое значение, тем самым преуменьшая значение творческого замысла художника.
Абстрагировать образ от себя — значит перерезать кровеносные сосуды, питающие живой плод создания художника. Убеждение Чехова в том, что актер должен сначала полностью создать образ в фантазии, а потом стараться имитировать его внутренние и внешние качества, было недооценкой той реалистической школы, ярким представителем которой был сам Чехов.
Тем не менее в его поисках было много интересного. Например, делая с нами упражнения на имитацию, Чехов обращал внимание на то, что, когда мы мысленно следим за человеком, созданным нашей фантазией, тело без всякого участия нашей воли уже включено в работу.
Мы представляем себе голос образа, и нам уже хочется попробовать тот или иной тембр этого голоса, мы увидели «его» жест, и у нас, хотя мы еще не двигаемся, уже рождается стремление к тому же жесту. Видя «его» походку, мы, сидя на месте, уже приспособляем ноги для аналогичных движений. Чехов подметил здесь неразрывную связь психологического и физического, которая надолго займет внимание Станиславского.
Ошибка Чехова заключалась в самом приеме имитации. Прием этот неизбежно влечет актера к изображению внешних черт. Имитировать можно походку, взгляд, манеру говорить, какие-то отдельные черты, смешные или уродливые, даже «зерно» характера. Но для того чтобы зажить мыслями и чувствами героя, овладеть его характером в целом, чтобы создать «жизнь человеческого духа роли», надо открыть все это в себе.
Имитация всегда предполагает известный рассудочный подход. И как странно, дико, что именно Чехов — актер огромной эмоциональной наполненности, актер-импровизатор — звал к рассудочному, схематичному подходу к роли!
Отдалив от себя образ, он пришел к тому, что переживания сценического {133} героя нереальны — они безличны, очищены от всего эгоистического. Одарив человека двумя сознаниями — низшим и высшим, — он решил, что низшее сознание способно только на эгоистические чувства и не может подняться до мыслей о роли, об образе. Только высшее сознание способно вызвать в душе артиста сострадание, сочувствие к образу, и именно это чувство доходит до зрительного зала как переживание образа.
Чехов уходил от самой сущности природы актерского искусства. Он считал, что образ объективен, независим, и к этому уже созданному в воображении образу актер начинает так или иначе относиться. Он как бы присоединяет к объективно уже существующему образу свое человеческое отношение. Это неверно не только для актерского процесса, но и для любого творческого акта, будь то творчество писателя, художника или поэта. Нельзя что-то создать, а потом полюбить или возненавидеть.
Множество примеров говорит о том, как сливалась душа поэта, писателя с его образами в процессе творческого их создания.
Диккенс рыдал над судьбой своих героев, потому что, создавая их, он жил их жизнью. «Герман сегодня умер», — сказал Чайковский и заплакал. У Флобера была рвота, когда он описывал самоубийство мадам Бовари. Образы родятся живыми и трепетными только тогда, когда их питает горячая любовь художника.
Но если писатель, композитор, художник все же физически «отделяются» от созданных ими образов, то актер уж никак не может отделиться от роли. Он должен преобразовать свою душу и тело так, чтобы цельно и неразделимо слиться с авторским образом, но и этого мало. Он должен на каждом спектакле вновь и вновь физически и психологически возобновлять рожденный образ, наполняя его жизненными силами.
Теория имитации привела Чехова и к другим неверным выводам. Он утверждал, что актер во время игры должен «видеть самого себя так же свободно и объективно, как видит его публика». Он должен как бы со стороны получать впечатление от своей игры. «Истинное творческое состояние, — пишет Чехов, — в том именно и заключается, что актер, испытывая вдохновение, выключает себя самого и предоставляет вдохновению действовать в нем. Его личность отдается во власть вдохновению, и он сам любуется результатом его воздействия на свою личность»[25].
Конечно, в творческом процессе существует самоконтроль, живет некое раздвоение. Но вся прелесть актерского искусства состоит в том, что эти процессы происходят в человеке одновременно и неразделимо. {134} Немирович-Данченко говорил: разница между чувством в жизни и чувством на сцене состоит в том, что в жизни, когда человек переживает горе, он только страдает и плачет, а актер на сцене чем искреннее и глубже переживает горе, тем больше творческой радости испытывает. И эта радость ни в какой мере не снижает активности и страстности его горя.
Самое удивительное заключалось в том, что теоретические положения Чехова были в острейшем конфликте с его исполнительским искусством. Ни утверждаемая им «имитация», ни «закон о трех сознаниях», ни «объективность», ни «наблюдение за собой» в процессе спектакля не могли в те годы помешать Чехову — гениальному актеру.
Он неоднократно говорил, что для драматического актера сложно только то, что трудно сделать физически: трудно сделать сальто-мортале, пройти по канату и т. д. И действительно, он сам способен был внутренне оправдать любое самое сложное задание. Реализм был самой сутью его таланта. Он мог начать с формально продиктованной позы, и через несколько секунд перед нами был живой человек с характером, судьбой и своим внутренним миром. Ему можно было предложить короткую реплику, и он к ней немедленно присочинял человека, невероятно живого и реального.
Не актер Чехов, а Чехов-теоретик отошел от Станиславского, под аплодисменты «поклонников» решив, что он ниспровергатель традиций, открыватель мистических истин сценического искусства.
Но Чехов как личность был настолько заразителен, что он повел за собой театр. Я убеждена, что никого из актеров МХАТ‑ 2 не волновали открытые им теоретические истины, в утверждении их он был одинок, но практика репетиций, во главу которой Чехов ставил «имитацию», не замедлила сказаться. Очень скоро творческий облик театра, руководимого Чеховым, резко изменился. Несмотря на группу исключительно талантливых актеров, за плечами которых был целый список великолепных ролей, МХАТ‑ 2 стал театром, в котором «образочки», внешняя, а не пережитая характерность стали типичной манерой исполнения, а сам Чехов как актер стал в ряде спектаклей выглядеть гастролером…
Мне хочется привести отрывок из его письма из-за границы, где он рассказывает о встрече со Станиславским в Берлине в 1928 году и пишет о своем понимании его системы.
«… Мы сравнивали наши системы, нашли много общего, но и много несовпадений. Различия, по-моему, существенные, но я не очень напирал на них, так как неудобно критиковать труд и смысл всей жизни такого гиганта. Для себя же лично я извлек колоссальную теоретическую пользу и еще большую любовь к своей системе. Замечательно, что если бы Костя мог согласиться на некоторые изменения в своей системе, то мы могли бы работать с ним душа в душу и, наверное, сделали бы вместе {135} больше, чем порознь. Как это, в сущности, обидно. Между прочим, моя система проще и удобнее для актера. При моем методе, напр[имер], актер вполне объективен по отношению к создаваемому им образу с начала работы и до конца ее. У К. С. есть, как мне кажется, много моментов, когда актер принуждается к личным потугам и выдавливанию из себя личных чувств — это трудно, мучительно, некрасиво и неглубоко. Напр[имер], у К. С. нашему созерцанию образа и последующей имитации его соответствует созерцание предлагаемых обстоятельств, но на место образа ставится сам созерцающий, задача которого заключается в том, чтобы ответить на вопрос: “как бы мой герой (а в данную минуту я) поступил в данных предлагаемых обстоятельствах? ”. Этот пункт меняет всю психологию актера и, как мне кажется, невольно заставляет его копаться в своей собственной небогатой душонке. Не богата душонка всякого человека в сравнении с теми образами, которые посылает иногда мир фантастических образов. Я ничего унизительного не хочу сказать по отношению к душе человека вообще, я — только сравнительно. Еще пример: актер по системе К. С. начинает с физической задачи, причем выполняет ее от себя лично: поставить стол, передвинуть стул, зажечь спичку и т. д. — все ради воспламенения чувства правды. Актер моего толка имеет чувство правды заложенным уже в самом образе и слитым с ним. Мой актер может развивать свое чувство правды дома — это его дело, но начинать с этого репетицию нельзя. Почему? Потому что “поставьте стол” — прямой путь к жуткому натуралистическому настроению и к привлечению внимания к своей нетворческой личности…»[26].
Это письмо мне удалось прочитать уже после того, как я написала все, что думала о Чехове-художнике. Оно явилось для меня достаточно горьким подтверждением моих собственных мыслей.
… В последний раз я видела Чехова в Берлине. После тяжелой операции меня послали туда лечиться. Я чувствовала себя плохо, и меня редко выпускали из санатория. И вот однажды на улице я встретила Михаила Александровича. Он окликнул меня: «Я знал, что мы сегодня встретимся». Я не спросила, почему, — ведь никакой вероятности такой встречи не было, но мы привыкли к его странностям и таинственным шуткам.
Мы пошли в зоологический сад и долго сидели там. Смотрели на животных. Он, как когда-то в студии, учил меня. Показывал разные ритмы медведей, орлов, моржей.
Об искусстве он говорил, или дурачась, или очень серьезно. На этот раз он был очень, очень серьезен. Говорил, что ему опять нужна студия, что работа в театре, режиссура и организационные дела мешают ему понять что-то самое существенное в творчестве. Говорил, что, так же {136} как у человека обновляется кожа, в искусстве надо уметь обновлять восприятие чувств. Расспрашивал о Станиславском.
Я видела теперь Константина Сергеевича чаще, чем он. МХАТ‑ 2 стал самостоятельным театром, и Чехов почти не встречался со Станиславским.
Потом мы поехали к нему домой. Он вместе со своей второй женой Ксенией Карловной остановился у ее друзей — у них в Берлине был какой-то маленький магазин. В квартире было все очень чисто, аккуратно — тюлевые занавески, вышитые подушки. Чехов говорил по-немецки ужасно. Он так не подходил к этой квартире, к этой чистоте, к этому немецкому уюту… Но его там очень любили, и это было ему, по-видимому, дорого.
Покатываясь со смеха, он рассказывал, что, когда ему приходится идти в немецкое кафе или ресторан, он предпочитает говорить единственную иностранную фраку, которую знает: «Merci, madame». «Пусть по-французски, и пусть это обращение к даме, но зато я уж точно знаю, как соединить эти буквы!»
Могла ли я тогда думать, что мы больше никогда не встретимся?..
Вторая студия Художественного театра {139} Третья глава 1. Снова поворот судьбы. — Студия Художественного театра. — Суровая школа. — Е. С. Телешева. — Когда импровизация становится искусством? — Добрый домовой МХАТ. 2. «Сказка об Иване-дураке». — Станиславский репетирует массовую сцену. — Я — сын Станиславского. — Первая роль. — Молодой Хмелев. — Москва вокруг нас. — Уроки эксцентрики. 3. «Разбойники». — Хмелев играет Шпигельберга. — «Гроза». — Моя сумасшедшая барыня. 4. В. С. Соколова — очарование женственности. — Н. П. Баталов — современный актер. — Как Баталов меня спас. — «У Баталова роль в пятках видна». 5. Чернорабочий МХАТ. — И. Я. Судаков — актер. — «Мы создали спектакль». — Вклад, не оцененный историей театра. — Вторая студия вливается в Художественный театр. — Вопросительный знак, которого, возможно, и не было.
|
|