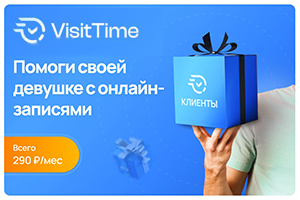Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Вахтангов и Чехов соревнуются. — «Атмосферу надо слушать». — Упражнения под музыку. — М. Чехов — ученик Станиславского. — Станиславский нас учит и дарит нам свои портрет. 2 страница
|
|
Станиславский согласился встречаться с группой, объединявшей четыре студии — Вахтанговскую, «Габиму», Чеховскую и Армянскую.
Самой большой комнатой владела студия «Габима», поэтому занятия решено было проводить там.
К приходу Станиславского все готовились, как к торжественному празднику.
На долю Чеховской студии выпала обязанность достать дрова, нарубить их и истопить камин. Ночью с вокзала мы тащили на себе бревна и потом круглые сутки протапливали холодное помещение. Мечталось, чтобы в этот день все могли сидеть в помещении без шубы. Помню, Чехов был необыкновенно взволнован, — хватит ли на всех стульев. Стульев надо было, и правда, много — больше ста.
Чехов говорил, что к моменту приезда Константина Сергеевича все должны спокойно сидеть на своих местах, а когда он переступит порог, одновременно встать. Тогда Константин Сергеевич: поверит, что его ждет действительно единая, организованная группа.
Но ничего из этого плана не вышло. Всех усадили минут за пятнадцать до приезда Константина Сергеевича, но как только стало известным, что он входит в дом, все повскакали с мест, ринулись вперед, и Константин Сергеевич был встречен такими бурными приветствиями, возгласами и аплодисментами, на какие способны только люди в восемнадцать-девятнадцать лет. Вставали на стулья, на подоконники, кричали, протискивались вперед.
Станиславский стоял довольный, веселый и зорко вглядывался в лица. «Вахтанговец? Чеховец? Габимовец?..» — спрашивал он, здороваясь за руку со всеми подряд. Всем хотелось ощутить на себе пожатие руки Станиславского, и кольцо вокруг него становилось все теснее. Он никак не мог переступить порог комнаты. Казалось, что порядка в этот птичий переполох внести невозможно. И вдруг Станиславский сказал довольно громко:
{82} — Вообразите, что сейчас бал в мою честь. Я открываю его и приглашаю вас (он обратился к одной из стоявших рядом девушек) на первый вальс. Молодые люди, следуйте моему примеру! — он сделал широкий, обводящий всех жест. — Есть кто-нибудь, играющий на рояле?
Кто-то молниеносно пробрался к пианино, стулья отодвинули к стенке, раздался вальс, и Константин Сергеевич, а за ним все сто человек закружились по комнате.
Сделав несколько туров, Станиславский остановился, сел в приготовленное ему кресло, а мы продолжали танцевать, слушая его команду, менявшую темп вальса.
— А теперь, — сказал он, прервав хлопком музыку, — каждый молодой человек посадите свою даму, поклонитесь ей и вернитесь на свое место. Мне хотелось бы, чтобы в результате каждая студия сидела отдельной группой.
Почти никто из танцующих не знал, из какой студии его партнер. Возник живой, веселый разговор. Надо было угадать, в какой части комнаты устраивается каждая студия. Константин Сергеевич останавливал любого, который, замешкавшись в поисках своего места или места своей дамы, переставал танцевать.
— Все делайте в танце, только в танце, — звучал его веселый, властный, красивый голос, — слушайте музыку, надо ощутить ритм!
Уже играли польку. Помню необыкновенно красивого, пластичного Ю. Завадского и рядом с ним скорее скачущего, чем танцующего, П. Антокольского. Им пришлось соло пройтись полькой через всю комнату под веселый, ободряющий смех Станиславского.
Когда мы уселись по местам, ритм вальса и потом польки еще жил в нас, и неудержимая радость от встречи со Станиславским слилась с чувством удивительной свободы и подъема.
— А теперь будем танцевать, не вставая с места, — обратился он к нам. — Я начну, а вы включайтесь. Попрошу мазурку! — любезно обратился он к студийцу, который, на наше счастье, оказался великолепным аккомпаниатором.
Зазвучала мазурка, и мы увидели чудо: в Станиславского будто вселилась музыка. Глаза, плечи, ноги, которые только изредка отбивали четкие такты, вдруг вырывающийся элегантный жест изумительных рук, его большое красивое тело, прекрасная седая голова — все жило, играло, сияло мазуркой.
Мы не выдержали и бурно зааплодировали ему. На всю жизнь запомнила я эту мазурку и то чувство, с каким мы аплодировали. Пожалуй, главным в этом чувстве была радость — радость от встречи с ним, радость от собственной свободы, пришедшей на смену зажиму и смущению, радость от чуда, которое было в этой мазурке, вообще радость от соприкосновения с искусством.
{83} На этой же встрече Константин Сергеевич велел каждому из нас приготовить какой-нибудь монолог.
Помню, как на следующем занятии А. Орочко великолепно читала монолог Электры. Низкий грудной голос, чудесная внешность, необычайный темперамент… Станиславский хвалил ее и предрекал будущность трагической актрисы.
Пленительно читала чудесная актриса из «Габимы» Айвевит библейскую «Песнь песней». Станиславский растроганно поцеловал ее… П. Антокольский читал свои стихи, Ю. Завадский — Блока, Р. Симонов покачал замечательную пантомиму.
Все рвались к показу, в атмосфере занятий не было никакой зажатости. А когда она возникала, Станиславский каким-нибудь приемом, каждый раз новым и неожиданным, восстанавливал свободное и естественное самочувствие.
Однажды, например, Ц. Мансурова, по-видимому простудившись, пришла на занятия, закутанная в какой-то допотопный бабушкин шелковый платок. Она притулилась к стенке, прячась за спиной студийцев. Константин Сергеевич сразу заметил экзотическую фигурку и подошел к ней. Мансурова от смущения и растерянности была близка к слезам.
И вдруг Константин Сергеевич спросил:
— Вы когда-нибудь считали, сколько ниток шелка в каждой кисти вашей шали?
— Нет, — прозвучал испуганный ответ Мансуровой.
— Давайте считать!
Счет начался одновременно — одну кисть изучал Станиславский, другую Мансурова. У нее дрожали руки, но, видя, как сосредоточенно и по-деловому Станиславский считал нитки, она постепенно занялась делом и забыла обо всех нас. Количество нитей у них не сошлось.
Константин Сергеевич привлек к счету сидящих рядом. Большая шаль Мансуровой переходила из рук в руки. Мансурова, которая должна была пересчитать все кисти, двигалась вместе с широко развернутой шалью по всей комнате. Шаль вела ее за собой, и наконец она опять подошла к Станиславскому. Мансурова весело и азартно рассказала Константину Сергеевичу, что, оказывается, во всех кистях разное количество нитей!
— Обратите внимание, какие чудеса совершает с человеком выполняемая задача, — сказал довольный Станиславский. — А теперь я прошу всех вообразить, что сейчас XVIII век. Я приглашаю вас (он опять обратился к Мансуровой) быть моей дамой в менуэте. Постройтесь все в пары. После первого круга все молодые люди делают поклоны, а барышни приседают. Следите за мной!
И начался новый урок!..
{84} Веселая, живая, прелестная Мансурова без малейшего стеснения положила свою руку на большую руку почтительно склонившегося перед ней Станиславского. Большинство из нас довольно коряво последовало за ними. После первого круга Станиславский показал нам мужской и дамский поклоны. Увидев, как мы эти поклоны повторяли, он пришел в ужас:
— Все должно быть подчинено занятиям по танцам и по движению! Актер не имеет права выходить на сцену, если у него мертвое тело! Поклоны всех эпох надо знать, как таблицу умножения!!!
Так в первый раз я увидела то, что потом в разные годы, в разных ситуациях раскрывалось мне характерной чертой Константина Сергеевича.
Встречаясь с любым проявлением любительщины, дилетантизма, — будь то бессмысленный жест или плохая речь, — он приходил в страшный гнев и «бил во все колокола». (Кстати, после этого урока Чехов сразу же ввел в студии занятия по движению и танцу.)
Глубоко врезался мне в память день, когда Станиславский отдавал Чеховской студии надписанный им портрет. Это было в 1919 году.
Портрет очень хорошо срисовал с фотокарточки студиец Иван Кудрявцев. Михаил Чехов попросил Константина Сергеевича подписать его. Момент вручения я помню отлично.
Происходило это в день генеральной репетиции «Дочери Иорио» в Первой студии. Чехов устроил нас всех на просмотр, а во время второго антракта мы должны были собраться в актерском фойе. Как только мы собрались, быстро вошел Станиславский, держа в руках большой портрет. Он был сосредоточен и очень собран. Поздоровавшись с нами общим поклоном, он сиял пенсне и прочитал нам вслух надпись: «Чеховской студии. Учитесь скорее самому трудному и самому важному: любить искусство, а не себя в искусстве. Дай бог вам сил, здоровья в успеха. К. Станиславский».
Огромнейшее впечатление произвело на нас то, как он читал. Он вкладывал нам в мозг и сердце мысли, выражающие его постоянную и, может быть, главную заботу.
Прочитав, он передал портрет Чехову и, не говоря больше ни слова, обошел всех с коротким, очень энергичным рукопожатием. Рукопожатие это как бы закрепляло его требование к нам и наше безмолвное обещание.
Чеховская студия как коллектив не справилась с заветом Станиславского, но многие из студийцев пронесли через всю жизнь, как горячий уголек, глубоко поразившие нас слова о трудном пути, на который он нас звал.
Михаил Чехов играет Фрезера. — Сценическая речь Чехова. — Опять об импровизации. — Критика о «Ревизоре». — Чехов готовится к Хлестакову. — Этюды на «зерно». — Легкость, свобода, точность. — М. Чехов о речи русского актера.
Как я уже говорила, Чехов организовал свою студию в период, когда из-за болезни не играл на сцене. Но постепенно он вернулся к актерской работе. И вернулся с такой активностью, что мог одновременно репетировать Хлестакова в МХАТ, Эрика XIV в Первой студии; играл Фрезера в «Потопе» Г. Бергера, Мальволио в «Двенадцатой ночи» В. Шекспира и Калеба в «Сверчке на печи» Ч. Диккенса.
Все эти спектакли я видела по многу раз, игру Чехова помню до мельчайших подробностей и воздействие его на зрителей считаю чудом, ради которого, может быть, и существует театр. Но отделить полностью Чехова-актера от Чехова-педагога, его игру на сцене от его уроков в студии мне трудно. Он был прежде всего художником, и его влияние на нас — это некий сплав уроков в студии, бесед о театре, о Станиславском и, наконец, его собственного актерского искусства.
О Михаиле Чехове и его искусстве нет книг и почти нет описаний его игры. А теперь, когда остается все меньше театральных людей, видевших Чехова на сцене, все меньше остается и надежд, что такие описания появятся. Тем не менее искусство Михаила Чехова заслуживает внимания, как искусство художника, бывшего на определенном этапе своего творчества лучшим воплощением того одухотворенного сценического реализма, к которому стремился Станиславский.
Я не буду описывать каждую роль Чехова, хотя, честно говоря, из многих желаний описать что-то это желание мне наиболее трудно сдержать. Но на таких работах, Как Фрезер, Гамлет, Хлестаков, нельзя не остановиться, если уж честно придерживаться рассказа о наиболее ярких художественных событиях жизни.
Мне запомнился рассказ Вахтангова о том, как они с Чеховым готовились к «Потопу». (К Евгению Богратионовичу Чехов три раза водил нас на беседы.)
В начале работы над спектаклем они искали подходящий «типаж» для Фрезера. В Москве в то время существовала нелегальная, «черная» биржа, и Вахтангов решил, что там можно будет найти что-нибудь интересное Для Фрезера. Они долго бродили, пока наконец не встретили какого-то еврея-спекулянта, который им приглянулся. Прикинувшись, будто хотят что-то купить или продать, они вступили со спекулянтом в долгую беседу.
{86} По дороге домой оба весело изображали своего случайного собеседника, но отказались от мысли взять у него что-либо для Фрезера.
Работа над «Потопом» успешно подвигалась, и они совершенно забыли об этой мимолетной встрече. И вот наступила генеральная репетиция. Зал переполнен самой ответственной публикой — смотрят актеры, товарищи по работе, много старших актеров Художественного театра.
— Когда я зашел в уборную к Чехову и увидел его за гримом, он мне не понравился, — рассказывал нам Вахтангов. — Меня беспокоило не то, что он волновался, — это было естественно, все мы волновались, — но у него был какой-то подавленный, потерянный вид. Поэтому я пошел на сцену вместе с ним и решил дождаться там его выхода. И вдруг он поворачивается ко мне и спрашивает жутким, замогильным голосом: «Женя, Женя, а какое у меня зерно?» Я от возмущения только руками развел. А выход его уже приближается, и я понимаю, что сейчас произойдет катастрофа — он на сцену не выйдет. Тогда я беру его за плечи и буквально выталкиваю из-за кулис. И вдруг я слышу, как он на сцене, с сильнейшим еврейским акцентом кричит: «Здравствуйте, Стрэттон! Здравствуйте, Чарли… жарко. Уф!.. Почему не открываете вентилятор?»
Смотрю из-за кулис на сцену и вижу остановившиеся от удивления глаза Смышляева — Чарли и Сушкевича — хозяина бара. «Сейчас начнется хохот», — в ужасе подумал я. А Чехов чувствует себя, как рыба в воде! Реплика за репликой льются с такой смелостью, уверенностью и свободой, характерность так органична, что кажется, он никогда по-другому и не репетировал. Партнеры захвачены необычайным зрелищем — Чехов настолько в образе, что ничего не замечает. Бегу в зрительный зал и вижу, что Чехов завоевал всех с первой реплики. В антракте вхожу к нему. Сидит он счастливый — все кругом поздравляют его. «Миша, как это случилось? Ты вспомнил еврея-спекулянта с “черной” биржи?» «Какого?» — спрашивает Чехов с удивлением. Вот какие штуки проделывает подсознание! — закончил Вахтангов.
Рассказывая, он замечательно показывал Чехова. Перед нами сначала был Чехов убитый, растерянно жавшийся к Вахтангову. Глуховатость голоса усугублялась страшным волнением, глаза испуганные, движения некоординированные. И вдруг полный контраст — звонкий, властный, требовательный голос: «Стакан джина с содовой водой!.. Побольше джину и много льда!»
Огромный успех сопутствовал Чехову в течение многих лет жизни этого спектакля. Исполнение роли Фрезера критика называла образцом тончайшего психологического рисунка и воистину художественного переживания. Но, увы, искусство актера по своей природе таково, что даже от гениальной игры с годами остаются лишь общие оценки критиков и несколько туманных и разноречивых легенд…
{87} … Фрезер быстро входил в бар. Соломенное канотье сдвинуто на затылок. Руки растягивают помочи под распахнутым клетчатым пиджаком. «Стакан джина с содовой водой! Побольше джину и много льда», — резко бросал он. Все, что говорилось на сцене до сих пор о жаре в 39 градусов, сразу становилось реальностью. «Уф… это освежает», — говорил он, жадно выпив бокал и с интересом оглядывая всех. Он блаженствовал, освободившись на секунду от мучительного чувства жажды. «Это что за гусь?» — обращался он к хозяину бара Стрэттону по поводу клиента, который, выпив у стойки свой коктейль, торопливо уходил. Он спрашивал так, что не ответить ему было невозможно. И Стрэттон — Сушкевич начинал отвечать. Но, ввинтив свой вопрос, Фрезер тотчас забывал о нем и целиком окунался в то, что, по существу, занимало его.
В течение всей сцены Стрэттон пытался ответить на вопрос, который ему задали, но Фрезер, захваченный своими обидами, неудачей, своим внутренним «принципиальным» спором с грабителями, повышающими цены на бирже, не слушает Стрэттона. Он до такой степени одержим собственными переживаниями, обиды так свежи, так живы, что, казалось, они пронизывают все его тело электрическим током. Несправедливость жена его, он не мог найти себе места. Он разговаривал то с «негодяем Биром», будто тот находился рядом с ним, то, как к своему лучшему другу, обращался за поддержкой к Стрэттону. Он видел Стрэттона, до какой-то части его сознания доходило, что Стрэттон хочет ему рассказать о чем-то, но это не интересовало его, и он в ответ обрушивал то, что кипело у него в душе. Речь его лилась беспрерывно, страстно, казалось, что тема «негодяя Вира» неисчерпаема для него.
И вдруг — без всякого перехода — спокойный приказ: «Дайте мне сигару». И перед нами человек, который до такой степени хочет курить, Что в данный момент ни о чем другом думать не может. Подобные неожиданные контрасты были типичны для Чехова. Сигара на какое-то время успокаивает его, и разговор о Вире переходит в другую тональность. Фрезер — уже злобный сплетник, которому обязательно надо знать, до какого часа кутил «этот мошенник» и сколько проиграл. Сумма проигрыша приводит его в восторг. Он сплетничает, как старая баба, смеется и захлебывается от восторга, представляя, какие неприятности ожидают его врага.
И вдруг опять резко меняет тему. «А что с рекой? — обращается он к Стрэттону. — Расскажите. Вы все время хотите сказать о реке». Стрэттон, который уже забыл, о чем ему хотелось рассказать, возвращается к первоначальной теме об аккуратном клиенте, но Фрезер тут же требует спичек — погасла сигара. Пока сигара раскуривается — он раскуривает ее весьма энергично, — Стрэттон говорит, но слова его не доходят До сознания Фрезера. Они только вызывают у него ассоциацию, ничего общего не имеющую с их смыслом. Разговор идет о реке, и перед Фрезером {88} встает другой объект его ненависти — О’Нэль, адвокат «воровского общества», которое строит плотину. Самый продажный человек на свете и к тому же еще полупомешанный. Его следовало бы упрятать если не в тюрьму, так в сумасшедший дом! Два врага — Вир и О’Нэль. Оба вызывали у Чехова — Фрезера чувство жгучей ненависти, но какой-то еле уловимый оттенок различал его отношение к ним, делал эту ненависть различной. Эта многогранность поражала правдой.
Сообщение о возможной буре он категорически отвергал, не желая верить газетному листку, который стоял на стороне биржевиков во время его банкротства. И вдруг его захватывает радостная мысль: «Пусть река выйдет из берегов и затопит их всех — но крайней мере Вира и О’Нэля». Такой выход кажется ему блестящим: «Еще стакан джина с содой!» В этом озлобленном человеке на секунду приоткрываются какая-то наивная непосредственность, мальчишеское озорство. Ему на секунду показалось, что он будет отомщен, и мысль о потоплении Вира и О’Нэля звучала в его устах уже торжеством победителя.
Стук автоматического телеграфа сразу возвращает его к реальной жизни. По тому, как он реагировал на телеграф, по его восклицанию: «Чертова выдумка! Ничего хорошего никогда не возвещает!» — чувствовалось, что у него свои особые счеты с телеграфом, что один звук его вызывает в нем целый комплекс далеко не радостных воспоминаний, каким-то образом связанных, вероятно, с разорением, с которым он никак не может смириться. Трудно забыть, как он слушал Чарли — Смышляева, который читал телеграфные новости. «Ужасно, ужасно», — трагически шептали его губы. «Действительно ужасно, — подхватывал Стрэттон, — 42 градуса в тени. Будет дождь». «Да я не об этом! — с каким-то тоскливым раздражением говорил Чехов, обхватив голову руками и качаясь всем корпусом: — Я о хлебе. 1, 44 и 0, 3. С ума сойти!»
После этого появлялся Вир. Казалось, Чехов, только что так ярко сыгравший ненависть Фрезера к Виру, сейчас неминуемо повторится. Во происходило обратное. Возникали совершенно неожиданные приспособления. Одно дело — говорить о ненависти к человеку за глаза, другое — как вести себя при встрече с ним. Фрезер умеет не показать унижения, взять себя в руки, зажать бурлящую ненависть и не обнаружить ее.
Станиславский придавал огромное значение перспективе артиста, умению художественно распределить свои выразительные средства. Он восхищался тем, как Сальвини в роли Отелло строил свою роль с точки зрения соразмерности своих внутренних и внешних выразительных возможностей. Мне кажется, что Чехов тоже великолепно знал, что такое перспектива, пользовался ею удивительно тонко и точно, но его индивидуальный артистический прием выражался в том, что он как бы отказывался от какой бы то ни было экономии выразительных средств. {89} Краски и приспособления возникали, как из рога изобилия. Темперамент лился неудержимо, речь казалась словотворчеством. Но в этом кажущемся отсутствии экономии выразительных средств заключался определенный прием, очень тонкий художественный расчет. Прием этот заключался в умении пользоваться контрастами. Он и в студии постоянно говорил нам, что контрасты дают актеру особую силу и выразительность, а отсутствие контрастов рождает монотонность. В каждой из своих ролей он широко пользовался контрастами, но в каждой по-своему. И ни в одной роли он не обнаруживал технологического приема, все было от существа характера…
В Фрезере эти контрасты были как бы построены по двум разным направлениям. Первое — характеристика образа. Чехов сгущал все дурные качества Фрезера. Он безжалостно разоблачал этого разорившегося биржевого зайца, спекулирующего теперь на доходах с публичных домов. Он заставлял зрителя верить в то, что у Фрезера совесть абсолютно спокойна, мысль о том, что он сам подлец, никогда не приходила ему в голову. Он полой только ядовитой злобы и зависти к счастливчикам, испортившим его жизнь. Эти мысли и чувства Чехов доводил до гиперболы, до эксцентрики. Почти фарсовыми приспособлениями он разоблачал Фрезера, переживавшего свое разорение. Казалось, перед нами человек, на которого обрушилось нечто непосильное, человек, нервы которого обнажены и могут не выдержать такого напряжения.
А когда внезапный потоп отрезает посетителей бара от жизни и они думают, что пришел их последний час, тогда Чехов раскрывал в Фрезере удивительные по контрасту качества. Он с радостной непосредственностью шел на первый же зов своих смертельных врагов, щедро раскрывая неистраченные человеческие чувства, которым не было места в жизни, наполненной звериной злобой. И теперь, перед фактом неминуемой гибели он, как ребенок, радовался возникновению этих новых светлых чувств. Я думаю, что человечность Фрезера не действовала так сильно, если бы характеристика его в первом акте не была так остра и язвительна.
Эта многогранность всюду звучала и цельностью личности, и цельностью выразительных средств. Верилось и в то, что такой человек способен в минуту потрясения раскрыть в себе, неожиданно для окружающих и — главное — для себя, драгоценные свойства души. Верилось и в то, что это тот же человек, потому что в самые патетические, лирические моменты единения со своими врагами Фрезер был так же гиперболичен, так же эксцентричен и трагикомичен. (Сидевший рядом со мной красноармеец обратился к своей спутнице: «Чудно! Чего только не намешано в человеке!»)
В последнем акте, когда наступало утро и оказывалось, что опасность миновала и люди снова переставали быть людьми, в чеховском Фрезере {90} вновь всплывало чувство обиды и раздражения. Но все это было окрашено болью человека, впервые познавшего смысл таких слов, как: «мы — братья», «общий путь» и т. д. И когда он говорил: «Итак, кончено… Новый день с новыми подлостями», — это звучало трагично. В этом была глубокая скорбь о только что приобретенном и потерянном праве считать себя человеком.
«Никакого потопа не было!» — говорил Чехов — Фрезер с отчаянным желанием забыть все хорошее, вернуть скорей привычное отношение к жизни и людям. Но эта фраза, несмотря на то, что Чехов произносил ее с вызывающим безразличием, заставляла зрителей думать о том, что отказ от человеческого для Фрезера окажется еще более трудным, чем пережитое им банкротство.
Характерность становилась неотъемлемой формой роли. Фрезер откидывал голову назад, чуть суживал зрачки и как бы на расстоянии от себя формулировал мысли. Держась за резиновые помочи, отпуская то правую, то левую, то обе сразу, он договаривал этим жестом, а иногда пользовался им вместо слов.
Он говорил с еврейским акцентом, но этим никак не ограничивалась характеристика его речи. Акцент только помогал ему интонационно выражать метафорическую манеру мышления. В речи Фрезера Чехов часто пользовался вопросительным знаком. Он произносил фразу, ставил после нее необыкновенно выпукло вопросительный знак и как будто ждал ответа. Вместе с тем и партнерам и зрителям было ясно, что отвечать он собирается сам и паузой этой, подчеркнутой острым вопрошающим взглядом, он только увеличивал ценность своего высказывания. Это уважение к собственным мыслям, любовь к процессу формирования фразы составляли подлинную характерность его речи. Эта манера говорить приобретала особую выразительность в сцене, когда он, подвыпивший, — чтобы заглушить страх смерти, — прерывает речь О’Нэля, утверждая, что в жизни лучше идти вместе, рука в руку.
Речь Чехова в этой сцене возникала как бы из многоточий и лилась беспрерывно, потому что он заполнял паузы жестом, движением всего тела, вздохами, которые он делал для того, чтобы выразить наконец словами такие трудные и новые для него понятия: «Мы все друзья-братья».
Невозможно забыть, как, задыхаясь от обуревавших его мыслей в чувств, он протягивал всем руки для пожатия, а потом организовывал цепь, чтобы все могли, взяв друг друга за руки, пройти тихо по бару под общую песню. Эта цепь становилась для него символом нового в жизни, и слова, которые он произносил, были новыми для него словами. «Мы спутники в дороге… Мы цепь, мы все соединены, так должно быть всегда, рука в руку…» — произносил он трепетно, властно и радостно.
{91} Вообще речь Чехова на сцене была необыкновенно жизненна, образна и исключительно разнообразна. Он и тут широко пользовался контрастами. Это тоже было его индивидуальным приемом распределения выразительных средств. Когда сопоставляешь то, что он говорил нам в студии о сценической речи, с его Собственной речью на сцене, — понимаешь, что очень многое, казавшееся гениальным озарением, неподдающимся сознательному анализу, было, по существу, результатом глубокого изучения законов творчества и своей собственной индивидуальности. Чехов говорил, что каждое внутреннее движение выразительно только в силу контраста с двумя соседними. Нужно изучать в роли паузы. Паузы бывают разными: одни предшествуют действию, другие следуют за ним. Первые — подготовляют зрителя к восприятию дальнейшего, вторые — суммируют и углубляют впечатление. Это создает сложные ритмические волны. Динамика — в приливах и отливах. Если актер не знает пауз своей роли, значит, он не изучил ее.
Чехов сравнивал паузу, подготовлявшую действие, со стойкой охотничьей собаки, ожидающей приказа, а паузу, суммирующую впечатление, — с послегромовыми зарницами. Он рассказывал, как играл Фрезера (Фрезер сидит с Стрэттоном за домино, а Бир в это время ведет длинный разговор с Чарли). Он, Чехов, ждал, когда пауза в нем созревала настолько, что импульс к действию становился непреодолимым. И когда Бир хвалил Чарли за то, что тот открыл вентилятор, Чехов — Фрезер, будучи уже не в состоянии сдерживать себя, кричал: «Остановите вентилятор, Стрэттон! Дует!» «Я знал, что у меня есть время, — рассказывал Чехов, — и давал созреть распиравшему меня ритму». Контрастность спокойной фигуры Фрезера, будто целиком поглощенного игрой в домино, с этим внезапным всплеском (широкое движение всего корпуса, жест руки, обращенной к вентилятору, и слова, которые вырывались изо рта, как гончие псы) — это вызывало бурю восторга в зрительном зале. Психологически такой контраст был абсолютно оправдан.
Помимо всего прочего, эти контрасты были одной из тайн актерской техники Чехова, позволявшей ему при довольно бедных голосовых средствах, отпущенных природой, никогда не обнаруживать это и никогда не впадать в монотонность. Отыгрывал он свою вспышку тоже великолепно: Фрезер не опускал руки, направленной на вентилятор, до тех пор, пока Стрэттон не вставал, чтобы закрыть его. Тогда Чехов — Фрезер обводил всех торжествующим взглядом и вновь пытался сосредоточиться на игре в домино. Только что он сидел необыкновенно спокойно и свободно, а теперь он никак не мог устроиться удобно. То он съезжал с сидения, то вновь выпрямлялся, то крепко брался одной рукой за колено, как бы заставляя ногу не дергаться, то держал обеими руками костяшки домино, то откидывался назад, чтобы вздохнуть полной грудью. Это был необыкновенно выразительный «эпилог» вспышки. Строил ли {92} он его сознательно? Кто знает… Думаю, что строил. Потому что в его занятиях с нами большое место занимало действие, имевшее предыгру и, если можно так выразиться, послесловие.
Но самым впечатляющим в его игре, тем чудом и волшебством, о котором все говорили, ради которого десятки раз смотрели один и тот же спектакль, был, конечно, импровизационный дар. Наметочных ниток техники в этой игре невозможно было увидеть. Если он и ставил перед собой какие-то технологические задачи, например задачу разработанной паузы, то можно твердо сказать, что на каждом спектакле такие паузы звучали по-разному, потому что прием обрастал живой, сверкающей тканью неожиданных красок.
Позже я узнала, как ценит Станиславский смелые, неожиданные, дерзкие приспособления. Константин Сергеевич говорил, что в моменты вдохновения приспособления рождаются подсознательно и выходят наружу сверкающим потоком, ослепляя зрителей. Главные вехи пьесы, основные действенные задачи должны оставаться незыблемыми однажды и навсегда, но то как выполняются эти задачи, как оправдываются предлагаемые обстоятельства, какая возникает форма общения и т. д., должно быть подсказано подсознанием, только тогда возникнут драгоценные экспромты и роль будет спасена от штампа.
«Что — сознательно, — пишет Станиславский, — как — бессознательно. Вот самый лучший прием для охранения творческого бессознания в помощи ему; не думая о как, а лишь направляя все внимание на что, мы отвлекаем наше сознание от той области роли, которая требует участия бессознательного в творчестве»[5]. Не знаю, в какой мере эти мысли были знакомы Чехову. Думаю, что, несмотря на то, что Станиславский сформулировал и записал их значительно позже, они были одним из тех основных его принципов, которые Чехов знал. Именно от Станиславского Чехов воспринял умение сознательно вбирать в себя содержание пьесы. Вбирать так, что это содержание становилось для него областью, изученной до мельчайших подробностей. Он точно знал, что происходит в пьесе, кто как к нему относится, когда и во имя чего он сам добивается в пьесе той или иной цели. Всем этим он как бы высвобождал подсознание. И оно диктовало ему, как он на данном спектакле осуществит ту или иную задачу.
|
|