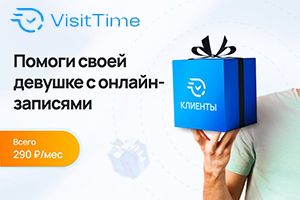Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Вахтангов и Чехов соревнуются. — «Атмосферу надо слушать». — Упражнения под музыку. — М. Чехов — ученик Станиславского. — Станиславский нас учит и дарит нам свои портрет. 3 страница
|
|
Как-то Чехов рассказал нам о том, что Станиславский захватывающе интересно говорил об аффективных воспоминаниях, которые создают те или иные настроения. Кто-то из присутствовавших, кажется Н. Демидов (врач по образованию), сказал, что важны не сами аффективные воспоминания, а апперцепция. Что такое апперцепция никто толком не понял, но слово это привело Чехова в восторг — он любил «научные» {93} слова. Термином «апперцепция» он стал определять то особое, что возникало ежедневно, в результате новых впечатлений, и окрашивало роль, этюд или упражнение неожиданным светом. Этим словом он как магическим знаком оборонялся от Вахтангова, который упрекал его за излишнюю вольность импровизаций, иногда сбивающую с толку партнеров. «Я не виноват, — уже заранее кричал Чехов, видя входившего к нему в антракте Вахтангова, — ты сам понимаешь — апперцепция!»
Рассказывая нам об этом, Чехов смеялся, но угроза, что Станиславский узнает об этих «апперцепциях», по-видимому, не на шутку его пугала. Действительно, определить границы, в которых импровизационность Чехова шла только на пользу спектакля, было очень трудно. Иногда неожиданность его сценического поведения всех выбивала из колеи. Правда, она же заставляла других исполнителей искать в себе живые, непосредственные отклики, тем более что для Чехова смысл происходящего, текст и мизансцены всегда были незыблемы. А. Д. Попов в своей книге «Воспоминания и размышления» рассказывает о том, как на одном из спектаклей «Гибель “Надежды”», в котором Чехов уже больше ста раз играл старика Кобуса, он всех ошеломил. Вместо добродушного лысого старика, одетого в мягкую курточку, шерстяные чулки и деревянные сабо, в руках у которого была старенькая суконная рыбацкая шапка, старика, который каждым своим движением напоминал о том, что он живет в богадельне, — на сцену вышел совсем другой, крепкий, кряжистый старик. На нем были тяжелые рыбацкие сапоги, кожаная куртка, а на голове кожаная зюдвестка. «Казалось, — пишет А. Д. Попов, — что он сейчас сошел с шаланды, — он еще иногда ловит рыбу и полон промыслового азарта. Это был человек с другим мироощущением, с другим “зерном”, жадный до жизни, еще пристающий на пирушке к молодым рыбачкам…»[6]
Подобный случай помню и я. Чехов запретил нам, студийцам, ходить на «Потоп»: «Мне надоел Фрезер, я в нем штампуюсь, а вы этого не видите, и я злюсь и на вас, и на других за то, что никто не чувствует этого». Прошло какое-то время, к он вдруг разрешил нам прийти на спектакль. Когда Фрезер вышел на сцену, мы буквально замерли. Куда делся тот Фрезер, которого мы все любили? На сцену вышел старый еврей в черном сюртуке, с черным котелком на голове. Глубоко сосредоточенный взгляд мельком скользил по окружающим. Это был униженный, раздавленный жизнью человек, который решил смириться. Единственное, что его занимало, было желание найти контакт с богом. Все, что он делал на сцене, он делал через общение с богом. Бог был где-то здесь, рядом с ним, чуть повыше его головы, и чтобы ни делал Чехов — Фрезер, он делал с ощущением, что бог все видит, все слышит, все понимает. {94} Он разговаривал со всеми смиренно, и когда ему удавалась эта кротость, он поглядывал куда-то не очень высоко вверх и жмурился от удовлетворения, потому что бог, по-видимому, был доволен им. Когда же неукрощенные страсти брали верх и он срывался и жалобно ругал тех, кто довел его до такого состояния, — он глядел наверх с опаской, пряча голову и поднимая плечи, как будто сейчас на него посыплются удары. Бог, которого придумал Чехов для Фрезера, занимался исключительно им, был целиком на его стороне, желал ему всяческих благ, главным образом материальных, но требовал, по-видимому, одного — укрощения своих страстей. А это давалось Фрезеру с большим трудом.
Помню сцену драки Фрезера и О’Нэля — Хмары. Если раньше Фрезер казался задирой, который все время ко всем цеплялся, то теперь Фрезер терпел. Терпение давалось ему мучительно, но помогал ему в этом бог, и Чехов, помимо текста пьесы, беззвучно шептал что-то, видимо, обращаясь к богу. Даже там, где по тексту Фрезер нападает первым, Чехов делал это только словами, стараясь обмануть и себя и своего бога тем, что он покоен и кроток. Он придавал своей речи характер какой-то иносказательности, скорби по поводу мошенников и неразоблаченных продажных адвокатов. Он говорил так, словно к нему лично все это не относится. И только постепенно, как будто под бешеным напором О’Нэля, он наконец не выдерживал, и начинались отчаянная ругань и драка. Сцена, после того как их с трудом разнимали, шла под гомерический смех зрительного зала. Враги еще дышали ненавистью друг к другу. Инерция драки жила в обоих. Оскорбления сыпались одно страшнее другого. Казалось, что Стрэттону не удастся удержать их и драка разгорится с новой силой. И при всем том главным объектом для Чехова — Фрезера в этой сцене был… бог. Это было невероятно смешно.
«Вор! Пьяница! Продажная тварь!» — кричал он, показывая богу на О’Нэля. Он разоблачал того перед богом, призывал бога в свидетели, радовался тому, что бог, к счастью, наконец сам собственными глазами увидел, что собой представляет О’Нэль, и теперь уже не сможет обвинять его, Фрезера, в несдержанности. И все-таки в какой-то момент бог, наверное, приказывал ему прекратить ссору, потому что Чехов опять виновато посматривал наверх, а слова: «Шантажист, мошенник. Я убью тебя», — он бросал О’Нэлю шепотом, по-видимому, твердо уверенный, что бог его не расслышит…
Интересно, что этот, совершенно новый, не менее острый и законченный рисунок роли Чехов также внезапно и бросил, получив от каких-то зрителей письмо, обвинявшее его в оскорблении их религиозных чувств…
Спектакль Художественного театра «Ревизор» точнее всего можно было бы назвать событием скандальным. Огромный успех Чехова у публики шел рука об руку с ядовитой бранью некоторой части прессы, бранью и по адресу Чехова, и по адресу Станиславского.
{95} Одна из рецензий того времени даже вышла отдельной книжкой (склад издания, правда, хранился у автора). Она называлась «“Ревизор” Станиславского и… Гоголя». Автор, некий В. Гурский, щедро расточает свое возмущение и против Станиславского и против Чехова. Критик почти полностью печатает широко известное гоголевское письмо, написанное после первого представления, «Ревизора», в котором Гоголь говорит о том, что «Дюр ни на волос не понял что такое Хлестаков». В такой же степени непонимания роли критик обвиняет и Чехова. Не стесняется он и в выражениях, обращенных к Станиславскому, — «сечет» его как безграмотного мальчишку, не удосужившегося задуматься над гениальной комедией.
Критику и в голову не приходит, что означало для Станиславского еще раз взяться за «Ревизора», в предыдущей постановке не принесшего ему большой радости. Он не ведает, что каждая репетиция, которую проводил Станиславский, была то радостной, то мучительной разведкой тайн гоголевского творчества. Что Станиславский был буквально «опален» Гоголем, захвачен желанием найти наконец достойные гоголевского гения сценические средства. И если бы не индивидуальность Михаила Чехова, которая, как верил Станиславский, единственно давала надежду воплощения фантасмагорической гоголевской фигуры, которая «действует без всякого соображения», — вряд ли Станиславский вообще вернулся к «Ревизору».
Интересно, что другие критики, апологетически относившиеся к чеховскому Хлестакову, считали, что Станиславский отрекается от принципов Художественного театра, допуская в «Ревизоре» «гастроль Чехова». Но один из этих критиков приветствует эту «гастроль». Он считает, что. Чехов — не только лучший из виденных им когда-либо Хлестаковых, а первый и единственный. «Ни о каких сравнениях, ни о какой преемственности не может быть и речи, — пишет он. — Лефевр, когда к нему пристали: кто твои предки, — ответил: сам себе предок. То же можно, сказать и о Чехове — Хлестакове». Эта критическая статья интересна тем, что она выражала распространенную в те годы в театральных кругах точку зрения о совершенно самостоятельном создании Чеховым Хлестакова. Выдвигалась версия, что Чехов своим исполнением изничтожает теорию Станиславского. Упомянутая мной статья так и называлась — «“Теория” Станиславского и “практика” Чехова». «По окончании спектакля публика наградила “гастролера” Чехова бурными аплодисментами, — пишет критик. — Хлопал гротескному, фантастическому Хлестакову и большой, белый Станиславский. Он или не понял, что “практика” Чехова разрушила его “теорию”, или понял и был этому рад…»[7]
{96} К сожалению, тогда считалось, что новое должно обязательно разделаться с такими якобы отжившими явлениями в искусстве, как Художественный театр и Станиславский. Поэтому все свежее, сверкающее, талантливое, рождавшееся в стенах МХАТ, выделялось, как явление исключительное, не имеющее к МХАТ никакого отношения и даже враждебное ему.
Сказывалось, конечно, и особое, властное обаяние Чехова, при котором даже такие участники «Ревизора», как Леонидов, Москвин, Грибунин, Лилина, меркли рядом с ним.
Из всех известных мне рецензий только в одной статье Чехов не противопоставлялся Станиславскому и признавалось, что в постановке «Ревизора» снова «во всем своем художественном значении развернулся гении Станиславского и явился актер, каких давно уже не видела русская сцена…»[8]. Я перебираю сейчас старые газетные и журнальные вырезки и невольно думаю (сколько раз невольно приходилось об этом думать!) об ответственности театральной критики, чьи оценки, — подчас очень субъективные или продиктованные соображениями, лежащими вне сферы искусства, — нередко остаются чуть ли не единственным «памятником» художнику и его сценическому творению. Ведь не будь я зрителем «Ревизора», не общайся я в этот период с Чеховым, не будь я, наконец, посвящена в творческие отношения Чехова и Станиславского, — я ничего, ровным счетом ничего не узнала бы из прессы о «Ревизоре» и о том, как и кем был создан едва ли не самый гоголевский Хлестаков русской сцены.
Год репетиций «Ревизора» был годом самой активной работы Чехова в студии. Это было время, когда он жил, расходуя себя с неменьшей щедростью, чем Вахтангов. По утрам он репетировал Хлестакова со Станиславским, потом бежал на репетицию в Первую студию и творил вместе с Вахтанговым безумного короля Эрика XIV, потом — или на спектакль, или к нам в студию. А иногда — в студию после спектакля. Естественно, он был переполнен впечатлениями от работы со Станиславским и Вахтанговым и каждый день всем этим делился с нами. «Станиславский хочет», «Станиславский сердится», «Станиславский сегодня смеялся» — это мы слышали постоянно.
Бывали и мучительные периоды, когда Чехову казалось, что Константин Сергеевич не верит в него. Ему никак не удавалось схватить то, что воображение Станиславского раскрывало в Гоголе. Помню, как однажды Чехов, опираясь большим пальцем о стол, сжал остальные пальцы в кулак и сделал быстрое движение кулаком, стараясь очертить полный круг вокруг большого пальца. Круга конечно, не получилось, {97} а движение было удивительно нелепым и смешным. Полуоткрытый рот, глаза, наивно глупые и до предела увлеченные этой попыткой, — мы на минуту почувствовали, что перед нами Хлестаков. Мы ему сказали об этом. «Что вы! — удивился он. — Станиславский говорит, что Хлестаков должен быть таким, как палец, на который я опираюсь, — как стручок! Он для этого и велел мне делать это упражнение. А может быть, — он вдруг залился смехом, — Константин Сергеевич придумал этот палец, чтобы я развивал в себе непосредственность?»
С этого момента этюды наши в основном были посвящены поискам детской наивности, непосредственности в восприятии окружающего. «Только не изображайте детей, — останавливал он нас. — Нужно учиться находить верную детскую реакцию».
Мы строили карточные домики, прыгали на одной ноге, меняли перышко на резинку… (Помню, мне был задан этюд «Дюймовочка». Я должна была родиться из цветка и, раздвинув лепестки, впервые увидеть мир. Этот этюд делали многие из нас.) Но главное, чего добивался Чехов от нас в период «детских этюдов», было умение детей быстро переключаться с объекта на объект. Мы делали упражнения на зрительное и слуховое внимание, почти такие же, с которых начались наши занятия по системе. Но это упражнение теперь делали «дети», и каждый из нас искал «зерно» какого-то малыша.
Чехов называл предметы, окружавшие нас, и мы должны были быстро и точно их рассмотреть Он заставлял нас слушать разнообразные звуки, потом вспоминать свою игрушку, стихи или песенку, а затем опять рассматривать какой-то предмет. Он менял объекты необычайно быстро и требовал от нас детского повышенного интереса. Мы должны были переключаться не механически — новый объект должен был, как это бывает у детей, полностью вытеснить предыдущий.
Наблюдая, как эти упражнения делает сам Чехов, мы понимали, что присутствуем при рождении Хлестакова. Мы часто просили Чехова показать кусочек из Хлестакова, но он всегда отказывал. А этюды на «зерно» делал с наслаждением и говорил, будто Станиславский требует от него, чтобы он развил в себе такой «обезьяний» интерес ко всему, при котором (по словам Гоголя) он будет «не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли».
Делать эти этюды Чехов начинал почему-то с причмокивания губами. От причмока рот оставался чуть приоткрытым, глупели и становились круглыми глаза. После этого возникал фейерверк глупостей. Он писал пальцем по воздуху письмо кому-то из нас и с необыкновенным нетерпением ждал ответа, а когда кто-нибудь догадывался ему ответить, он уже был занят тем, что пересчитывал плитки паркета по всей комнате ели заставлял нас зажмуриться, чтобы отгадать, какого цвета у каждого из нас глаза…
{98} Потом он переставал шалить, делался мрачным: «Если бы вы знали, как трудно овладеть гоголевским текстом, какая мука приспособить свой язык к нему! Какая мука!» И он рассказывал нам о том, как Станиславский не только его, но и всех маститых актеров иногда держит часами на одной фразе, требуя и ясности мысли, и характерности, и знаков препинания, и подтекста, и верного общения…
Был период, когда Чехов впал в полное отчаяние. Однажды у него был насморк, но на репетицию он пошел. И как раз в этот день Станиславский остался им доволен.
— Молодец, Миша, — крикнул он ему из зрительного зала. — Вы нашли великолепный тембр голоса для Хлестакова. Как будто бы нос чуть-чуть заложен, и вы дышите ртом.
— Константин Сергеевич, — возразил Чехов, — я ничего не нашел, у меня просто насморк!
Но это был один из дней, когда Станиславскому нельзя было возражать.
— Пусть будет насморк, — гремел его голос, — это не должно никого касаться. Нужно «закрепить» этот тембр, потому что это великолепный штрих, это то, чего не хватало в речи…
Я никогда не видела, чтобы человек так боялся выздороветь. Он устраивал сквозняки, не застегивал пальто, выходя на улицу, и т. п. Насморк усилился, Чехов уже еле говорил. Это обстоятельство привело к полному конфузу.
— Прошу вас не шаржировать! — оборвал его из зала Станиславский после первой же реплики. А когда Чехов совсем гнусавым голосом пытался изложить ему суть дела, на него обрушился настоящий гнев.
— Мальчишка! — кричал Станиславский. — Вам поручена ответственнейшая роль, от того, как вы ее сыграете, зависит будущее театра и ваше будущее! Вы не понимаете, какое вам оказано доверие!
Чехов хлюпал носом, но все же еще попытался защитить себя. «Константин Сергеевич!» — прогнусавил он, но в ответ услышал о том, что чеховская шаржировка уже давно беспокоит Станиславского, что в «Потопе» и в «Двенадцатой ночи» Чехов «трючит», что Станиславскому об этом сообщают по телефону и что пора положить этому конец. Такие бури были знакомы всем артистам Художественного театра, и редко кто осмеливался прерывать их. На этот раз над Чеховым сжалился Москвин. Он незаметно сошел со сцены и подсел к Константину Сергеевичу:
— Константин Сергеевич, Чехов болен. Он всех нас перезаразит, его надо экстренно отправить домой.
— Почему же он мне об этом не сказал? — растерянно спросил Станиславский.
— Он пробовал, Константин Сергеевич, вы не слушали.
— Разве? — несколько смущенно спросил Станиславский и отправил Чехова домой.
{99} Еще хуже пошло дело, когда Чехов выздоровел. Ни он, ни Станиславский не могли забыть удачной репетиции, и это воспоминание мешало обоим. Как-то Станиславский остановил Чехова на репетиции и строго сказал, что если он не перестанет вспоминать, как он тогда говорил, то погубит роль.
Придя в студию, Чехов сел, обвел всех грустными глазами и сказал:
— Вот и все. Споткнулся я о тумбу. Не сыграть мне Хлестакова…
Так продолжалось долго. Чехов мучился ужасно. На занятия в студию он не ходил. Как-то меня отправили к нему уговорить прийти на урок. Попытка моя не увенчалась успехом, но разговор с Чеховым был интереснейшим. Он рассказывал мне о Хлестакове, как о бесконечно дорогом человеке, который ушел от него навсегда. Он говорил о его глупых, смешных чертах, о том, как ужасно он был голоден, когда его жизнь внезапно изменилась… Он говорил не о роли, а о человеке, которого любил, несмотря на то, что человек этот был «пустейшим».
Через много лет Л. М. Леонидов рассказывал мне так же о несыгранном им Гамлете, а О. Л. Книппер-Чехова — о сыгранной Маше из «Трех сестер». Рассказ Чехова был для меня первым рассказом о роли, которая входит в жизнь актера, прочно устраивается там и связывается с актером иногда более неразрывными нитями, чем это бывает в жизни между людьми.
Прошло еще какое-то время, и однажды Чехов не вошел, а вбежал на урок, стал крутить нас то в вальсе, то в польке. «Нашел! — напевал он. — Нашел! Нашел!»
С этого момента он совсем перестал заниматься студией. Никому из нас не удавалось получить от него хоть в какой-то степени серьезный ответ на тот или иной вопрос. Все для него оборачивалось по-хлестаковски. Чехов для нас исчез. Любой разговор, связанный со студией, нашими занятиями и делами, он превращал в материал для Хлестакова.
Мы и смеялись, и плакали, умоляя его хоть часик поговорить с нами серьезно, потому что жизнь в студии шла сложно, но Чехов не только не хотел, он, по-видимому, не мог это сделать.
С тем, что роль захватывает и меняет человека в жизни, я впоследствии сталкивалась неоднократно. Чехов — Хлестаков и Чехов — Гамлет, Хмелев — князь в «Дядюшкином сне» и Хмелев — Грозный, Грибов — Глоба и Грибов — Ленин, Смирнов — Иванов и Смирнов — Ленин — этот список можно было бы значительно увеличить. Однако такой резкой тени, какую роль бросала на жизнь и характер Михаила Чехова, я больше не встречала. Возможно, у Чехова сказывались в этом и черты Душевного нездоровья. Но в принципе зависимость актера от роли, изменение его характера и психологии в процессе создания роли — один из интереснейших факторов творчества.
{100} Больше всего в чеховском Хлестакове меня восхищала легкость. Легкость движений, молниеносность переходов от одного объекта внимания к другому, легкость, с которой он приспособлялся к самому невероятному, легкость, с которой вспыхивали и угасали в нем различнейшие чувства. Никогда, ни до, ни после Чехова, мне не приходилось видеть в драматическом спектакле актера, который производил бы впечатление такой физической невесомости. Казалось, стоит дунуть, и этот Хлестаков исчезнет, как пылинка. Чехов всегда говорил, что нельзя игру делать тяжелой, потому что тяжесть на сцене — это тема, это характерность, а не манера играть, и все знали, что легкость в выполнении самых сложных сценических задач является одной из черт чеховской индивидуальности. Но легкость, которой он добился в Хлестакове, покоряла еще и потому, что она была как бы единственной и неповторимой сценической формой гоголевского замысла.
Гоголь одарил Хлестакова такой чистосердечной глупостью, такой детски наивной беспринципностью, такой жаждой жизни и полным отсутствием моральных устоев, что характер этот требует от актера очень редкого сочетания — неподдельной непосредственности при тончайшей изощренной технике. Обычно одно исключает другое. И в постановках «Ревизора» чаще всего Хлестаков как бы играет двойную роль. Видя, что его принимают за другое лицо, он начинает изображать это лицо. Как бы великолепно ни игралась такая трактовка, она всегда попадает мимо гоголевского замысла, потому что вносит в характер рационализм, чуждый Гоголю. Она уничтожает существеннейшую черту Хлестакова — беспредельную глупость, несовместимую с обдуманным надувательством.
Виртуозная техника исполнителю Хлестакова нужна в первую очередь для того, чтобы справиться с исключительно трудной лексикой роли. Гоголь гениально индивидуализировал речь своего героя. В замечаниях актерам он пишет о Хлестакове: «Речь его отрывиста, и слова вылетают из уст его совершенно неожиданно». Овладеть этой удивительной болтовней, в которой отсутствует какой бы то ни было самоконтроль, овладеть речью, которая «совершенно неожиданно» срывается с уст, — задача сверхтрудная, требующая виртуозной техники.
Великий дар Чехова — импровизационность — выражался в Хлестакове иначе, чем в других его ролях. В «Потопе» или в «Гибели “Надежды”» рамки этой импровизационности были значительно шире. В «Ревизоре» импровизационность подчинялась властному замыслу Гоголя. Тут вообще все было иначе — сам авторский замысел предполагал импровизационность как черту характера. Если Пушкин говорит о двух видах косноязычия — от богатства мыслей и от скудости их, — то Гоголь, одаряя «сморчка» Хлестакова даром импровизационного самочувствия, доказал, что любое человеческое качество может быть насыщено умом или {101} глупостью. И Чехов в своем Хлестакове шел за автором. Может быть, ни в какой другой роли он не был так глубоко предан автору, так скрупулезно точен в выполнении авторского замысла и вместе с тем так свободен в приспособлениях. Бесспорно, к этому привела полная увлечения и веры работа со Станиславским.
В те годы Чехов твердо верил в путь творческого перевоплощения, по которому вел его Станиславский. Он мучительно вынашивал и внутренние и внешние черты, аналогичные гоголевскому созданию, а произведя на свет своего Хлестакова, чувствовал себя в этой роли так свободно, как чувствует себя птица, взмывая ввысь, — она сливается с высотой и счастлива от этого, она совсем не ощущает страха.
Некоторые обвиняли Чехова в шарже, даже в патологии. Вот и в недавно вышедшей книге О. Литовского[9] автор высказывает точку зрения, что Чехов играл в Хлестакове шизофреника. Я никак не могу с этим согласиться. Чехов играл Гоголя, со всей свойственной Гоголю яркостью, неожиданностью и гиперболическим юмором. И творчество Чехова было в этой роли здоровым, так же как творчество Гоголя времен «Ревизора». Не случайно Станиславский советовал тем, кто хочет понять, что он, Станиславский, вкладывает в понятие «я есмь», посмотреть Чехова в Хлестакове.
Первое его появление на сцене озадачивало. Этот Хлестаков не походил на традиционных фатоватых Хлестаковых. Медленно входил в дверь невзрачный, курносый, худенький юноша. Усталый, грустный, не глядя на Осипа, отдавал ему цилиндр и трость. Он был страшно голоден.
То, как играл этот момент Чехов, заставляло думать, что мы необычайно редко видим на сцене подлинный, голод, подлинную жажду, подлинную жару или холод. В последние годы жизни Вл. И. Немирович-Данченко пришел к убеждению, что верное физическое самочувствие — один из основных элементов творчества. Когда репетировался «Ревизор», термина «физическое самочувствие» еще не было, но правде физических ощущений в Художественном театре всегда придавали очень большое значение. Чехов владел физическим самочувствием великолепно. Когда мы спрашивали, как ему удается сыграть так точно чувство голода, Чехов отвечал:
— Просто я представляю себе, что ужасно хочу есть, вызываю в себе такую атмосферу голода, что у меня по-другому начинают работать слюнные железы и из головы не выходит мысль о всякого рода соблазнительных бифштексах. Мне кажется, что вся комната наполнена чудными запахами…
Есть он действительно хотел — до ужаса, до тошноты. Но эти наиискреннейшие его переживания сразу вызывали смех. Смех возникал от {102} того, какой человек был голоден, — прокутившийся, проигравшийся в пух и прах. Несмотря на необыкновенную скромность выразительных средств, которыми пользовался Чехов в этой сцене, он точно передавал самую сущность этой «сосульки», как называл потом Хлестакова городничий.
Я позволю себе привести несколько строк из рецензии, автор которой, В. Додонов, по-моему, верно передает характер игры Чехова: «Не человек, а человечишко. Не коллежский регистратор, а елистратишка. Мальчишка. Чтобы всыпать ему порцию горяченьких, надо поднять ему рубашонку, — не рубашку даже, а рубашонку. Все, что до него относится, ничтожно и жалко. Даше фрак не фрак, а фрачишка. Когда Хлестаков уезжает и инкогнито его раскрывается, разгневанный, взбешенный городничий бросает словечко, тоже ярко характеризующее его и вполне гармонирующее с “елистратишкой”, — сморчок. Духовная малость, ничтожность — вот основное в Хлестакове. И именно это основное выявляет в своей игре Чехов»[10].
Итак, голоден был не человек, а человечишко, куриные мозги которого лихорадочно искали выхода из создавшегося положения. Помню, как, отослав Осипа за хозяином — в надежде на обед, — он подходит к окну, пытаясь отвлечь себя от мучившего его голода. Текст он говорил, разглядывая проходивших под окном прохожих. Мотивы из «Роберта», «Не шей ты мне, матушка», а потом, как Гоголь пишет, «ни се, ни то» вырывались то насвистыванием, то жалобным напевом. Потом он, наконец, находил занятие, на минуту увлекшее его, — он пытался осторожно доплюнуть до кого-то из проходивших. Эта бессмыслица делалась им с таким детским увлечением, что зал разражался аплодисментами.
Ставя «Ревизора», режиссеры и актеры обязательно встречаются с проблемой исключительной трудности. От ее решения зависит внутренняя правда спектакля. Гоголь берет ситуацию почти неправдоподобную — ведь ни один человек в городе не распознал Хлестакова, никому не пришла в голову мысль, что приезжий хлыщ — не ревизор. Внутренняя слепота, отсутствие трезвого ума и трезвого взгляда, легкость, с которой воображаемое принимается за истинное, делают «Ревизора» одной из самых трудных пьес мирового репертуара. Бумажный футляр, который городничий при известии о ревизоре хочет надеть на голову вместо шляпы, — ключ к той степени потрясения, которую Гоголь требует от актеров.
В целом ряде сцен «Ревизора» Станиславскому удалось добиться и гоголевского темперамента, и полного внутреннего оправдания фантастической ситуации. В первой встрече Хлестакова — Чехова и городничего — Москвина на сцене возникала атмосфера такого подлинного взаимного {103} страха, такой отчаянной трусости и острейшего ощупывания друг друга, что становилась ясной самая суть гоголевского замысла.
Чехов — Хлестаков верил в то, что сейчас его поволокут в тюрьму. Он действительно «съеживался и бледнел», он действительно «сначала немного заикался, но к концу речи говорил громко», он действительно «бодрился, потом храбрился» и для этого «стучал кулаком по столу», а затем умоляюще говорил: «Дайте, дайте мне взаймы! Я сейчас же расплачусь с трактирщиком. Мне бы только рублей двести или хоть даже и меньше». Он не делал никакой паузы, перед тем как назвать цифру — «двести». Он эту цифру не обдумывал. Она у него возникла непосредственно и, по-видимому, была пределом его мечтаний.
Получив деньги, он не удивлялся, не размышлял, даже не радовался. Он успокаивался и становился таким откровенным, каким можно быть только с человеком, который осчастливил тебя. Он ласково усаживал Москвина — городничего и с полным чистосердечием благодарил за то, что тот выручил его из беды, и жаловался на отца, который требует его домой.
Чехов играл эту сцену предельно искренне и просто. Но чем правдивее был Хлестаков, тем меньше верил ему Москвин — городничий. За каждым бесхитростным словом Хлестакова городничий видел тончайшее вранье, «славно завязанный узелок». В этой сцене звучала подлинная, страшная и смешная правда о том, на что способна предвзятость. Москвин был единственным городничим, из тех, кого я видела, который боялся Хлестакова так, что по-настоящему дрожал от страха. Весь текст, который городничий, по ремаркам Гоголя, говорит в сторону, звучал с такой убежденностью и правдой, на которые был способен только Москвин. И это абсолютное убеждение, что перед ним — продувная бестия, приводило его наконец к наивнейшему выводу: «Он хочет, чтобы считали его инкогнитом. Хорошо, подпустим и мы турусы: прикинемся, как будто совсем не знаем, что он за человек».
И вот Москвин — городничий льстил, умасливал, всовывал деньги, ухаживал, а Чехов — Хлестаков плыл по воле волн, не задумываясь и не озираясь. Хлестаков производил впечатление мальчишки, который трясся до гусиной кожи перед тем, как войти в воду, а войдя, — бездумно отдался волнам, поднимающим его все выше и выше, он едва успевает подставлять им свое почти невесомое тело. О том, что он может погибнуть под этими волнами или они выбросят его на берег, он не помышляет.
Хлестаков наслаждался, пьянел от триумфа, рисовался с таким простодушием, что казалось, нет ситуации, которая могла бы его поставить в тупик. Даже внезапно вспыхнувшее чувство не то к дочке, не то к мамаше, — даже эта ситуация великолепно укладывалась в его умишке, а, потрясенный страстью, он со всем пылом кидался от одной к другой, {104} путал их, страстно любя ту, которая в данный момент была около него. Эту сцену Чехов играл блистательно. Яркость и смелость его приспособлений были столь дерзостны, что у зрителя буквально перехватывало дыхание.
Вл. И. Немирович-Данченко говорил, что на сцене не может быть ничего «чересчур», если это оправдано. Станиславский рассказывал о комедийном актере, который на сцене, разгневанный на свою тещу, стащил с себя брюки, чтобы ими избить эту тещу, и никому в голову не приходило, что это неприлично, — все следили только за тем, удастся ли зятю осуществить свое желание. А Чехов — Хлестаков грыз от страсти ножку стула, прятался при виде городничего под юбку городничихи., и Станиславский ему аплодировал, потому что это было продиктовано настоящим чувством.
|
|