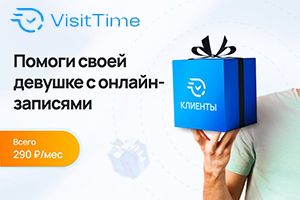Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
В новый путь — В режиссуру! — М. А. Терешкович — актер. — Театр на Елоховской. — Новые проблемы.
|
|
Максим Горький говорил, что интуиция — это состояние, при котором накопленные представления еще не включены в сознание, но в опыте уже имеются. В сознании у меня еще не возникла мысль: «хочу быть режиссером», а мой ежедневный опыт уже складывался из элементов, как бы подводящих к этой профессии.
Теперь, экзаменуя молодых людей, поступающих на режиссерский факультет, я спрашиваю: «Как у вас сложилось желание стать режиссером?» — и почти всегда с удивлением слушаю, как логично и точно формулируется ответ. Это, конечно, признак иной эпохи — режиссерское искусство стало более доступным для изучения, а стремление к определенной профессии формируется раньше и точнее.
В пору моей юности о режиссуре мечтали единицы. А женщин-режиссеров почти не было. И у меня подход к режиссуре был длительным и сложным. Я сама долго не сознавала своей тяги к этой профессии.
{289} Подсказал мне будущее дело моей жизни Алексей Дмитриевич Попов. Случилось это так.
В 1934 году в Пименовском переулке Клуб работников искусств организовал занятия по диамату и эстетике. Вел эти занятия В. С. Кеменов. Посещали их те, кого вопросы эстетики горячо волновали, поэтому лекции довольно скоро превратились в непосредственный обмен мнениями. Наибольшую активность проявляла группа Театра Революции, возглавлявшаяся А. Д. Поповым. В эти годы он уже был известным режиссером. За его плечами был успех «Виринеи», «Разлома», «Поэмы о топоре» и «Моего друга».
В том, как он вел себя на семинаре, о чем спрашивал и как говорил, бросалось в глаза полное отсутствие «театра». Длинный, худой, застенчивый, со странной, очень выразительной жестикуляцией, он туго, почти мучительно формулировал мысль. Но найдя нужные слова, он начинал ими буквально разить инакомыслящих. Его лексика и манера спора были своеобразными. Беркли, Шеллинг, Фихте превращались для него в современников, в живых, реально существующих врагов. Иногда эта историческая «приближенность» его восприятия вызывала веселый смех аудитории, и Попов смеялся вместе со всеми. Однажды, проходя мимо, он, легко ткнув меня кулаком в плечо, сказал: «Ловко вы Канта разделали»…
А через некоторое время группа Театра Революции (в нее входили А. Д. Попов, художник И. Ю. Шлепянов, режиссеры П. В. Урбанович и Д. В. Тункель) сговорилась о встречах с Кеменовым, во время которых можно было бы в тесном кругу «додумывать» вопросы эстетики, применяя их к ежедневной театральной работе. Встречи эти происходили дома, по очереди у всех участников.
П. В. Урбанович был моим мужем, поэтому одна из встреч происходила у нас. Собрались мы в семь часов вечера. Спорили яростно, до хрипоты, до остервенения; с одной стороны — четыре «поповца», с другой я — мхатовка.
В. С. Кеменов выступал третейским судьей и пытался уравновесить страсти.
Алексей Дмитриевич в ту пору был одержим мыслью, что необходимо бороться с «великим сидением в образе» и обвинял МХАТ в «сидячем психологизме», в оторванности пластической жизни образа от его внутренних переживаний. Я взвивалась, зная, что Станиславский и Немирович-Данченко «штурмуют» сейчас именно эти проблемы. Я объясняла Попову, что Константин Сергеевич и Владимир Иванович нигде не формулируют еще своих мыслей и поэтому он не в курсе их поисков, но они идут, и внутри МХАТ проходит сейчас активнейшая работа над углублением метода. Слушая Алексея Дмитриевича, я удивлялась, что он сам, совершенно самостоятельно, собственным талантом и пытливостью {290} пришел к тем же вопросам, которые волновали Станиславского и Немировича-Данченко.
Когда кто-то, взглянув на часы, сказал, что уже семь часов утра, Алексей Дмитриевич бросился к телефону: «Дома думают — случилось несчастье…». Расставались наспех, будто вдруг вспомнили, что у каждого свой дом, своя работа…
Этот разговор «взапой» об искусстве, о методологии положил начало тому редкому и счастливому стремлению к совместному осмыслению творческих проблем, которое стало основой нашей дружбы с А. Д. Поповым.
В последующих встречах группы Театра Революции с В. С. Кеменовым я, по предложению Алексея Дмитриевича, участвовала уже не только как «жена», но как «самостоятельно мыслящая единица». Бешеные споры продолжались. Они касались и театра, и музыки, и живописи.
— Почему вы не занимаетесь режиссурой? — спросил меня однажды Алексей Дмитриевич.
Я не смогла ответить — просто об этом никогда не думала. И тут Попов со свойственной ему «скальпельной» логикой разобрался в моем творческом «я». Не могу сказать, что я чувствовала себя уютно, когда он при всех меня таким образом «анатомировал». Но еще никогда и никто, кроме отца, не говорил со мной так прямо.
— Внутренние данные у вас явно богаче внешних, поэтому актерские возможности ограниченны. Ждать редкой возможности ярко характерной роли — бессмысленно. На сцене вы органичны, но, пожалуй, острота формы чуть гиперболизирована. Мне это по душе, хотя я понимаю, что как раз это и ограничивает круг ролей, которые вы можете играть в МХАТ. Чувство формы станет вашей силой, как только вы начнете заниматься режиссурой. Вы любите и знаете живопись, сделали уже кучу отрывков… Решено! Без всяких разговоров в новый путь — в режиссуру!
А через несколько дней П. В. Урбанович взялся вести кружок в Электроэнергетическом институте, договорившись, что ему будет помогать актриса Художественного театра. На первое занятие мы пришли вдвоем. На этом кончились его посещения кружка. Работу мне пришлось полностью брать в свои руки. Все мои просьбы прийти, помочь ни к чему не приводили. Он находил тысячи причин, но не приходил. Оказывается, это осуществлялся «коварный план». Они с А. Д. Поповым решили, что меня надо бросить в режиссерскую работу, как щенка в воду.
Ставила я Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын». На премьеру пришла вся группа «эстетиков» — Попов, Кеменов, Шлепянов, Тункель и Урбанович.
{291} Экзамен я выдержала, и Алексей Дмитриевич заявил, что я должна быть ему по гроб жизни благодарна — он толкнул меня на верную стезю. Он говорил об этом с юмором, но я уже знала, что он прав.
Третьим человеком, которому суждено было сыграть в моей режиссерской жизни, может быть, самую главную роль, был Макс Абрамович Терешкович.
Мы не были лично знакомы. Не знаю, что в моей актерской индивидуальности показалось ему привлекательным, но он однажды предложил мне заниматься системой с труппой студии имени Ермоловой, которой руководил.
При встрече Терешкович раскрыл передо мной свои планы. Он хотел, чтобы молодежь росла, впитывая не только то, что может дать ей он сам. Надо учиться и у учеников Станиславского, чтобы познать все пути работы над образом — от внутреннего к внешнему и от внешнего к внутреннему.
К маленькому театрику на Елоховской площади Терешкович относился с глубочайшей серьезностью. Ради него он ушел из Театра Революции, где играл большие роли и очень успешно дебютировал как постановщик, — редко бывает, чтобы первая работа режиссера имела такой широкий резонанс, как «Наследники Рабурдена» в его постановке.
Как актер Терешкович был воспитанником Ф. Ф. Комиссаржевского. В его студии он обратил на себя внимание такими ролями, как кюре в комедии Шарля ван Лерберга «Пан», барона в «Выборе невесты» Гофмана, винокура в «Майской ночи» Гоголя, писца в «Лизистрате» Аристофана, банкира Пунтилы в «Ящике Пандоры» Ведекинда, старика аптекаря в «Красных каплях». В Театре Вс. Мейерхольда он сыграл Тарелкина в «Смерти Тарелкина», интеллигента в «Мистерии-буфф».
Роли, сыгранные им в Театра Революции, поставили его в ряд ведущих актеров Москвы. Все, что он играл, было отмечено остротой мысли, яркостью и своеобразием формы. Его актерская индивидуальность была на редкость заразительной. Что-то в нем заинтересовывало, интриговало, впечатляло необычностью.
Подружившись с ним, я узнала методику его работы над ролью. Огромное место в ней занимал интеллект. Он был умным человеком и умным актером. Строил свою роль, обращаясь с собой, как с посторонним материалом, говоря, что сначала ему нужно «сухой ложкой» намешать все черты и черточки образа. Надо все придумать, построить, расставить акценты, наметить ритмический рисунок, сочинить внешнюю и внутреннюю характерность, отработать «манеры» роли, а потом оживить статую изнутри, влить в нее свое тепло.
Огромное значение он придавал первому появлению на сцене, «визитной карточке», по выражению Мейерхольда. Зритель должен сразу понять, с кем имеет дело.
{292} Все это походило на театр представления. Но живой темперамент Терешковича, его вкус и чувство меры делали свое дело — образы, созданные им, оправдывались изнутри и, несмотря на броскость внешнего рисунка, заражали своеобразием раскрытия характера.
В «Озере Люль» А. Файко Терешкович превосходно играл капиталиста Натана Крона. Трудно забыть сцену Крона — Терешковича и Прима — Глаголина, блистательно поставленную Мейерхольдом и сыгранную актерами. Статика в этой сцене была доведена до предела и резко контрастировала с динамикой проходов, движением лифтов на втором и третьем планах и т. д. На первом плане, у самой рампы, за столом сидели, почти не двигаясь, Крон и Прим. Шел напряженнейший разговор. И только резкий поворот головы, удар рукой по столу и то, как Терешкович — Крон вставал, обнаруживали внутренний накал этой беседы.
Большую часть роли Терешкович играл очень мягко, иронически. Только в нескольких местах он раскрывал истинное «зерно» Крона — алчного хищника, доводя этот второй план роли до гиперболы.
Терешкович не был одарен музыкальным слухом, но чувство ритма у него было редкостное. Он великолепно ощущал силу воздействия смены ритма, умно, смело и точно обращался с этим орудием. Он рассказывал мне, что, читая впервые новую роль, сразу ощущает ее «ритмический строй» и это чувство никогда ему не изменяет. Позже, в совместной режиссерской работе, я оценила эту его способность. Ритм он схватывал интуитивно, сразу. Весь процесс постижения образа доверял сознанию, но мерилом всего и высшим критерием для него все-таки был ритм. Он всегда делал записи ритма и для своих ролей и для спектаклей, которые ставил: «протяжный», «острый», «бурный», «патетический», «торжественный»…
Из актерских работ Терешковича лучшей мне кажется роль Севастьянова в «Конце Криворыльска» Б. Ромашова (ставил спектакль А. Грипич).
Севастьянов появлялся на вокзале, скромный, в элегантном пальто, с чемоданом в руках. Он был спокоен, вежлив, проезжий в чужом городе… Покупая газету, небрежно спрашивал о каком-то знакомом. Просил спичку. Когда закуривал, видно было, что у него чуть дрожали руки. «У меня озноб, малярия, знаете», — объяснял он с чуть заметной улыбкой.
Терешкович любил и умел пользоваться «немыми» кусками. В этой «предыгре», подготовлявшей текст, выражалась его эмоциональность. «Хорошо. Думал не доеду. Здоровье стало пакостное. Папиросы водятся?» — эти слова во время встречи с отцом звучали спокойно-нейтрально. Потом игрался замечательный безмолвный кусок — Севастьянов согрелся, тело его расправилось, дыхание стало глубоким. Хотелось {293} курить — это игралось как единственное всепоглощающее желание и потому было драматичным.
Наверное, Терешкович не знал и такого термина, как «зерно», но «зерно» характера всегда было очень явно в его исполнении. То, что Севастьянов был врангелевским офицером, и то, что он пытался пробраться за границу, было скорее следствием. Шантажист, великолепно владеющий своей подлой профессией, — это было «зерном». Терешкович играл человека, обладающего качествами, необходимыми для крупного, может быть, международного шантажа. Он был талантлив и циничен, знал психологию жертвы, умно вел ее к гибели, не тратя лишних сил. Это рациональное использование своих сил создавало правду образа.
Последнее слово Севастьянова на суде — это единственное место роли, где Терешкович позволил себе быть предельно экспрессивным, открытым, цинично откровенным.
То, что он делал, нельзя назвать исповедью, — в исповеди есть мечта о прощении. Это было желание быть бесстыдно откровенным среди тех, кто во что-то верит. Сам он не верил ни во что — ни в Советскую власть, ни в белогвардейскую, ни в бога, ни в черта. Все растоптано, опошлено, продано. Он говорил так, как говорят раз в жизни. Мысль его концентрировалась на себе так, что временами он совсем забывал об окружающих. А потом будто вспоминал и обращался не только к суду, а ко всем, находившимся в зале, и, захлебываясь от смеха, издевался над любовью, верой, честью, моралью. И вдруг среди всего этого — глубокая, искренняя трагическая нота: «А… жить… жить… жить совершенно не хочу! Все равно нечем! Нечем…». С этими словами он будто выдыхал весь запас воздуха из легких. Вздоха не следовало. Когда раздавался приказ вывести обвиняемого, Севастьянов был мертв.
С. Марголин писал в статье «Театр Революции и его актеры»: «… актерская природа Терешковича близка к Чехову и Михоэлсу. Иногда кажется, что эти три актера, такие различные по масштабам своего дарования и своих возможностей, перекликаются между собой на сценах трех разноликих театров. Терешкович передает наиболее выразительно противоречия, извивы, “потемки” современного человека…»[61].
Трудно сказать, как бы развивался дальше этот актерский талант. Терешкович очень рано увлекся режиссурой и не смог совмещать ее с актерской деятельностью. Он ушел из Театра Революции, мечтая о том, что, когда молодежь студии имени Ермоловой подрастет, он будет в этом театре играть. В 1937 году А. Я. Таиров пригласил его на роль Протасова в «Детях солнца» Горького. Терешкович был взволнован предложением, увлечен ролью и начал репетировать. Но эту роль он так {294} и не сыграл. Он умер от разрыва сердца в 1937 году. Ему было всего 39 лет…
… Мои занятия с коллективом Терешкович организовал очень серьезно. Сам он всегда присутствовал на них. Я сразу оценила его способность к теоретическому осмыслению творческих проблем и тягу к учению Станиславского — это учение, как большинство мейерхольдовцев, он представлял себе весьма наивно.
Вскоре после того, как у меня завязался настоящий творческий контакт с ермоловцами, Терешкович предложил мне совместную режиссерскую работу — «Искусство интриги» Скриба.
— Будем работать так, — сказал он мне, — вы будете репетировать с актерами, а я буду делать мизансцены.
— А если у нас не совпадет понимание пьесы и актеров? — спросила я.
— Обязательно совпадет. Мы же великолепно друг друга понимаем. Кроме того, мы будем вместе готовиться, вместе работать с художником и композитором. Мизансцены я буду делать при вас. Не понравится одна, я сделаю другую. Знаете, как я их легко делаю…
Макс Абрамович уговаривал меня весело и настойчиво, не давая возможности подумать.
— Вечером я дам ответ.
— Вечером вы придете в театр, начнем работать над пьесой, познакомлю вас с замечательным художником — Юрием Пименовым…
Дома я кинулась к телефону.
— Алексей Дмитриевич, что делать?
— Как что делать? Браться! Режиссура вам в руки лезет. Жалко, конечно, что Скриб, хорошо бы начать с современной пьесы… Коллектив вас уже знает, Терешкович талантливый человек. Валяйте и не паникуйте. Мой совет: работать смело и ни под каким видом не ставить точки перед мизансценами. Делайте их по своему усмотрению, а Терешкович потом пусть их меняет, усложняет, уточняет. На этом будете учиться. Ему будет что брать от вас, а вам — от него. Не забудьте позвать на премьеру. Посмотрим, что получится из гибрида мхатовки с мейерхольдовцем!
Вечером Терешкович познакомил меня с Пименовым, с его женой, Натальей Константиновной, помогавшей ему по костюмам, и с композитором Милютиным. Я была им представлена в качестве режиссера спектакля, и все пошло так, будто я всю жизнь занималась режиссурой.
Мне было легко, интересно, я и не испытывала ни малейшего смущения. Огромную роль в радостном чувстве свободы, которое я испытывала, сыграл, конечно, Макс Абрамович. Ему хотелось творческой встречи со мной потому, что я, по его мнению, принесу с собой мхатовскую культуру, мхатовскую методологию, которую он хотел познать сам. Ему {295} было интересно со мной, и это вызывало к жизни способности, которых я никогда в себе не подозревала.
Через много лет Е. С. Телешева рассказывала мне, что точно так же ей работалось с С. М. Эйзенштейном, когда он пригласил ее в фильм «Бежин луг». Эйзенштейн с громаднейшим интересом наблюдал за работой Телешевой с актерами, открывая для себя новые, глубоко поражавшие его самого творческие пути. «Мы даже не понимаем, как много нам дали Константин Сергеевич и Владимир Иванович, — говорила Телешева. — Мы к этому привыкли. По-настоящему ценят это те, кому не выпало счастье встречи с ними».
Терешкович открыто, восторженно приветствовал то новое, что открывалось ему в учении Станиславского. Я в свою очередь тоже училась у него. Творческая связь с Комиссаржевским и Мейерхольдом напитала его талантливую натуру своеобразным мышлением, и я, естественно, очень многое у него брала.
Я окунулась в проблемы, с которыми мне раньше не приходилось встречаться. Композиция текста, постановочный замысел, работа с художником, композитором…
|
|