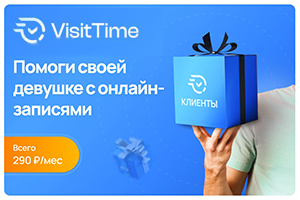Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Я заболела ролью. — Первые встречи с Вл. И. Немировичем-Данченко. — На репетициях спектакля «Дядюшкин сон». — Незабываемый конкурс. — Моя Карпухина, — «С этим надо бороться!». 2 страница
|
|
— Я все собираюсь поговорить с вами — мне хочется, чтобы вы овладели в Карпухиной точным физическим самочувствием. Сейчас вы пьяны мыслью, безудержным желанием отомстить за оскорбления, за обиды, нанесенные вам уездным обществом. Вы пьяны от «духовного» возбуждения — это хорошо, но вы упускаете, что, кроме этого психологического груза, вы пьяны еще оттого, что, прежде чем идти к Марье Александровне, вы наверняка хлопнули сгоряча две‑ три лишние рюмочки. Это очень важно, этого надо добиться…
Замечание Владимира Ивановича заставило меня прислушаться к себе. Я стала искать природу опьянения, у меня появились еще большая развязность в обращении с Марией Александровной и совершенно особая физическая свобода. Возникли новые мизансцены. Одна из них была одобрена и зафиксирована Владимиром Ивановичем. В самый разгар скандала я разлеталась, чтобы догнать одну из убегавших от меня дам, и вдруг, потеряв равновесие, падала с размаху в кресло и от неожиданности замолкала. В кресле меня потянуло сделать паузу, в течение которой я пыталась осмотреть всех и понять, почему, собственно, они здесь. Пауза эта была как будто алогична, она рвала наступательное напряжение действия. Но эта алогичность, по-видимому, раскрывала что-то существенное в Карпухиной. Кроме того, возникшее полное мышечное освобождение давало, с точки зрения Владимира Ивановича, хороший контраст с последующим, еще более бурным выпадом против дам.
Все это он мне объяснил, вызвав однажды для разговора в свой кабинет.
Я знала, что таких вызовов, затаив дыханье, ждут все актеры.
— Ну те‑ с, — начал Владимир Иванович, — разберемся наконец во всем происшедшем. Вы, наверное, думали: почему Владимир Иванович пустил меня в спектакль, вывел за ручку раскланиваться и бросил?
Он любил задавать вопросы и, не ожидая ответа, продолжать говорить: — Мне представлялось так. Молодая актриса не только без помощи {236} режиссера подготовила роль, но нашла в ней самостоятельное решение, не испугалась публики, нашла контакт с партнерами, — пусть она даст своей интуиции полную волю. А я подгляжу, где ей изменяют чувство меры, вкус, правда, насколько крепко «зерно», насколько точно направлен темперамент. Репетиций на вашу долю не выпало. Я решил это компенсировать публичными спектаклями…
— Какой основной недостаток вашего исполнения? — продолжал он, глядя куда-то вдаль и будто разговаривая с кем-то третьим, находившимся в комнате. — Не доигрываете кусков, не исчерпываете того, что идет к вам от партнеров. Сейчас скорее темперамент владеет вами, чем вы темпераментом. То, что не фиксируете находок и неожиданностей, возникающих на спектакле, — пока хорошо, но нужно уметь отмечать для себя, что идет от образа, а что — от актерства. Все, что интуитивно возникло от образа, надо беречь. В дальнейшем надо научиться, сохраняя импровизационность самочувствия, которая сейчас является вашим преимуществом, овладеть наукой актерской техники. Вы поймете, что, кроме точного авторского текста, есть великая прелесть в точности мизансцены, разработанной паузы, мизансцены тела. Карпухина — роль, допускающая на первых порах стихийность поведения. Суть этого человека в том, что он вносит хаос в предшествующую его появлению жизнь. Мне важнее всего было дать вам полную творческую свободу. Но сейчас уже пора все это организовать, внести в это порядок. Этот порядок позволит вам подняться на следующую ступень актерского искусства и даст мне возможность построить сцену наиболее выразительно. А теперь начнем работать. Сперва я хочу проверить ваше «зерно».
Владимир Иванович нередко уже после генеральных вызывал актеров и предлагал им ряд этюдов. Это был один из его излюбленных педагогических приемов, он проверял, не ограничивается ли ощущение «зерна» роли только ситуацией пьесы.
Немирович-Данченко сидел за своим письменным столиком. Я — на кушетке. Справа от меня была входная дверь.
— Подслушайте — за дверью говорят о вас. Подслушивайте, конечно, в образе, в темпераменте Карпухиной.
За дверью была полная тишина.
— Пока вы не услышите какой-нибудь звук, который вы сможете по-своему интерпретировать, упражнение продолжается.
Я слушала, прижимаясь ухом к двери, к замочной скважине, постепенно проявляя все большую активность. Владимир Иванович остановил меня, когда, лежа на полу, мне удалось сквозь маленькую щелку подслушать чьи-то осторожные шаги по ковру.
— А теперь сядьте на диван и продумайте точный план действия. Что надо предпринять, чтобы выяснить, где князь. Что надо сделать, {237} чтобы столкнуть лбами Марью Александровну и Наталью Дмитриевну. Сидите и думайте, представляйте как можно ярче и подробнее, что вам предстоит сделать, какие могут возникнуть препятствия, что вы ответите им, если… и т. д.
Владимир Иванович немедленно останавливал меня, как только моя мысль шла «не по-карпухински». Это производило впечатление совершенного чуда. Я не произносила ни слова, а он вдруг:
— Э‑ э, это не туда, — слишком мягко, нерешительно, осторожно, это не Карпухина…
Потом он предложил мне вообразить, что только-только произошел один из постоянных скандалов с моим мужем, отставным полковником.
— Тоже молча?
— Да, вы в комнате одна. Вы только что вытолкали его за дверь.
Он похвалил то, что, хотя мужа избила и исцарапала Карпухина, я чувствовала себя обиженной.
Потом он начал искать «мизансцену тела» в разных местах роли, начиная с первого акта. Мизансцена там простейшая. Карпухина приходит, и Мария Александровна усаживает ее в кресло. Но, боже мой, сколько многообразия внес он в это сидение!
— Основная карпухинская поза — поза человека, сидящего всегда «на своем месте». Вы убеждены, что вас обязательно сгонят с этого места, — именно потому устраиваетесь навсегда.
Последовал изумительный показ. Владимир Иванович сел, выпрямив спину, чуть закинув голову, и гордо посмотрел на меня. Я подсказывала ему текст, а он проживал его.
— Вы, кажется, снимаете перчатки, но делаете это моментально. Я вам предлагаю снимать их в течение всего первого куска. Они новые, лайковые, вы их специально надели. Это придаст вам большее достоинство и чувство независимости. Потом у вас есть табакерка. Опять-таки вы нюхаете табак без всякого аппетита. А вы позвольте себе потомить Марью Александровну, ведь это вы ей нужны, а не она вам. Надо подавать себя.
И Владимир Иванович, взяв в руку щепотку табаку, прервал себя на полуслове, заткнул табак в ноздри и, глубоко вдохнув его, долго ждал чиха. Не чихнул, но получил полное удовольствие, вынул носовой платок и деликатно вытер нос. Все это он проделал виртуозно.
Перейдя к сцене «скандала», он нашел для меня все мизансцены. Я сбегала за крахмальной нижней юбкой и муфтой, чтобы чувствовать себя свободнее.
Эту сцену он не показывал мне. Он добивался точности физического самочувствия и только подсказывал движение, которое мне помогло. Корпус откинут назад, а стремительная походка заносит меня все время дальше тех, к кому я обращаюсь, поэтому приходится резко {238} разворачиваться, а потом, обращаясь к кому-нибудь, я вновь пролетаю мимо.
— Возьмите это как принцип движения, — сказал Владимир Иванович.
— Можно мне попросить Ксению Ивановну пройти эти движения с партнерами?
— Зачем? Они уже привыкли приспосабливаться к вам, — Владимир Иванович назвал с абсолютной точностью, кто, где, в какой момент, стоит на сцене. Взяв за руку, он провел меня между воображаемыми лицами, уточняя и находя новые возможные остановки и проходы…
В общении с актерами у Владимира Ивановича была своеобразная особенность: секунда, когда «аудиенция» кончалась, доходила до актера как электрический ток. Все — надо уходить.
— Спасибо, Владимир Иванович!
— За что? Это мой долг, — холодно ответил он.
От только что близкого, внимательного, ласкового человека веяло неприступностью. «Дистанция» вступала в свои права. И вдруг, когда я уже открывала дверь:
— Минуточку! — Я повернулась и встретила знакомый внимательный взгляд. Пауза. — Вы не старались разобраться в себе? Почему такая разница? Смелая, даже дерзкая в работе, а в жизни… — он долго подбирал слова: — … где-то к стенке жметесь… Это плохо. Одних способностей в театре мало. Нужна воля, огромная воля. Ведь если бы я случайно не заставил бы вас показать Карпухину, вы не показали бы?
— Нет.
— Очень плохо. Очень. С этим надо бороться…
Комплексное воспитание. — «Безумный день, или Женитьба Фигаро». — Займемся сегодня старушками. — Волшебные ключи. — Л. М. Леонидов — Плюшкин. — Талант строить коллектив. — Письмо М. П. Лилиной.
Ту воспитательную школу, которую мы, молодые актеры, проходили в Художественном театре, можно назвать «комплексной». Одновременно мы играли в массовых сценах, где нас воспитывал Лужский, а получив даже крошечную роль, мы тут же попадали под самое пристальное внимание Немировича-Данченко и Станиславского. Интимные {239} репетиции в их рабочих кабинетах — и тут же великолепная школа коллективного искусства, в полном смысле слова, когда на сцене ты — частица, один из многих, связанных вместе замечательным режиссерским замыслом.
Такую школу «коллективизма» я проходила на репетициях «Женитьбы Фигаро» у Станиславского. Пожалуй, именно на этом спектакле особенно наглядно была для нас сила его режиссерского, постановочного искусства.
Несмотря на пять действий и четыре антракта, все, происходящее на сцене, было до крайней степени стремительно и насыщено действием.
«Горе от ума», как известно, тоже происходит в течение одного дня. Но мне ни разу не пришлось видеть зрителя, который поверил бы, что на сцене все случается в один день, — ни в Малом театре, ни в Художественном, ни у Мейерхольда. Я сама ставила «Горе от ума» и «Мещанина во дворянстве» и много труда потратила, чтобы ограниченность времени воспринималась не как условный драматургический прием. Но только в процессе собственной работы я поняла, как это трудно. Дело, конечно, не в облегчении декораций — декорации А. Я. Головина к «Женитьбе Фигаро» были далеко не легкими для постановочной части. Дело в том, что Станиславскому удалось вселить в каждого участника «зерно» пьесы, а «зерно» это — «безумный день». Законом работы над спектаклем он сделал знание «течения дня» — точно выбранная технологическая задача, как всегда, помогла ему проникнуть в самую суть произведения.
Не было ни одной репетиции, чтобы Станиславский не напоминал, что все происходит в течение одного дня. Но этого мало — слова самого великого режиссера, к сожалению, приедаются. Станиславский каждый раз подстраивал обстоятельства, которые рождали у всех участников определенный ритм и самочувствие. Он подбирался к натуре актера такими разнообразными путями, что почти невозможно было сообразить, от чего вдруг засияла всеми красками, та или иная сцена. Это было замечательное умение поймать и ликвидировать любую ненужную остановку, обрыв действия, слова, жеста, видения.
Со всеми невероятными обстоятельствами актер должен был на сцене справляться немедленно, сейчас же, сию минуту. Поэтому внутренний тонус всего происходящего был накален до крайности. В то же время Станиславский не переносил бессмысленного темпа, неумения довести задачу до конца, трепыхания в движении и т. д. Иногда казалось, что тому или иному актеру просто не под силу все это, но Станиславский переформировывал глубоко въевшиеся личные привычки актера-человека, творил из него какой-то новый, необходимый спектаклю творческий организм.
{240} — Сегодня или никогда! — так Станиславский «вправлял» актера в природу образа.
Когда Станиславский в начале работы над «Фигаро» сказал, что герой будущего спектакля — народ, — он, конечно, имел в виду глубокую народную сущность комедии Бомарше. Но он говорил и о том конкретном народе, о «действующих лицах без речей», которые, будучи рождены гением его режиссерской фантазии, должны были стать живым окружением Фигаро и Сюзанны.
Как произошло, что народ в «Фигаро» был действительно «живым»? Вероятно, тут сливались две стихии. Постоянная любовь Станиславского к работе над массовой сценой и творческая инициативность ее участников. Каждый из нас знал, что о наших способностях судят главным образом по тому, сумеем ли мы создать оригинальный, запоминающийся характер, живущий интересами пьесы, точно знающий свое место в большой группе людей и свою, личную задачу в этой группе. Поэтому каждая роль в массовой сцене была для нас серьезнейшим экзаменом, требующим напряжения всех сил.
В «Фигаро» я играла старуху и была занята в трех картинах — в суде, в свадьбе и в финале. В результате это была старуха очень подвижная, веселая, инициативная, общительная, готовая в любой момент принять участие во всех перипетиях «безумного дня». Прекрасно помню свои симпатии и антипатии, свою походку, руки, лицо, — не было ни одного спектакля «Фигаро», от которого я как актриса не получала истинного удовлетворения.
Моя старуха родилась таким образом.
Нас вызвали Б. И. Вершилов и Е. С. Телешева и предложили решить, кто кого хочет играть в народной сцене. Станиславский просил, чтобы среди участников были конюхи, лакеи, служанки, повара, поварихи, пастухи и садовницы-пололки. Он просил выбрать пятнадцать деревенских девушек-невест и пятнадцать деревенских парней-«фигарят». Кроме этого, нужны были две‑ три старухи. Кто хочет играть старух? Я почему-то опоздала поднять руку. Но как только список старух был закрыт, я сразу поняла, что очень хочу играть старуху. Телешева обещала передать Константину Сергеевичу мою просьбу. Станиславский разрешил. Итак, старух оказалось четыре.
Начались репетиции. Между нами, старухами, стали завязываться какие-то тонкие нити общения. Мы понимали друг друга. У нас были общие интересы. Мы стали держаться вместе. Кто-то из нас был проворнее и помогал отстающим, кто-то берег пустое место для своей подружки. Константин Сергеевич мгновенно заметил это.
— Старушки, — обратился он к нам, — я вас обязательно соединю в другой картине. А здесь, на суде, попытайтесь войти вместе, стремитесь сесть обязательно рядом, но я прошу других исполнителей помешать {241} вашему плану. Более молодые я ловкие, занимайте места так, чтобы в результате старушки сидели в разных местах…
Мы были разъединены, но нам все время хотелось поделиться друг о другом впечатлениями, и мы то и дело вскакивали, объяснялись взглядами и жестами. Это создавало одну из тех бесчисленных красок, которые сообщали массовой сцене спектакля удивительную живость.
Требования Станиславского всецело опирались на нашу инициативу. Яркие, неожиданные мизансцены возникали потому, что он умел всех заинтересовать происходящим, ни на минуту не давая забывать об индивидуальных особенностях каждого.
— Не забывайте своего возраста, — кричал он мне из зрительного зала. — Походка старческая, а жесты молодые!
Массовые сцены строились им импровизационно. Дав нам вначале широкую инициативу, Станиславский отбирал все необходимое, отбрасывая ненужное.
Момент, когда импровизационную стихию Станиславский вводил, в русло точного рисунка, был очень сложен. Механическая точность, не согретая внутренним оправданием, приводила Станиславского в ярость, так же как любительское неумение выполнять свои действия в определенном ритме, и т. п.
Иногда репетиции бывали мучительными. Он мог по три-четыре часа добиваться верно сказанной фразы или ударения. В такие минуты он забывал о мягкости. Не только молодые, но и известные всему миру актеры терялись и буквально костенели от страха. Станиславский, вероятно, не любил в себе эти приступы деспотии, потому что потом с особой нежностью относился к тем, кого он накануне обижал. И все-таки опять обижал и мучил, не справляясь со своей требовательностью и бескомпромиссностью.
Однажды во время репетиций «Фигаро» жертвой режиссерской нетерпимости Станиславского стал молодой актер Н. Ларин. Он заставлял этого актера бесконечное количество раз выходить из-за кулис на сцену. И при первых же шагах останавливал его:
— Не верю!!! Во имя чего вы вбегаете? Где ваш объект? Освободите мышцы! Вы напряжены. Вы не понимаете, что репетируете пьесу Бомарше, а не Островского. Что вы делаете руками? Почему у вас дергается голова?
На сцене было человек пятьдесят. Все понимали, какой воли стоило Ларину послушно уходить за кулисы и вновь выходить. Баталов, Андровская, Завадский — все бывшие на сцене — всячески старались отвлечь внимание Станиславского от бедняги Ларина. Они уже в двадцатый раз повторяли с полным внутренним накалом всю сцену. Но Константин Сергеевич не видел никого, кроме Ларина. У того под гримом бледнел нос и шея становилась серой.
{242} И вдруг не выдержал В. В. Лужский, игравший Бартоло:
— Так нельзя, Константин Сергеевич, нельзя, нельзя, нельзя!!! Это бесчеловечно! Нельзя так мучить молодежь! Мы все привыкли, смирились, знаем, что у вас это пройдет, а он может умереть! Понимаете — умереть, умереть, и вы будете виноваты! — Василия Васильевича понесло, он не мог остановиться. Одной рукой держась за сердце, другой он судорожным движением разрезал воздух сверху вниз. На глазах у него были слезы.
— Василий Васильевич, голубчик, — раздался вдруг спокойный, ласковый голос Станиславского, — ради бога, успокойтесь! Я никого не хотел обидеть. Ужасно, что все так получилось. Как себя чувствует Ларин?
Ларин, окончательно сконфуженный, уверял его, что чувствует себя хорошо, но Станиславский не верил этому и долго еще стоял около суфлерской будки и мучил вопросами и его и В. В. Лужского.
— Может быть, у Ларина больное сердце?
— Нет.
— Может быть, грипп?
— Нет.
— Значит, действительно виноват я? Это ужасно. Но как же быть? Ведь нельзя же идти на компромисс!
Репетиция продолжалась. Константин Сергеевич, сделав явное усилие над собой, перестал обращать внимание на Ларина. В конце репетиции, делая замечания, он сказал, что Ларин — молодец и понял все, чего от него хотел он, Станиславский.
А после репетиции он оставил Лужского и обратился к нему с просьбой уделять еще больше внимания народной сцене, вызывать к себе индивидуально каждого участника и т. д. Кроме того, он просил передать всем нам, что не надо его бояться.
Легко сказать — не бояться! И. М. Москвин, бывший при нашем разговоре с Лужским, рассказал, что, когда Станиславский вызывал его и В. И. Качалова к себе на дом, они, прежде чем переступить порог его кабинета, крестились от страха.
Сейчас я думаю: каким счастьем было бояться Станиславского! Бояться не организационных мер, бояться не тем подлым страхом, когда не можешь опровергнуть клевету, а бояться чистоты, справедливости, правды…
Станиславский помнил о своем обещании — соединить старушек в следующей картине. В «свадьбе» мы оказались соединены самым неожиданным образом.
(Надо сказать, что вообще нам, старушкам, Станиславский уделял количество времени, явно не соответствующее месту, которое старухи могли занимать в пьесе.
{243} — Ну… чем будем заниматься сегодня? — не раз говорил он, приходя на репетицию.
— Старушками, — не разжимая губ, шептал Баталов. И все присутствовавшие еле сдерживали смех, когда Константин Сергеевич после секунды молчания объявлял:
— Займемся сегодня старушками…)
«Свадьба» была одной из самых замечательных картин спектакля. Все в ней было ново, неожиданно, ярко, поражало безыскусственностью и полным единством автора, режиссера, художника, актеров.
Как и в других массовых картинах, все началось с импровизации.
На одной из репетиций, после того как девушки — подружки Сюзанны — поднесли графу букет, Константин Сергеевич крикнул из зрительного зала:
— А теперь попрошу старушек взять на себя церемонию бракосочетания Марселины!
Мы должны были выводить Марселину и Бартоло.
Гаира и я несли букет, который был снизу обернут мешковиной, как бы от колючек (деталь, которую Константин Сергеевич нашел сам, выходя на сцену и ища вместе с нами ритм подхода к графу). Две другие старушки — Петрова и Петерсон — несли фату.
Подавая цветы, мы пели:
Новобрачным дай ответ,
Этих роз прими букет,
В знак невинности подруги
С ним вручаем мы тебе, о граф!
Разреши судьбу подруги,
Розы в руки ей отдав…[53]
Оттого, что этот куплет дублировал песню молодых девушек, но исполнялся старческими, немощными голосами, он действительно был очень комичен. Мы пели, а Станиславский подпевал вам из зрительного зала, подбрасывая каждой такие неожиданные певческие характерные детали, которые делали нас четырех совсем не похожими друг на Друга.
Когда граф — Ю. Завадский (чей смеющийся взгляд я помню до сих пор) брал у нас букет и передавал его Марселине, мы надевали на нее фату и вели к столу. Старушки были маленькими, а Марселина — Соколовская была женщина крупная. Этим Станиславский тоже воспользовался. Мы и сами понимали, что наша группа была очень смешной. В финале картины, по требованию Станиславского и по собственному {244} горячему желанию, мы танцевали. Кажется, ни одна роль не доставила мне такого веселого, радостного удовольствия, как энергичная старушка из «Женитьбы Фигаро»…
Исключительно интересен был тот необычный момент работы, когда после длительного периода репетиций видоизменялись декорации.
Импровизации рождали необходимость новых деталей, и Станиславский, сохраняя принцип свободно найденных мизансцен, придавал им законченную пластическую выразительность. Н. М. Горчаков в своей книге «Режиссерские уроки Станиславского» описывает головинскую декорацию «свадьбы»; по мысли Станиславского, она справлялась на «заднем» дворе замка. Три белые штукатурные стены, крытые по верхнему краю красновато-желтой черепицей. Над ними — синее южное небо. В одной из боковых стен простые деревянные ворота. «В правом углу сцены — громадная куча бочек, ящиков, разбитых скамеек — словом, склад какого-то деревянного хлама». Горчаков очень хорошо описывает и то, как мы все, участвующие в этой картине, устремлялись во «двор», как образовывалась пробка в воротах, как пробирались через толпу граф Альмавива — Завадский и графиня — Сластенина, как наконец кто-то догадывался положить на четыре бочки два больших щита, а на них уже — золоченые кресла с продранной обивкой.
Все, описанное Горчаковым, было одним из замечательных этюдов-«черновиков», организованных Станиславским.
А потом на сцене появились «сюрпризы». Около задней стенки оказалась каменная лестница в четырнадцать ступенек, с перильцами и площадкой; вместо кучи, в которую были свалены бочки, табуретки, лесенки, старьте кресла и стулья, возник водоем; за кулисами стояли приготовленные столы, скамьи, разные ткани, подушки, ковер. Мы ничего не понимали.
— Прошу всех прислушаться, — обратился к нам Константин Сергеевич, — вносим существенные изменения в картину. Я хочу, чтобы вместо случайного, почти стихийного возникновения праздника было видно, что народ знал о предстоящей свадьбе и готовился к пиру, на котором надеялся выудить у графа отказ от позорного права на первую брачную ночь невесты. Я хочу, чтобы народ собственными руками преобразил двор под свадебное пиршество, чтобы на свадьбу были приглашены музыканты, чтобы был продуман весь «порядок выходов»…
О, великий, хитрый, мудрый режиссер! Весь «порядок выходов» был у него уже давно продуман, но нам он сказал, что у него только два желания. Первое, чтобы лестница была отдана музыкантам, которые начинают играть еще за кулисами и продолжают играть, входя и располагаясь на лестнице и на ее площадке. Второе, чтобы граф и графиня обязательно в первой части сцены каким-то образом оказались на водоеме, а потом — во главе одного из столов.
{245} Работа закипела. Мы тащили столы и скамейки на сцену, покрывали их какими-то тканями, бутафоры, сразу же включившиеся в игру подносили нам всевозможное бутафорское угощение. На водоем были водружены стулья для графа и графини. А около одного из столов поставлены два старых кресла.
В. В. Лужский тащил небольшой стол. «Для подписания брачного контракта», — говорил он тем, кто протестовал против этого столика.
Станиславский, командующий расстановкой предметов, и, как по мановению волшебной палочки, неизвестно откуда заполняющие всю сцену рабочие сцены, готовые угадать не только по движению руки, но по малейшему повороту головы Константина Сергеевича любое его желание, — это одна из картин, которые трудно забыть.
Столы и скамьи, которые мы принесли на сцену, теперь были поставлены так, что вписывались в декорации и образовали замечательную композицию. Все было продуманно, удобно и красиво.
Поставленные нами на водоем стулья были заменены скамейкой, а вместо двух старых кресел Станиславский распорядился поставить ушат и бочку и положить на них подушки. Этим графским «седалищем» он был очень доволен и пригласил Завадского и Сластенину на сцену, чтобы они проверили, насколько оно их устраивает.
Возвращаясь в зрительный зал, Константин Сергеевич еще раз внимательно оглядел сцену:
— А теперь прошу народ точно запомнить, что где стоит. Уйдите за кулисы, договоритесь о действиях каждого. В убранстве двора должны участвовать все…
Этот этюд мне особенно запомнился. Не только потому, что мы делали его с удовольствием, — в ту пору мы делали с наслаждением все, что исходило от Станиславского. Запомнился потому, что особенно понятными стали смысл и необходимость этюда. Станиславский отлично знал, что сцену будут обставлять рабочие, что мебельщики будут ставить мебель, бутафоры тоже займутся своим делом, а мы не будем иметь права выйти на сцену, пока она не будет готова. Но, заставляя нас делать этюд, он посеял в душе каждого из нас удивительное ощущение. Это был наш двор, это мы придумали, как обставить его, это мы притащили сюда все предметы. Празднуется свадьба нашей Сюзанны, нашего Фигаро!
Трудно было отдать предпочтение какой-нибудь одной сцене «Женитьбы Фигаро» — одна казалась лучше другой. Пятый акт, например, был просто чудом режиссерского искусства!
… Большой сад при замке. Сцена раскрыта во всю глубину. По саду разбросаны боскеты из подстриженной зелени, беседки, деревья в кадках, фонтаны, скамейки. Вокруг всей сцены до порталов развернута панорама, на которой написан тоже уходящий в глубину сад. Лунный {246} свет в сочетании с цветными фонариками, украшавшими беседки, создавал удивительную атмосферу неповторимой ночи, наступление которой волновало всех действующих лиц «Безумного дня», — это была ночь, во время которой распутывалась так сложно и тонко завязанная интрига.
Вращение круга теперь стало избитым приемом, но в 1927 году в «Фигаро» круг производил ошеломляющее впечатление. В то же время это вращение не воспринималось как технологический прием, — оно сливалось с тем искрометным движением, которое было в ритме всего спектакля.
В мизансценах этого акта было столько блестящей, гениальной, во истину моцартовской шалости, что теперь, вспоминая о том, как это все искалось, рождалось и оттачивалось, нещадно ругаешь себя за то, что многое не удержалось в памяти и забылось.
Открывался; занавес. Сад, прихотливо освещенный луной. Песня за кулисами, и… зритель уже в плену у Бомарше, Станиславского, Головина. (И Глиэра, — ведь песни из «Фигаро» распевала вся Москва!)
А на фоне песни, крадучись, в поисках Керубино выходит прелестная Фаншетта — Бендина. Бендина играла удивительно — с таким своеобразным юмором, что не поймешь, глупенькая эта Фаншетта или самая хитрая из всех девчонок.
Фаншетта молниеносно скрывалась в беседке, так как, распевая, на сцену выходило трое — девушка и два молодых человека.
А потом следовал монолог Фигаро!
Я помнила, как читал этот монолог Южин — он непосредственно апеллировал к гражданским чувствам зрительного зала, с блеском защищая своего Фигаро.
Станиславский искал в этом монологе, казалось, совсем иное — органическую жизненную связь его с предлагаемыми обстоятельствами пьесы.
Сюзанна передала графу записку. Она назначала ему свидание. Сердце и мозг Фигаро отравлены подозрением. Ревность обуяла его.
Горяча воображение Баталова, Станиславский звал его на дорогу борьбы, мысленной дуэли с графом.
Для этой борьбы Баталову — Фигаро нужна была уверенность в своих силах. Ему нужно было опираться в своих мыслях не только на свое чувство, на свою любовь. Нет, ему нужно было противопоставить свою личность личности графа.
«Что вы совершили, чтобы иметь столько благ? Вы дали себе труд годиться — больше ничего. Не то что я, черт возьми!»
Возникало горячее сравнение и соревнование человеческих характеров — Фигаро и графа Альмавивы.
{247} И Баталов учился — под беспрерывным, порой мучительным контролем Станиславского — бросать в лицо воображаемому сопернику свою биографию, свое прошлое, в котором, для того чтобы существовать, надо было «проявить больше знаний и изворотливости, чем всем правителям Испании». Сюзанна была непосредственной живой причиной того, что у Фигаро именно сейчас, именно здесь возникла непреодолимая потребность окунуться в свое прошлое. Это прошлое сейчас было нужно Фигаро!
Блестящий «литературный» монолог сочетался с беспрерывным развитием действия.
Поэтому последние слова монолога: «Сюзон, Сюзон! Сюзон! Сколько страданий ты мне причиняешь!» — вырывались у Баталова как естественный итог всего прочувствованного.
Во время монолога Фигаро несколько раз опять звучала любовная песня, еще больше сгущая атмосферу любовного томления этой ночи. А дальше — приход Сюзанны, наряженной в платье графини, графини, переодетой в платье Сюзанны, и Марселины, готовой во всем помогать своей недавней сопернице.
|
|