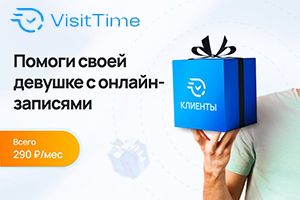Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Часть 13
|
|
Миньшо с нетерпением разрывал темную неприятную бумагу конверта, хотя и знал, что может найти в нем только очередной привет оригинальности брата, который, как казалось Миньшо, был категорически неспособен писать длинные письма или вообще более-менее внятно выражать мысли на бумаге.
- И он еще собирается быть послом, - пробормотал Миньшо, вытаскивая из конверта короткий ободранный листок, вырванный, очевидно, из блокнота. На листке коряво, но все же понятно изображены две фигуры в весьма непристойной позе: одна в коротких шортиках с ободранной каемкой и огромными косыми глазищами сидит между ног другой, очевидно, наслаждаясь словно отпиленной по кисть конечностью, обрубок которой заканчивается аккурат там, где начинается пояс шортиков. – Придурок, - бормочет Миньшо, стараясь отогнать от себя разбуженные картинкой воспоминания и толпу мурашек, пробежавших по бедрам. – Идиот какой.
Миньшо кладет листок на стол и забирается на кровать, глядя за окно на то, как дождь поливает серые деревья, и все-таки не может задушить в себе улыбку, которая прорывается на уголках губ – Лухан всегда такой. Он уже присылал ему письма, состоящие из десяти строчек, в каждой из которых было только его собственное имя и ничего больше, были листки, выдранные из хрестоматии по китайской литературе, где Лухан издевался над главными героями, подчеркивая самые пафосные и прочувствованные фразы, и оставлял на полях такие комментарии, читая которые Миньшо краснел и вспоминал, какие два ужасных и неприличных слова Лухан всегда любил больше остальных.
С особой нежностью Миньшо вспоминает послание, состоявшее из совершенно бессмысленных, словно сумасшедшим написанных предложений – такой чепухи Миньшо не читал никогда в жизни и порядком взбесился, про себя советуя Лухану не тратиться на конверты, когда он в очередной раз соберется порадовать его подобным бредом – пока его глаза случайно не зацепились за сильно выделенные заглавные буквы, которые складывались в фразу, вроде акростиха.
И этой фразой было «Я люблю тебя».
Лухан каждый раз словно издевался, но при этом все же умудрялся сказать ему то самое важное, ради чего вообще стоило ходить на почту и опускать эти конверты в ящик – и Миньшо, наверно, был ему благодарен за то, что он никогда не жаловался, не говорил, как сильно скучает, хоть и представлял, как Лухан бесится. Как вообще такой, как Лухан, может раздражаться – Миньшо до сих пор не забыл удары ремня по своей заднице и словно окаменевшие пальцы брата, которые он так и не смог оторвать от себя в тот день, когда Лухан сказал «люблю».
Сам Миньшо письма писал длинные, как его тоска, выражался с достоинством профессора литературы и рассказывал все в таких подробностях, что начинал бояться, что Лухан эти письма не дочитывает, бросая в ящик – и тогда пытался притворяться клоуном и хоть немного развеселить брата: он рассказывал о новичках-старшеклассниках, которые, наслушавшись ходивших по школе слухов о том, что дурачок Миньшо – легкая мишень, принялись его травить. Миньшо рассказал (опустив почему-то свои рассуждения о смысле жизни, сформировавшиеся у него, когда он, припомнив, что в его поведении всегда раздражало самого Лухана больше всего и буквально будило в нем садиста, пришел к выводу, что не должен больше казаться забитой ревущей деревенской пастушкой), как сумел отвадить от себя самого пакостного новичка: «…я укусил его, представляешь? Скомандовал своему медведю ‘Кусай’ и вцепился зубами в его бедро, как сумасшедший…». Миньшо даже представлял, как Лухан, читая, с недоверием округлит глаза и скажет:
- Что-о-о?
И как будто был рядом с Луханом, продолжал: «теперь все думают, что у меня с головой не в порядке, боятся подходить и отказываются жить со мной. Так что я теперь один в комнате, веришь?»
Миньшо отказывал себе в удовольствии приписать «я один в комнате и очень скучаю по ночам, когда представляю твои руки…», хотя ему нестерпимо хотелось подразнить себя и Лухана. Миньшо знал, что лучше говорить как можно меньше вещей, которые могут оказаться опасными для них обоих, потому что полагал, что спрятать письма брату негде, да и даже замок на ящике стола не всегда способен сохранить тайну, как показал ему сам Лухан. А кроме того Миньшо все не мог выбросить из головы приписку, до которой снизошел брат в одном из первых писем: «Вуфань здесь, представляешь? Сам вызвался жить со мной, между прочим… И за лето его маленькая проблема ничуть не подросла, можешь мне поверить. Я подарил ему справочник по венерическим болезням, и теперь он каждый вечер зачитывает мне куски, которые его впечатлили больше всего».
Миньшо старался держать себя в руках, как мог, но Лухан, наверное, был прав тогда, когда назвал его истеричкой – как бы Миньшо ни пытался контролировать свое настроение, иногда плоскости в его голове словно переворачивались, и он оказывался под водой, которая душила его. Он захлебывался слезами, капал ими на бумагу, размазывая чернила, проклинал свою жизнь и, разрывая бумагу острием ручки, царапал Лухану признания одно за другим. Миньшо закапывал бумагу не только слезами, но и ядом из своего сердечка, рассказывая Лухану, как его тело скучает по поцелуям и ласкам, как отвратительно он хочет хотя бы на день вернуться в их лето, чтобы искусать губы Лухана и отдать ему свое замученное тельце. Миньшо выревывал свое отчаяние на страницы, вытирал слезы, и, успокоившись, ровным почерком делал приписку: «Ну вот, я проревелся. Пожалуйста, сожги это письмо, я не хочу, чтобы ты его перечитывал, и уж тем более не буду рад, если оно попадет в руки Вуфаня». Миньшо заклеивал конверт, взвешивал на ладони и в последний раз задумывался над тем, стоит ли его отправлять – но ему почему-то нравилось представлять, как Лухан будет его читать, как в последний раз пробежит глазами по строчкам, прежде чем поднести спичку ко краю листа, как плотная бумага неохотно загорится, а потом холодный ветер вырвет из пальцев Лухана серые ломкие пепельные диски и растащит его тоску по осени, по омерзительным отчаянным лужам и сырой чавкающей земле.
Миньшо иногда кричал бумагой, которую Лухан, как он надеялся, все же сжигал, брат посылал ему похабные картинки – а кроме этого ничего не было. Только осень кружилась все быстрее, земля каждое утро застывала все глубже, а Миньшо как скучал отчаянно каждый день, так и продолжал – сидя на уроке, смотрел в окно, подперев щеку ладонью, и видел перед глазами не паутину первого опускающегося с неба снега, а синее летнее небо с легкими пушистыми облаками.
Миньшо напрасно боялся, что Лухан не дочитывает его письма – наоборот, через полтора десятка страниц привыкнув к профессорской изысканности, с которой братик выражал свои мысли, Лухан завел привычку перечитывать письма брата по нескольку раз, подолгу задумываясь над некоторыми фразами, за которыми он почти слышал голос Миньшо. Лухан так и сидел, прислушиваясь к звукам этого голоса в свой голове, держал в руках страницы письма и смотрел перед собой в одну точку, как сумасшедший, пугая Вуфаня.
Вуфань умирал от любопытства, глядя на своего соседа, вновь зависшего над письмом – Лухан смотрел на чернильные строчки так долго, что ему казалось, что он, должно быть, успевает выучить содержание письма наизусть к тому моменту, когда откладывает его в ящик стола и выключает свет, забираясь под одеяло. Вуфаня мучило не только любопытство, но и зависть – Лухан вообще, казалось, как-то изменился за лето, стал взрослее, перестал интересоваться разговорчиками про барышень и пошлым шуточкам смеялся лишь за компанию, без прежнего веселья, а уж когда принимался за чтение очередного письма, выражение его лица становилось совсем странным, мечтательным и отсутствующим, его даже дозваться было невозможно. Вуфань как-то (совершенно случайно, Лухан просто вышел за чем-то, оставив конверт на кровати) прочитал одно из писем: ровные аккуратные строчки рассказывали о совершенно обычных и, на взгляд Вуфаня, довольно скучных вещах – о том, какой отвратительный завтрак пришлось проглотить автору и как холодно в начале ноября на улице без перчаток. Вуфань бы и отстал от своего соседа – ну мало ли почему он интересуется этим человеком, не носящим перчаток – если бы не знал, что были и другие письма. Письма, которые Лухан читал, вцепляясь расставленными пальцами в волосы, пока его глаза словно стекленели. Письма, которые, Вуфань видел, Лухан сжигал во дворе школы, за углом, где обычно никто не появляется, а потом остаток дня ходил то ли злой, то ли просто нервный. Любопытство сжигало Вуфаня, потому что ни на одном из конвертов не было даже обратного адреса, только штамп их родного города.
Что-то было в этих письмах такое, что было очень небезразлично хулиганистому и беспринципному соседу, и Вуфань хотел бы докопаться до истины, чтобы перестать завидовать влюбленному – а в конце концов Вуфань уверился, что только дела сердечные Лухань мог скрывать с такой тщательностью – выражению его лица, когда он получал новый конверт.
Застав соседа в очередной раз за чтением, Вуфань решился-таки попытаться извлечь на свет божий того, старого Лухана, который нравился ему гораздо больше, потому что своей неиссякаемой фантазией вечно втягивал его в какие-то дурно попахивающие авантюры и в убогой нагоняющей тоску школе хоть как-то помогал бороться с унынием.
- Эй, - Вуфань постучал носком по кровати соседа, - мы так и не сходили в бордель.
Лухан убрал письмо и поднял на него насмешливые глаза:
- Что, дозрел? Гонорея больше не пугает?
- Она меня никогда и не пугала, - соврал обидевшийся Вуфань. – Не факт ведь, что мы обязательно можем что-то такое подхватить.
- Ага, - кивнул Лухан. – Можно залететь на что-нибудь похуже вроде сифилиса. Надеюсь, этот справочник, который ты читаешь, не упустил ни одной прелести в описании этого прелестного недуга.
Вуфань скривился, но отступать было некуда – наоборот, он хотел самого Лухана загнать в угол.
- А ты что, теперь бережешь свою девственность для кого-то особенного? Или вообще, того… уже?
Если бы Лухан сказал, что у него уже было летом, Вуфань ей-богу разревелся бы, но сосед только похлопал глазами:
- Ничего я не берегу, просто… - Лухан подумал о любимом братике, вспомнил, как сладко он просыпается, как дико и непонимающе моргает глазками, как ребенок, такой чистый и нежный, что впору заплакать. - Она мне жить не мешает.
- Ну неужели не хочется? – не отставал Вуфань. А потом пакостливо улыбнулся: - У тебя астма, наверно, что ты по ночам так тяжело дышишь, да?
- Пошел ты, - уличенный в греховных привычках Лухан кинул подушкой в соседа, но Вуфань и невозмутимость – это почти одно и то же.
Невозмутимость и Вуфань.
- Ну так что, идем?
Лухан повозился на кровати, подумал о том, что его бедное кое-что скоро, очевидно, взорвется, если он продолжит теребить его руками по ночам (да еще и, как оказалось, на радость чуткому слуху Вуфаня), и, потянувшись, ответил:
- Хорошо. Завтра.
Ей лет тридцать пять – выдают морщинки в уголках глаз и в глубоком вырезе платья, маленькие складочки на шее и груди, будто помятость. Талия под корсетом кажется привлекательно узкой, но Лухану нравится даже не это, а густо и не очень аккуратно, так что видны комочки туши на ресницах, подведенные глаза. Они черные, совершенно непроглядные, но когда Лухан смотрит в них, он отчетливо понимает, что ему в два раза меньше лет, чем ей – и это позволяет угольным глазам глядеть на него мягко и насмешливо.
Они и так уже несколько минут будто в гляделки играют – Вуфань где-то там смеется с той, которая досталась ему, держит ее на коленях, угощает шампанским – а Лухан таращится в эти глаза, удивляясь самому себе, потому что то, что он видит, как-то не вписывается в его привычное определение «блядь», и, если бы он мог забыть о Миньшо, эта несвежая, но загадочная женщина могла бы доставить ему удовольствие.
- Что ты смотришь так на меня? – наконец, спрашивает Лухан.
- Ты много пьешь, - она кивает на бокал с шампанским в его руках. – Боишься?
Лухан отрицательно качает головой и надеется, что она ему поверила.
- Вы оба девственники, - задумчиво говорит она, - по вам видно. Но при этом ты меня не хочешь, правда?
- Неправда, - упрямо отвечает Лухан.
- Тогда… - она перекладывает руку Лухана себе на грудь, - докажи.
Лухан думает, что раз она хотела от него смелости, он ее покажет – он уверенно спускает вырез платья, вытаскивая грудь над корсетом, так что торчащие соски кажутся невероятно возбуждающими, и, поглаживая их головки пальчиком, наклоняется, чтобы поцеловать.
Она смеется.
- Что тебе опять не нравится? – улыбается Лухан, продолжая ласкать широкие темные пятна сосков – его рука кажется совсем молодой на несвежей коже, так что он гладит их нежно и с каким-то сожалением, понимая, почему она придерживает его руку своей и не позволяет оторваться.
- Понимаешь… Сюда ходят мальчишки, как вы, чтобы стать взрослыми, или вроде того…
Лухан оглядывается на Вуфаня и хмыкает:
- Вроде того.
- Некоторые, - она продолжает, - только целуют, целуют много, никогда не трогают сами, и приходится взбираться на них и ну… пока они не кончат.
- А другие?
- А другие рвут одежду, оставляют синяки на груди… Они ставят на колени и всаживают, как в мясо, членом, пальцами, чем угодно.
- Возбуждает, но, наверно, не очень приятно, - делится соображениями Лухан, допивая бокал.
- Совсем нет. Но иногда везет, и появляются такие, как ты.
- А какой я? – вкрадчиво спрашивает Лухан, выпивший уже достаточно, чтобы любой комплимент грел его сердце.
- Грубый и нежный одновременно, - она с улыбкой смотрит вниз на свою грудь, затвердевшие головки сосочков которой Лухан поглаживает раскрытой ладонью. – Ты можешь взять с силой, но это не будет неприятно.
- Зачем ты льстишь мне? – Лухан наклоняется близко к ее губам, и она смеется в ответ:
- Так платят больше.
То, что она назвала Лухана хорошим любовником, изрядно его подстегнуло, и он охотно принял ту роль, которую ему выделили, накрыв один из сосочков ртом, чтобы вылизать его и сделать ей приятно. Шелковистый коричневый кружочек весь пошел складками, сморщился и торчал так вызывающе, что Лухан прищипнул его губами, заставив ее выдохнуть.
- Маленький зверек, - поддразнила она, и Лухан поцеловал снова, сминая нежную грудь руками, ладонями ощущая приятную наполненность и застрявший между пальцев сосочек.
- Мы будем делать это здесь? – Лухан оглянулся на Вуфаня, который тоже был занят поцелуями.
- Если хочешь, мы можем уйти. Но смотреть, как кто-то занимается этим, приятно, поверь.
- Хорошо, - сказал Лухан, толкая ее на диван.
Ее рука с длинными сильными пальцами легла на его брюки, сжала, принялась ласкать, но Лухан почему-то мог думать только о том, насколько ее уверенные прикосновения отличаются от ласки робкого Миньшо, который и дышать-то боялся, когда трогал его, который плакал от стыда и краснел от желания…
Лухан встряхнул волосами и вернул свое внимание полураздетой женщине под ним. Он задрал подол и, погладив обернутые в чулки бедра, сквозь ткань прижал пальцы к щелочке, почувствовал, как она задрожала, поласкал сильнее, представил нежные складочки, которые разойдутся под его напором.
Черт.
Лухан поцеловал ее снова, грубее, чем раньше, но его мысли, кажется, прочно направили поток в сторону любимого братика. Он целовал ее и во вкусе ее рта чувствовал всех, кто целовал ее раньше, ее возраст, ее потрепанность и несвежесть, сравнивал с нежным ротиком Миньшо, который ощущался изумительно чистым, даже если его язычок был черным от ягод. Целовать Миньшо было все равно что пить холодную воду из чистого графина… а не из этой захватанной кружки.
Сосочки Миньшо на вкус и цвет были хризантемами, два пятнышка на белом до одури теле, а эти два больших кружочка, как бы нежно Лухан ни пытался обходиться с ними, вызывали в нем больше жалости, чем обожания.
Ее рука в расстегнутых брюках, ее потрепанное тело, все ее клиенты… Лухану замер над ней, не находя в себе сил шевелиться дальше.
- Ты меня не хочешь, - наконец, сказала она. – А жаль.
- Прости, - пробормотал Лухан.
- Ничего, - она снова улыбнулась и коснулась его лица. – У тебя глаза странные. Как будто кто-то стоит перед тобой, и ты видишь только эту тень.
Лухан невесело хмыкнул.
- Любишь кого-то, да? Поэтому и не хочешь?
- Я люблю того, кого нельзя, - признался Лухан. – И не могу ничего с этим поделать.
- Так мило, - она рассмеялась. – Я давно забыла, каково это… Давай, иди отсюда. Тебе тут нечего делать.
Лухан поднял на нее удивленные глаза, позволил чмокнуть себя в губы и услышал:
- Такой молоденький, такой хорошенький. Уходи и не возвращайся. И друга своего забери.
- Твою мать, как ты заебал меня, - Вуфань встряхивал пьяного в хлам соседа и был готов надавать ему по щекам, чтобы Лухан перестал хохотать. – Какого черта ты делаешь?
Ярость Вуфаня была вполне понятной: Лухан мало того что стащил его, полуголого, с той девки, всунул одежду в руки и вытолкал за дверь, так еще и пил потом какую-то дешевую дрянь прямо из горла, быстро дойдя до неадекватного состояния.
А теперь вот веселил его истерическим хохотом на темной пустой улице, пугая редких прохожих.
- Я люблю так сильно, ты, наверное, не понимаешь, - смеялся Лухан, и Вуфаню казалось, что он вытирает настоящие слезы рукавом своего пальто.
- Ну и кого же ты так сильно любишь? – насмешливо спросил Вуфань, думая, что пьяный Лухан способен разболтать свой грандиозный секрет.
- Кого-то, - загадочно сказал Лухан, к разочарованию Вуфаня, не спешивший радовать его пьяными откровениями. – И, поверь мне, Фань, когда ты полюбишь так же, ты не захочешь делать этого с кем попало. – Лухан ткнул пальцем ему в грудь и закончил: - Так что спасибо скажи, что я увел тебя оттуда.
- Ну да, как же, спасибо я тебе скажу, - шипел Вуфань, толкая соседа в спину, который снова хохотал и бесил его своим смехом.
- Теперь ты можешь отдать себя тому, кого действительно хочешь видеть под собой, - Лухан продолжал громко разговаривать с темнотой, и Вуфань поднял воротник повыше, надеясь, что их не узнают. – Целиком, понимаешь? Не растащенного по кусочкам.
- Идиот.
А Лухан смотрел в темное небо, по которому текли дымчатые морозные облака, перекрывавшие блеск звезд, смеялся и плакал, глотал из своей бутылки, мерз… И думал о том, что действительно хочет отдать себя Миньшо таким же чистым, каким хотел видеть самого братика.
Миньшо раскатал губы в своей сомнительной монстроподобной улыбке, когда заметил чернила на листе бумаги, который вытащил из конверта – неужели Лухан вновь снизошел до человеческой речи, а не детских картинок?
Миньшо торопливо развернул листочек и принялся читать, но быстро помрачнел после первой же строчки.
«А я в борделе был», - писал Лухан.
Миньшо ненавидящими глазами уставился в стену и принялся про себя проклинать братца, себя самого, свою никчемную жизнь, сминая листок в кулаке. По сути, это не должно было его волновать – Лухан был достаточно взрослым, чтобы развлекаться со шлюхами, достаточно нетерпеливым, чтобы не соблазниться продажной дырочкой вдали от него…
И сука! Сука! Сука! Какая же он сука…
Миньшо развернул листок бумаги и продолжил читать.
«Но ты не бойся, ничего я там не делал. Просто из любопытства пошел, посмотреть. Не поверишь, они там такие страшные, неприятные какие-то, несвежие. Честно, я лучше еще лет десять подожду кого-нибудь строптивого, кто все лето меня с носом оставлял, чем с такими буду того самого».
Идиот…
Миньшо вытянулся на кровати и шмыгнул носом, в котором уже набралось того, чем он собирался пореветь над похотливостью одного ублюдка, а потом улыбнулся – почему-то пока все шло подозрительно хорошо. Наверно, если бы они с Луханом до сих пор жили рядом, они бы успели уже миллион раз подраться и поорать друг на друга – а так, издали, казалось, что ничего не существует, кроме любви и бесконечной тоски.
Интересно, что будет, когда они снова смогут увидеться?
Миньшо снова поднес листок к глазам и начал читать оставшийся абзац.
«Впрочем, теперь я могу с уверенностью сказать, что приеду домой на Рождество. И должен признаться тебе, что, как только окажусь дома, все-таки собираюсь получить то, чего жду уже достаточно долго».
Миньшо перевернулся на кровати и уткнулся лицом в подушку, потому что щеки горели просто невыносимо.
Что будет, что будет…
Лухан сказал это прямым текстом.
|
|