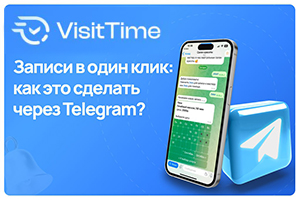Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Часть 10
|
|
Лухан не понимает – как можно любить и не прикасаться, не целовать, не трогать…
Это неизбежно: как только Миньшо оказывается с ним наедине, Лухан ласково перетекает в горизонталь – покрывало кровати, зеленая еще трава – подминая уступчивого братца под себя. И даже если его руки – как сейчас – не несут в ладонях обычного голодного пожара, который выжигает на братике одежду и струится под резиночку его белья, он не перестает чувствовать в поцелуях вкус ротика Миньшо, не забывает о хризантемах сосочков под его рубашкой и не может не замечать под своей ширинкой упругую штучку, на которой так весело подпрыгивать, если ему хочется разбудить в братике истеричного неудовлетворенного зверька.
Шоколадные волосы Миньшо настолько хороши на высыхающей траве, а облака над головой собираются в стаи так, что Лухан может только глупо улыбаться им, отмечая, что их нестройное посеревшее к концу лета сборище как отметины на теле времени – череда дней, что он был зол, как черт, выискивая, к чему бы придраться, чтобы поставить Миньшо на колени и полюбоваться на его размазанные по лицу слезы… Дней, когда он так же, как сейчас, лежал на братике и заставлял принимать его поцелуи – он скучает по страху в глазах Миньшо и отчаянному вранью, которым оправдывал свое влечение в собственных глазах, скучает по пыльной корке библии, которую давно потерял в хламе своей комнаты.
Все эти дни были словно репетицией сегодняшнего – когда он вдавливает братишку в землю, целует, как божество, и чувствует себя абсолютно счастливым и влюбленным, ловя мягкие ласковые блики в огромных глазках братишки, который лежит под ним с растрепанным ротиком и удивленным выражением своей нежной мордочки, словно ребенок под рождество, ждущий подарка. Лухан знает, что Миньшо никогда не получал подарков, ни от него самого, ни от кого-либо еще, и думает, что это стоит исправить – черт возьми, да он готов выпотрошить эти облака над головой и подарить Миньшо самую нежность составляющих их капелек, несущихся к закату лета под меланхоличным августовским ветром.
Братишка заставляет его сходить с ума сильнее с каждым днем – и Лухан широко раскрытыми глазами следит за тем, как растворяется его рассудок в облачном рисунке безумия и… Миньшо необязательно знать, что выросло у него внутри вместе с этим сумасшествием – он пока не собирается давать ему в руки все карты.
Лухан устает держаться на локтях и перекатывается на спину, укладывая Миньшо на себя – Миньшо улыбается этой своей дурацкой улыбкой, над ним в графитовом небе скользят облака, и Лухан говорит:
- Дождь пойдет.
Миньшо втягивает носом воздух и прикрывает глаза, соглашаясь:
- Да, сыро.
Дьяволы внутри Лухана отплясывают адовы танцы, и ему безумно хочется сказать какую-нибудь гадость насчет этого «сыро», связав его с шортиками братца и его совершенно постыдными реакциями на ласки, от которых его тело предусмотрительно начинает выделять столько вязкой, дурящей запахом теплой влаги, что, будь он женщиной, Лухан бы, пожалуй, уже не смог сдерживаться, но дурачок Миньшо, ничего не зная о дьявольских плясках, наклоняется к нему и тихонько и нежно целует в уголок губ, стискивая пальчиками воротничок рубашки брата.
И Лухан едва ли не мурлыкает от удовольствия, еще и еще ощущая эти невесомые, полные привязанности поцелуйчики – он достаточно умен, чтобы понимать, что Миньшо не принадлежал ему так, как сейчас, с этими доверчивыми чмоками, даже когда он облизывал сочную похотливую игрушечку и, глотая, слушал задушенные в закушенной губе всхлипы братика. Миньшо никто не заставляет наклоняться к нему и, вкладывая что-то пугающе счастливое в прикосновение губ, целовать его в уголок рта – Миньшо делает это с охотой и по собственной воле, не боясь, что Лухан оттолкнет, не прячась внутри своей смешной застенчивости и дурацкой робости. Лухан думает, что ему очень и очень повезло с братиком, которого отчаянное одиночество толкнуло ему прямо в руки – Миньшо ни разу еще не хныкал и не ломался из-за того, что они братья и им нельзя. Лухан с удовольствием каждый раз, что целует брата, думает, что запуганный Миньшо на самом деле, в самой сердцевинке своей нежной души, такой же крепкий и отчаянный, как он сам, как вся их порода – способный переступить осуждение и чужую неприязнь, если его привязанность окажется сильнее.
- Ненавижу эти твои поцелуйчики, - жалуется Лухан, отворачивая лицо от братика и пряча улыбку за плечом в травяных колосках. – Как будто я не целовал тебя уже везде и не видел всего самого неприличного на твоем теле.
Миньшо пораженно замирает, хлопая ресничками, будто Лухан заехал ему по лицу – ему казалось, что Лухану тоже нравится, когда он так делает, а выходит, что брат все еще считает его дурачком. Запястья Миньшо безвольно повисают, выпавшие из пальцев брата, и он собирается слезть с его живота – раз уж Лухану так противна его искренняя нежность – переставляя колено через чужое тело. Но Лухан ловит его тут же и заставляет остановиться, весело, торопливо и с неприкрытым восторгом спрашивая:
- Эй-эй, ну ты что, обиделся, да?
Миньшо поднимает глаза на его лицо, озабоченное выражение которого не совсем сходится со словами – а мягкий влюбленный блеск в глазах залег так плотно, что Миньшо будет видеть его, даже если попытается игнорировать – и он с удивлением понимает, что Лухан врет.
В словах Лухана правды всегда меньше половины – ничего не изменилось с тех пор, как брат заставлял его лить слезы в макушку коричневого медведя, которого Миньшо забыл на полке с книгами и о котором уже пару недель как не вспоминает.
Лухан – цитадель вранья, хитрого, трусливого, глупого, болезненного… Миньшо с тоской думает о том, что умудрился совершить кошмарную ошибку не только потому, что нехорошо, зависимо, слепо влюбился в собственного брата, а потому, что его брат – совсем не хороший человек, ему очень далеко до того же Син-Сина, с которым Миньшо всегда было легко и уютно. Миньшо такой голодный до ласки, ему так хочется, чтобы его просто пожалели, пожалели то в нем, что сопротивлялось десять лет и все еще живо, но от Лухана этого добиться невозможно – Лухан будет ласкать его только после того, как макнет головой в грязь и обзовет блядью, будто это слово оправдывает его предосудительную нежность, которой просто не должно быть.
Улыбка стирается с губ Миньшо, пока Лухан не видит, и заполняется горьким, как сок алоэ, застрявшим в уголках – Миньшо с тоскливым вздохом опускается обратно на брата, спрятав лицо у него на животе под ребрами и обняв руками за пояс – ему и правда иногда нужно это тепло, чистое, принадлежащее брату, без издевательских пощечин и оскорблений.
Лухан эту горькую улыбку действительно не заметил – да и не понял бы, что внезапно повергло братика в пучину грусти и отчаяния – самое большее, на что была способна его неуемная натура, так это принять факт, что черные тучи (о которых он не мог говорить без издевки, если честно) часто накладывают свою тень на нежное сердечко братика, и он от душевных щедрот решал, что в такие моменты самым умным будет просто не трогать его, позволяя обнимать себя и горячо дышать в живот. Лухан смотрел на облака, положив руку под голову, и лениво гладил Миньшо под воротничком рубашки, не думая совершенно ни о чем – он искренне считал, что иногда надо позволять себе расслабляться и, как бы это выразиться, опустошать сознание, изнуренное хитроумными изобретениями пакостей, которыми он горазд был радовать ближних своих – и братика в первую очередь, конечно.
Вереница облаков, сочащихся в небе из одного конца в другой, чтобы собраться графитовой подушкой на юге, усыпляла, и Лухану в конце концов надоело скучать – он решил, что дал братишке достаточно времени, чтобы предаться грусти.
- Эй, Миньшо, - позвал он, и дождавшись, когда братик поднимет голову и уставится на него своими кошмарными полнолунными глазами, спросил: - тебе снится что-нибудь?
Миньшо помотал головой и прикусил губу, дожидаясь, когда Лухан объяснит, зачем спросил.
- А мне вот снится один сон… - Лухан внезапно подтянулся и снова перевернул их, опускаясь так, чтобы Миньшо не смог выбраться из-под его тела. – Ча-а-асто снится, - протянул Лухан, облизывая губы, прежде чем поцеловать Миньшо.
Зацеловать Миньшо было частью плана, и Лухан старательно приводил его в жизнь, покусывая и посасывая сладкие губки озадаченного братика. Миньшо совсем не понял, что это за разговор про сон и как он связан с языком брата, поглаживающим его рот изнутри, и в конце концов просто сдался, обмякнув под напором Лухана.
- Так вот, про сон, - Лухан словно вспомнил забытое, перестал целовать и уставился на личико Миньшо, пряча коварную улыбку, которая так и рвалась наружу, искривляя уголки губ. – В нем мне невыносимо горячо, тесно, узко и… так хорошо, Миньшо…
Лухан выдохнул последние слова с таким желанием, что в горле пересохло, хотя и сомневался, что невинный Миньшо что-нибудь понял. Он наклонился к уху брата и, осуществляя самую главную часть своего плана, прошептал:
- А потом ты возишься подо мной, встаешь на коленочки, и пока я глажу твою мягкую бледную попку, ты просишь меня входить глубже, брать тебя…
Бешеный толчок в грудь дает Лухану понять, что до Миньшо, наконец-то, дошло, но он готовился к этому – Лухан перехватывает руки брата и заводит за голову, невозмутимо продолжая:
- Брать тебя сильнее… Ты хныкаешь «Мне так хорошо, Ханни, пожалуйста, еще…», а я не могу тебе отказать и, - Лухан заканчивает без слов, имитируя качественные толчки, вдавливая себя в ширинку Миньшо с остервенением, которое было бы уместным в ситуации, которую он описал.
- Прекрати! – Миньшо не может вырвать руки, но от по-собачьи похотливо вжимающегося в него Лухана его искренне тошнит, и он пинается, как одичавший зверек. – Перестань!
- Нам обоим так хорошо, - несмотря на сопротивление, продолжает Лухан, - твоя нежность внутри сводит с ума, и я все смотрю, как мое тело исчезает в твоем…
- Замолчи!
- Твоя попка проглатывает меня, и ты задыхаешься от наслаждения…
- Заткнись!
Миньшо рыдает, горько трясет головой и жалко кривит губы, оставив попытки скинуть руки брата со своих – ему так противно и стыдно, боже, ему так жалко себя…
Лухану тоже жалко своего целомудренного братика, и он целует его сырые от слез губки, утешая нежными поцелуями – в этот раз ему не просто захотелось поиздеваться над беззащитным Миньшо, он чувствовал себя обязанным предупредить его о том, что, как бы он ни сдерживал себя, они скоро доиграются именно до этого, о чем Миньшо даже не может слышать без истерики, и пусть уж лучше он ревет сейчас, чем потом.
- Миньшо, - тихо зовет Лухан, лаская губами нежное ушко, - ты же знаешь, какую дырочку на твоем теле нам придется использовать?
Лухан чувствует себя дураком, но он совсем не уверен, что Миньшо хоть как-то осведомлен о том, как ЭТО должно происходить, и, посасывая бледную мочку, он продолжает выжимать из братика слезы:
- Не бойся, я буду нежен с твоими половинками, тебе понравится… Я сделаю это язычком, Миньшо, тебе не будет больно… Ты же любишь эти поцелуйчики, да, братик? А теперь представь, как мой язычок будет порхать прямо там, возле дырочки, пока ты не успокоишься… А потом ты почувствуешь меня внутри…
- Зачем, - всхлипывает Миньшо, стукаясь затылком об землю и проглатывая слезы, которые стекают по лицу, - зачем ты это делаешь?
- Делаешь что, братик? – Лухан ничего не может с собой поделать – слезы Миньшо будят в нем садиста. – Я все лето только этого и ждал – когда смогу раздеть тебя и… попользоваться.
Миньшо такой сладкий, когда рыдает в его руках, что Лухан готов слизывать слезы с его щек и умолять плакать сильнее, потому что эта вода под его губами святая, живительная, словно сок его любви.
- Неужели ты думаешь, что я делаю это, потому что люблю тебя? – продолжает Лухан. – Ты же не такой глупый, чтобы считать это любовью, братик? Я просто хо-чу тебя…
Лухан всегда врет. В словах Лухана правды всегда меньше половины, и Миньшо от злости и обиды бьется головой о землю, ударяя Лухана в грудь:
- Неправда! Ты врешь!
- Правда, - вкрадчиво отвечает Лухан, лаская носом сырую шейку.
- Нет!
- Да!
От бессмысленных слез и ударов о землю у Миньшо начинает болеть голова, и он затихает, закрывая глаза и пытаясь успокоить боль, которая не столько съедает его внутри головы, сколько сосет все тело. Он проглатывает слезы, проглатывает вместе с обидой, вместе с поцелуями Лухана, сыплющимися на щеки, и после минуты молчания тихо говорит:
- Я ненавижу тебя.
Лухан тихо смеется и ложится головой ему на грудь:
- Неправда.
Миньшо чувствует руки брата, обвившие его пояс, и думает, что, для полной симметрии, должен сказать «Правда» и услышать в ответ «Нет», но Лухан так замучил его уже, что он хорошо понимает, как бессмысленно спорить с братом – Лухан никогда не скажет ему тех слов, которых он ждет. Лухан трус и может только лежать на его животе и слушать, как он снова плачет из-за него.
Иногда Миньшо кажется, что выхода для него не будет никогда.
Он не может простить Лухана – не прямо сейчас – и в его руках совсем нет прежней ласки, чтобы запутать пальцы в его волосах, как он любит. Миньшо возится, сталкивая брата с себя, и сухо говорит:
- Встань, я хочу домой.
Миньшо проснулся от того, что его кровать сильно прогнулась – и он хорошо знал, кто это, еще до того, как чужая рука заползла под полосатую пижаму на живот. Миньшо разлепил глаза, сощурился на яркий солнечный свет из окна и повернул голову – Лухан поцеловал тут же, будто ждал. Миньшо недовольно замычал, заметив неприкрытую дверь, оттолкнул Лухана и возмущенно спросил:
- С ума сошел? А если кто-нибудь увидит?
- Никто не увидит, - беспечно ответил Лухан, откидываясь на подушку и прикрывая глаза ладонью, так что острая косточка на запястье проступила отчетливо, заставляя раздражение в Миньшо потухнуть. – Дядя уехал на три дня, все слуги разбежались. – Лухан игриво улыбнулся и потянул брата к себе, роняя на кровать: - Мы тут одни, если тебе чего-нибудь хочется…
- Спать хочу, - грубо ответил Миньшо, отпихивая руки Лухана от себя – если ему хочется лежать на его кровати, он не будет спорить, но трогать себя он позволять не собирался, все еще не простив Лухану той омерзительной сцены.
- Сучонок, - прошептал Лухан, замирая за спиной брата и разглядывая его лицо, залитое солнцем – с прикрытыми глазами и гладкими нежными щечками, которые хотелось ревновать даже к этому солнечному свету. Миньшо все еще дулся на него за тот разговор и не подпускал к себе, вырываясь каждый раз, что Лухан пытался затащить его к себе на колени, говорил, что у него болит голова, он устал и вообще разбит жизнью. Лухан свирепел, но не отпустить было себе дороже – Миньшо сидел рядом и старательно изображал из себя мученика, глядя на него огромными собачьими глазами, полными абсолютного страдания. Лухан терпел, как мог, но терпение, вообще говоря, не было одной из его добродетелей, и теперь, поглядывая то на эти нежные щечки, обласканные солнцем, то на бедра, по которым стелились полоски пижамы, превращаясь в соблазнительные кривые, думал, что пора завязывать с этой дурацкой игрой в обиду – Лухан положил ладонь на грудь брата и нежно, но как-то по-хозяйски погладил полосочки, пуговки и даже маленький кармашек, нашитый прямо на сосочке.
Миньшо делал вид, что ему все равно.
Лухан похихикал над тем, что наивный Миньшо, очевидно, считал, что сможет от него отделаться, если будет изображать бревно, забыв о том, что Лухан, в свою очередь, хорошо знал, где и как надо погладить, чтобы тело Миньшо ожило и предало хозяина прямо в его голодные руки.
Лухан неторопливо спустился ниже, пошелестел тканью пижамы на животике, погладил самый отзывчивый его кусочек прямо над кромкой пижамных штанов – а потом медленно, словно нехотя сполз на самое интересное место, принявшись за поглаживание его любимой игрушечки, сладко и возмутительно возбуждающе сквозь полосатую ткань тыкавшейся вершиночкой ему в ладонь.
- Уйди, - прошипел Миньшо, прикрывая ногой самую волшебную частичку своего тела.
- Не хо-чу, - нагло прошептал Лухан ему в затылок.
- Уйди сказал, - Миньшо лягнул брата ногой, но никакого результата, конечно, не добился – Лухан продолжал дергать головку сквозь ткань, издевательскими прикосновениями заставляя толпы мурашек убегать вниз по ногам.
А потом еще и начал кривляться:
- Ну же, Миньшо, - Миньшо узнал это кошачье выражение на его лице и едва ли не зарыдал от смеха – таким игривым и пакостным одновременно оно было, - я же ничего о тебе не знаю… О своем любимом, родном, дорогом братике – ничего! – Лухан театрально вздохнул, а потом, прищурившись, продолжил: - А мне было бы так интересно узнать, например, как ты справляешься с утренней неловкостью?
Миньшо фыркнул, услышав это уродливое слащавое словцо, но продолжал лежать неподвижно, не вырываясь и не отвечая на провокацию Лухана.
- Ну же, братик, - пел Лухан, продолжая поглаживать нежную игрушечку, которой, он чувствовал, не хватало совсем чуть-чуть, чтобы начать стремительно твердеть, - расскажи, что ты делаешь, когда твое тело просит?
Лухан заглянул в глаза Миньшо и, к своему удивлению, не нашел там ни смущения, ни неловкости. Лухан решил, что недостаточно старается, и принялся ласкать увереннее, отчетливее очертив тканью силуэт драгоценной штучки.
А Миньшо молчал.
- Да ладно, братишка, - фыркнул Лухан, - все равно не поверю, что ты никогда не просыпался от того, что у тебя стоит.
Лухан сжал сильнее, и Миньшо всхлипнул:
- Ханни… - то ли потому, что ему хотелось, то ли просто дразнил брата, который дразнил его.
Лухан довольно усмехнулся и поцеловал братика в губки, уверенный в своей победе:
- Скажи, Миньшо, кого ты представляешь, когда делаешь это сам с собой?.. Кого, Миньшо?
Розовые губки Миньшо раскрылись, туманный взгляд остановился на Лухане, и он нагнулся ниже, чтобы подобрать ответ на свой вопрос прямо из ротика брата, уже выронившего один слог:
- Хан…
Лухан даже язычок высунул, чтобы принять окончание своего имени, услышать это робкое «ни» - и наброситься на Миньшо, расстегнуть на нем одежду, изорвать ее к черту и облизать его всего – но вместо этого Миньшо развернулся, положил руки под голову, и стыдливо выдохнул, краснея от собственных слов:
- Син-Сина…
- Шлюха! – рявкнул Лухан, резко нагибаясь, чтобы заткнуть этот мерзкий ротик своим языком.
Миньшо снова не сопротивлялся грубому поцелую и даже погладил брата по плечам, но когда Лухан отстранился, он только моргнул глазками и повторил:
- Син-Сина.
- Ненавижу, - прорычал Лухан, выметаясь из кровати.
Миньшо услышал за захлопнувшейся дверью злое «Блядь» и сладко потянулся, чтобы потом опять натянуть одеяло на себя и поспать еще немножко – никого он не представлял, если честно. До Лухана он вообще не подозревал, что это может быть так сладко – играть со своим телом.
Миньшо закрыл глаза и отвернулся от окна.
А Лухан пусть позлится – заслужил.
Лухан вылетел из комнаты брата, как разъяренная лошадь, приложил дверь о косяк так, что слышно было, наверно, на улице, благодаря давно забытого бога о том, что он не в школе, и даже когда он снова туда попадет, выпустившегося летом Син-Сина там не будет – потому что…
О боже, боже…
Он разбил бы личико блаженного дурачка об асфальт, он бы вбивал его окровавленным лицом в камни и всасывал усвистывающую из его тела, как из продырявленного воздушного шара, убогую жизнь ноздрями – может быть, хотя бы этот запах потушил бы его ненависть.
Лухан шлялся по дому, как варвар, стучал кулаками в стены и пинал двери, но даже разбитые руки не помогали успокоиться – он с ненавистью думал, что сделал все, чтобы сохранить трогательную невинность братика, чтобы уберечь его тельце от своего дикого желания, но Миньшо, оказывается, и впрямь блядской породы…
Что же, значит, ему тоже можно все – забыть про слезы, про свою дикую внутри, скрутить руки (он же сильнее, и намного)… и выебать сучку-братика так, чтобы он остался доволен до конца своих дней.
Лухан представил это, представил в красках – как Миньшо будет хныкать, просить его остановиться, и от его всхлипов ему захочется только сильнее разодрать его маленькую задницу – и не выдержал. Он сполз по стене, закрывая глаза руками, и заплакал – кажется, второй раз в жизни.
И опять из-за Миньшо.
Лухан плакал, как те убогие мальчики в школе, которых грех не припугнуть и которых он ненавидел всю свою жизнь, презирал сам себя, всхлипывал и вытирал лицо кулаками, пока слезы не высохли. А потом встал, отряхнулся, придушил в себе желание подняться наверх, к Миньшо, и нырнуть в его теплую кроватку – и поплелся в сад.
И только через пару мучительных часов до него медленно и с трудом дошло, что Миньшо над ним издевался.
Лухан встряхнул волосами, фыркнул, снова становясь похожим на породистую лошадь, и зашагал обратно к дому – что же, по им самим установленным правилам, он не мог сердиться на брата за этот нехороший «урок».
Лухан открыл дверь и прислушался – в доме, кроме них с Миньшо, никого больше не было, и он подумал, что искать брата надо все еще в кровати, когда услышал звон посуды на кухне. Лухан на цыпочках подобрался к двери, притаившись возле косяка – Миньшо в своих неприличных шортах и вытянутой кофте стоял к нему спиной у плиты и наливал чай.
- Прости, - услышал Миньшо.
Лухан стоял за его спиной и дышал в шею, щекотно приподнимая каштановые волоски – Миньшо закусил губу, чтобы не улыбнуться: это первое извинение, которое он слышит от брата за свою жизнь. Но Миньшо не думает, что стоит прощать так быстро – осторожно отставляя чайник на плиту, он делает глоток из чашечки и, поворачиваясь к Лухану, напоминает:
- Шлюха.
По лицу брата пробегает что-то нервное и нетерпеливое, и Миньшо едва успевает отставить чашку, чтобы не пролить, когда Лухан подхватывает его под бедрами и усаживает на едва теплую плиту:
- Если и шлюха, то только моя.
Лухан целует, путаясь пальцами в крупных петлях кофты, гладит гибкую спинку и кажется довольным, как кот, лакающий сметану – а Миньшо вдруг понимает, что скучал по Лухану. Все это время, что он обижался, он так скучал… Миньшо счастливо улыбается, поглаживая Лухана по щеке, как будто понял что-то простое и важное:
- Ханни, давай больше не будем так делать? Давай не будем ссориться?
- Конечно, братик, - охотно отвечает Лухан. – Больше не будем. Я так соскучился по своим булочкам…
Из Миньшо вырывается истерический смешок, пока Лухан пытается ущипнуть его за ягодицу – опять вранье, от начала и до конца.
Но боже, как он любит – уродливо, беспомощно – этого глупого мальчишку, который обнимает его и вытягивает петли на его кофте.
- Ха-а-анни, - вздыхает Миньшо.
- М-м-м, - мычит Лухан. – Давай, допивай свой чай, а потом поможешь мне кое с чем.
Миньшо удивленно приподнимает бровь и втягивает остывший чай, раздумывая над тем, что Лухану могло от него понадобиться.
- Это же кабинет дяди, - удивленно тянет Миньшо. – Что тебе тут надо?
- Ну, - Лухан по-хозяйски усаживается в большое кресло, находит на столе сигареты, коробок спичек, прикуривает – и сладко выпускает в воздух струю дыма, словно чувствует, что Миньшо это раздражает. – Надо же покопаться в его грязных делишках.
- Зачем? – Миньшо задыхается не столько от запаха, сколько от самодовольства, выпирающего из брата, и подходит к окну, чтобы открыть створку.
- Думаешь, иметь на него небольшой компромат не окажется полезным? – задумчиво спрашивает Лухан, следя за братом, отодвигающим тяжелые шторы.
- У тебя на всех есть этот компромат, да? – раздраженно спрашивает Миньшо, оборачиваясь. – Лежит у тебя в шкафу, ждет своего часа? На меня тоже есть, да?
- Кроме того, что ты позволяешь мне целовать себя везде? – ухмыляется Лухан.
- Перестань! – обрывает Миньшо.
- Как скажешь, братик, - соглашается Лухан, прижимая сигарету к стеклу пепельницы. – Но попробуй меня обмануть, и все узнают, что запуганный Миньшо не такой уж и скромник… в постели.
Лухан играет бровями и вспоминает насмешливую улыбку, которой научился у холодного Вуфаня… К слову говоря, именно этот красавчик и помог Лухану понять, что знание чужих тайн иногда оказывается удивительно полезным: Лухан как-то невовремя зашел в их комнату в пансионе, застав Вуфаня переодевающимся после душа, и постиг причину удивительной странности поведения соседа, который всеми правдами и неправдами всегда избегал раздеваться при свидетелях – очевидно, природа, даровав китайцу роскошную внешность, позабыла об одной маленькой, но очень важной детальке. С Вуфанем они тогда не торговались, нет, ни о чем не договаривались – просто красавчик позволял Лухану пользоваться всеми своими привилегиями в обмен на то, что Лухан держал рот закрытым, а школа продолжала пребывать в неведении касательно того, что достоинство Короля Школы походит на маленькую худенькую сосисочку.
У Миньшо нет оснований сомневаться в словах Лухана, пригрозившего в случае чего рассказать всем об их отношениях, и он, снова раздраженный, отходит к окну, наблюдая, как Лухан роется в ящиках стола, недовольно фыркая – внутри только чистая бумага или мусор.
- А, черт, заперто, - Лухан дергает ящик письменного стола, разбрасывает бумаги, пытаясь найти ключ, а Миньшо стоит и ждет, когда брату надоест играть в шпиона и они уйдут из этой неприятной мрачной комнаты с портретом любимой бабки на стене.
Но, к большому разочарованию Миньшо, Лухан сдаваться не собирается, исчезает под столом – и через секунду Миньшо слышит треск фанеры. Замок щелкает, ящик выдвигается, а Лухан пытается приладить обратно сломанную заднюю стенку.
- И стоило оно того? – насмешливо спрашивает Миньшо, понимая, что незаметно починить сломанный ящик будет сложно.
- А плевать, - сердито говорит Лухан, выбрасывая фанеру на пол. – Если найдем что-нибудь интересное, можно даже не заботиться о том, чтобы пристроить это обратно.
Миньшо только ядовито улыбается, все еще уверенный, что затея Лухана выеденного яйца не стоит. Лухан же невозмутимо достает кипу писем из ящика и усаживается в кресло, задумчиво похлапывая себя по колену:
- Садись, вдвоем быстрее разберем.
- Я не хочу читать его письма, - упрямо отвечает Миньшо, стоя перед столом и играя с братом в гляделки.
Лухан вздыхает так, будто хочет обозвать брата дураком, а потом медленно говорит:
- Ты думаешь, это все тебя не касается, да? Что дела нашей семьи – не твои дела?
Миньшо отрицательно мотает головой – никому он в этом доме ничего не должен, чтобы чувствовать себя сопричастным семье Лу.
- Ну хорошо, - тихо вздыхает Лухан. – А ты знаешь, что отец так и не признал тебя наследником? Потому что ты старше, бабка не позволила ему этого сделать, - Лухан давит усмешку, - не позволила лишить наследства любимого внука, рожденного в законном браке от женщины, которой она покровительствовала.
- И что? – спрашивает Миньшо, давя в себе беспокойство, которое подсказывает ему, что он не знает чего-то важного.
- Ничего, - Лухан пожимает плечами. – Я единственный законный наследник семьи, потомок по прямой линии. Если отец умрет, не оставив завещания, ты не получишь ничего. А, зная его характер, я не думаю, что у него хотя бы адвокат есть, не говоря уже о завещании.
- Ну и что, - Миньшо шмыгает носом, пытаясь не думать о том, что все эти годы находился в положении щенка, которого из жалости взяли в дом. Миньшо думает, что у него тоже есть гордость, и если ему суждено стать нищим – это все равно лучше, чем унижаться. – Мне ничего от вас не надо.
- Брось, Миньшо, - Лухан в кои-то веки говорит без насмешки и снова пытается поймать руку брата и усадить себе на колени, - не твое дело отвечать за ошибки отца.
Миньшо не сопротивляется, потому что, как бы он ни старался показать обратное, слова Лухана глубоко его задели.
- Откуда ты знаешь? – спрашивает он. – Откуда ты знаешь обо всем этом?
Лухан не отвечает, только пожимает плечами и задает встречный вопрос:
- Можешь представить, как меня это радовало еще недавно? – Лухан кусает губу, а потом мотает головой, встряхивая волосами. – Ладно, уже неважно. Держи.
Миньшо, шмыгнув носом, принимает половину бумажных листов, что Лухан нашел в ящике, и от злости внимательно вчитывается в чужой непонятный почерк – что же, он запомнил урок Лухана.
Никому не стоит доверять.
Лухан шуршит бумагой, изредка поглаживает братика по бедру, но все больше раздражается – у него складывается впечатление, что дядя пишет письма только своим университетским друзьям, приглашая их на охоту и интересуясь здоровьем крестников.
Но на кой черт тогда запирать эту дрянь в ящике на ключ?
В натуре Лухана на самом деле много собачьего, на такие вещи у него просто нюх – дядя пьяница, бабник и второй (а значит, вечно стесненный в средствах) сын тиранши-помещицы. Лухан просто не верит в то, что он чист душой перед богом и законом.
Лухан раздраженно отбрасывает письмо и, прежде чем приняться за второе, поднимает глаза на Миньшо, надеясь, что ему повезло больше – братик так забавно хмурится, когда его глаза скользят по строчкам.
- Смотри, - Миньшо протягивает ему бумагу, глядя широко раскрытыми глазами, - этот дом…
- Заложен, да, - Лухан быстро пробегает письмо глазами и невесело усмехается. – Вот же сволочь… Отец наверняка ничего не знает. – Лухан не собирался так нервничать, но полученная информация, пожалуй, превзошла его ожидания – и он не может успокоиться, повторяя: - Черт, как он мог.
Миньшо осторожно приглаживает его волосы, но Лухан поворачивается к нему, еще более раздраженный:
- Ты опять ничего не понимаешь, да?
- Он поступил подло, что еще тут понимать, - Миньшо пожимает плечами.
Лухан усмехается:
- Это поместье принадлежит нашей семье, тебе и мне – я только что тебе об этом сказал, а тебе как будто все равно.
- Мне не все равно, - прерывает Миньшо. – Но, поверь, никаких хороших воспоминаний об этом месте у меня нет – и благодарить за это надо ее и тебя.
Миньшо поднимает глаза вверх, на портрет старухи, висящий над ними – и Лухан внезапно смеется, чувствуя, как неприязненно дергается спинка братика под его рукой при одном упоминании о бабке.
- Ладно, забудь об этом, - Лухан небрежно скидывает письма в ящик и закрывает его ногой, но не отпускает брата со своих коленей, игриво подмигивая ему и заставляя вытянуться спиной на своей груди. – Как насчет немножко пошалить, а, братик? - Лухан тянется к любимому месту на шортиках и неспешно поглаживает. - Разве тебя не возбуждает этот мрачный кабинет и портрет бабули? Мы могли бы испачкать его чем-нибудь неприличным…
Лухан не видит улыбки Миньшо и думает, что сейчас получит то, чего так и не добился утром, и когда Миньшо говорит:
- Убери руки, я сам, - блаженно опускает ладони на подлокотники, наслаждаясь тем, что все-таки сумел развратить братика, выковырял в нем все непотребство и выпустил наружу.
- Закрой глаза, - снова просит Миньшо. – Я разденусь.
- О да, братик, - от нетерпения Лухан даже закрывает глаза раньше, чем успевает договорить, - разденься для меня. Можешь снять все, я не возражаю. Или оставь мне шортики…
Миньшо усмехается, снимает свою растянутую кофту – и бросает Лухану на лицо.
Лухан ловит одежду братика, влюблено принюхивается к старой и мягкой шерсти, ожидая, когда нагой подарочек запрыгнет к нему на колени за ласками – а потом слышит тихий хлопок двери и быстрые шаги на лестнице.
- Вот зараза, - говорит Лухан, выбрасывая кофту и открывая глаза.
|
|