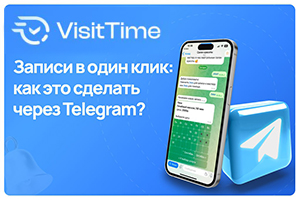Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Часть 12
|
|
- Люблю…
Теперь Миньшо слышит это каждый день – тихий шепот крадется под мембрану уха, заставляет слуховые косточки дрожать, вибрация проникает в мозг, и от нее трясется целиком все тело. Его не покидает ощущение, что это галлюцинация, что на земле его держит совсем малая тяжесть – еще несколько таких «люблю», и ноги оторвутся от земли, и он сам поднимется в дымчатое туманное небо, где их с Луханом история закончится, чтобы остаться навсегда в памяти лета, в сухом тоскующем августовском воздухе.
Они больше не будут принадлежать никому, только сами себе – никем не видимые, но вечно существующие в самой частоте мира.
- Люблю…
Мембрана впитывает шорох букв, вибрация накладывается на косточки, и Миньшо не слышит звука, он понимает саму волну, создающую его.
Миньшо знает, что цветы не представляют для Лухана никакой ценности. Они – всего лишь часть внешнего мира, вроде мыла на полке. И, обрывая косо сломленные толстые и сухие стебли хризантем, он думает о том, зачем Лухан приносит их каждое утро – небрежные букеты из ветвистых, корявых стеблей с маленькими бледно-фиолетовыми цветами, густо пахнущие горечью. Если он будет ставить их в стакан, Лухан обзовет его девочкой, поэтому его комната похожа на усыпальницу – повсюду лежат хвосты бледного фиолетового, наполняя воздух ароматом исчезающего лета.
Миньшо кроме того не знает, сколько сможет продержаться этот человек, похожий на Лухана, в чьих прикосновениях столько нежности, что она больше напоминает обожание. Он целует теперь немножко по-другому, легко и без извращения. Он не трется об него ширинкой, когда целует, и не смеется, когда видит, что Миньшо краснеет от желания. Этот похожий на Лухана совсем сумасшедший, он тащит его ночью в остывший сад смотреть на звезды, глядит своими темными глазами на светящиеся точки упрямо и тяжело, крепко обнимая, чтобы не дать замерзнуть.
Миньшо кажется, что все это похоже на мешок с мукой, который столкнули по настилу: он докатился до самого края и вот-вот упадет вниз, такой тяжелый, что не удержать.
Августовское солнце встает в дымке на востоке, в той же солнечной дымке вскарабкивается в зенит – и медленно тонет на западе, высасывая из воздуха остатки лета.
Заняться совершенно нечем, и Миньшо весь день как пьяный, только сотни и тысячи мыслей пересекают сознание – наверно, он должен о чем-то догадаться…
Прикасаться к Лухану теперь тоже проще. Если он хочет – он это делает. У брата на коленях, с его губами на своих и рукой в его расстегнутых брюках, ему вспоминаются высокие узкие окна деревенской церкви, солнечный свет внутри и отполированные одеждой сиденья скамеек. Он помнит плюшевый материал головы медведя в своих руках, как Лухан стоял перед ним, и в его глазах ползла его особенная, луханевская чернота, как страшно испугал его тот короткий смазанный поцелуй и как сильно расшатал его нервы, будто его ударили током.
От воспоминаний целоваться хочется сильнее, он проглатывает стон и вцепляется пальчиками в волосы брата, прислоняя его к своей груди, чтобы белая ткань рубашки потерлась об его твердый сосок, про себя умоляя братишку догадаться, как темное пятнышко на его теле ждет его губ, его ласкового язычка и влаги теплого рта.
Но обвинять Лухана в недогадливости Миньшо не может, потому что сам делает ему хорошо – его ладонь чувствует твердый ствол, гладкий, как кора молодой ивы, и напряженный, как… нет, это не похоже ни на дерево, ни на предметы вообще. Таким может быть только тело, скованное желанием, все еще по-человечески мягкое, но налитое пугающей, сдерживаемой угрозой – Лухан мог бы поднять его на руки, опустить спиной на кровать и освободить это напряжение так, как ему хочется… и Миньшо даже позволил бы ему любоваться изгибом поднятых вверх, расплющенных о его живот бедер… Но в поцелуях, когда они ласкают друг друга руками в расстегнутых брюках, своя сладость – недоступного, дикого желания, когда нежность еще весит больше, чем ноющий от боли член. Миньшо видит это, чувствует раскрытыми губами Лухана, который выдыхает так, будто из его рта вырывается сигаретный дым – с наслаждением и откровенностью. Миньшо помнит, как Лухан курил при нем, и он сам подошел к нему, вместе с поцелуем забирая затяжку – дым так же ласкал его губы, наполняя легкие, вырывал из головы остатки мыслей.
Короткий стук в дверь остался лишь тенью на границе наслаждения, неспособной достучаться до разума, а потом Миньшо услышал голос дяди:
- Лухан…
Дядя стоял на пороге, придерживая дверь, и не сводил с них странного мрачного взгляда. Миньшо свалился с ног Лухана, торопливо поправляя упавшие на лицо волосы, которые мешали ему застегнуть шорты. Он успел только заметить, как дернулись губы Лухана, как из его глаз исчез блеск удовольствия, и брат поднялся, неспеша заправляя рубашку в брюки.
- Глазам своим не верю… - пробормотал дядя, хватаясь за лоб. – Как… это же… омерзительно, Лухан… Это гадко!
- Не думаю, что тебя должно волновать, кто трогает мой член, - насмешливо сказал Лухан, и Миньшо, пытавшийся спрятаться за братом, убрал руки с его плеч – Лухан откровенно нарывался.
- Да как вам это в голову пришло? Что с вами вообще? Вы же братья… - Миньшо сжимался все сильнее, наблюдая за выражением лица своего дяди, которое отвращение искажало все заметнее.
- Немного разнообразия в братской любви, всего лишь, - ответил Лухан.
- Посмотрим, что твой отец скажет по этому поводу, - пообещал дядя, поворачиваясь, чтобы выйти, но тихий и злой голос Лухана остановил его:
- А заодно узнаем, что он думает о том, что ты погряз в долгах и даже продал этот дом.
- Что?
- На кого ты потратил бабкины деньги? – продолжал Лухан. – На своих шлюх? Проиграл? Отец будет неприятно удивлен, когда узнает правду – если узнает, конечно.
- Откуда ты знаешь, гаденыш? – Лухан отступил на шаг от приблизившегося к нему дяди и, мерзко сощурив глаза, продолжал выбрасывать самые крупные карты:
- Всех служанок уже в конюшню сводил? Отец будет впечатлен, когда я расскажу ему, что ты только пьешь и баб удовлетворяешь, а старухиных денег-то уже и в помине нет. Не думаю, что он так уж легко согласится оплатить твои долги, а этот дом вообще, думаю, не простит.
- Заткнись! Ты ничего не расскажешь!
- А ты думал, сможешь тыкать меня носом в мои грешки, а твои никто не раскопает? Как только ты откроешь рот, я расскажу отцу все, и кончатся и твои пьянки, и твои бабы…
Лухан видел, как поднялась рука раздраженного дяди, как сжался кулак – и он был готов ответить. Не понял он только одного – как Миньшо оказался под ударом вместо него. Он всего лишь услышал хлесткий звук пощечины, взорвавшейся на коже – но это стало его пределом.
Он схватил дядю за ворот рубашки, сильно встряхнул – и толкнул в стену. Он мог бы ударить, и не сомневался, что получит в ответ – дядя был породистый, как все в их семье, высокий и крепкий – но отчего-то пачкать руки об этого человека ему не хотелось. Он не собирался защищать оскорбленную гордость или вступаться за правду, на грязные делишки дяди ему было плевать – Лухан хотел только выпнуть его из круга своих собственных интересов, чтобы он не причинил вреда им с Миньшо. Глупо было бы позволить этому опустившемуся пьянице вставлять палки в колеса.
- Так что подумай, - посоветовал Лухан, глядя на поправляющего свою рубашку дядю, - нужно ли отцу знать лишнее.
- Сучонок, - услышал Миньшо, когда дверь закрылась.
Глаза повернувшегося к нему Лухана удивили Миньшо – они блестели, как вода, черные и нехорошие, но довольные собой.
- Болит? – Лухан осторожно коснулся покрасневшей кожи, разглаживая пухлую щечку.
- Нет, - Миньшо помотал головой, с удивлением думая о том, что Лухан, как и обещал, когда пришло время, пытался защитить их обоих. – Что теперь будет?
- Ничего не будет, - отмахнулся Лухан. – Своя задница ему дороже, чем наш с тобой, - Лухан показал пальцами кавычки, - грех.
Миньшо опустил глаза, внутри себя соглашаясь с братом – дядя был трусливой породы, угроза Лухана и в самом деле испугала его и, наверно, гарантирует им безопасность на какое-то время. Проблема только в том, что Миньшо уверен, что мешок упал – и абсолютно беспечными они оба уже никогда не смогут быть, и Лухану всегда придется отвечать на угрозы с этой яростью, которая оставляет в его глазах блеск ночной воды.
И если раньше Миньшо не верил, что брат способен защитить их обоих, то теперь ему так не кажется – хотя он боится, что эта война их двоих против всех вываляет его в еще большей грязи и, наверно, у него не достанет сил держаться с такой же глухой яростной силой, как Лухан.
Утром Лухан спустился к завтраку с улыбкой на лице и уже твердо закрепившейся в нем уверенностью, что вчерашний инцидент будет забыт. Он спрыгивал по ступенькам, поправлял воротничок на рубашке – и вынужден был затормозить, неприятно удивившись присутствию дяди, который обычно либо бывал пьян и тихо дремал в кресле, либо вообще еще спал.
Сегодня же утром мужчина выглядел так, будто основательно успел привести себя в порядок – чистая одежда, никакой щетины на лице. Лухан усмехнулся тому, что, может быть, нечаянно запустил в дяде процесс регенерации или что-то типа того – этот мудак наконец-то услышал голос совести и решил привести свою жизнь в порядок. Но ухмылочка Лухана быстро сдулась, когда дядя брезгливо бросил на стол два билета:
- Я надеюсь не застать вас здесь завтра после обеда.
Лухан заставил себя улыбнуться, хоть его и дергало от злости – впервые в жизни его вышвыривают откуда-то – и взял билеты, учтиво кланяясь:
- Приятно было провести время в доме, который больше не принадлежит нашей семье.
Лухан тоже думал, что мешок упал. Вот только ворох взметнувшейся мучной пыли его не пугал – он и так слишком долго гнил в этом болоте.
- Знаешь, мне кажется, сюда мы больше не вернемся, - Миньшо лежал в темноте и смотрел на тени на стене – странное переплетение ветвей под лунным светом, тоскливое и пугающее.
- В этот дом? – Лухан приподнялся на локте и уставился на ту же тень.
- И в этот дом тоже, - ответил Миньшо.
- Ну и к черту его, - прошептал Лухан, опускаясь обратно.
Миньшо еще долго не мог заснуть, вытягивая носом из темного воздуха запах увядающих цветов на столе и слушая тихое дыхание спящего Лухана. Ему казалось, что брат хорошо понял, о чем он говорил – впрочем, собранные чемоданы были очевиднее любых слов.
Что-то кончалось, переплетение ветвей ставило точку в каком-то важном отрезке его тихой жизни, и обратно за черту этой ночи ему будет не шагнуть. Все ссоры с Луханом, все обещания, данные вскользь, без одежды под одним одеялом, перестали быть просто словами и тенями – завтра они либо обретут плоть, либо Миньшо провалится под лед своей наивности, которая заставила его довериться брату.
Утром, закрывая за собой дверь комнаты, Миньшо с тоской думал об увядающих хризантемах, которые никому больше не нужны – уродливый поезд с черным дымом из трубы отвезет их с Луханом домой, а эти цветы так и будут гнить здесь, разлагаясь в воздухе старого дома, который уже даже не принадлежит им.
Лухан открыл дверь своего дома, злой и грязный после поезда, уже раздраженный тем, что ему нельзя больше обнимать и целовать братика, когда захочется – и уж конечно обнаружить отца в гостиной ему не хотелось. Отца, который удивленно приподнял бровь и спросил:
- Вы уже вернулись? Я ждал вас только через неделю.
Лухан заставил себя расслабить нахмуренные брови и улыбнуться наигранно легко:
- Прости, отец, но вот как на духу тебе клянусь, сил моих больше нет терпеть деревенских собак и мух. Мы всего лишь на неделю раньше, ты же не будешь сердиться? Не поверишь, какая там смертельная скука! Миньшо перечитал все дурацкие книги в библиотеке, а я совершенно не находил, чем заняться…
Лухан говорил и говорил, быстро обнял отца и потянул брата к лестнице – не сообщать же было ему, что дядя выставил их из дома. Лухан успел только поцеловать Миньшо у его комнаты, как братишка оттолкнул его, услышав шаги служанки – и теперь Лухан, зло запинывая чемодан под кровать, думал, что долго так не протянет.
Два дня спустя отец Лухана и Миньшо получил письмо от брата, в котором тот довольно туманно намекал ему на что-то ужасное, что произошло в его доме, и советовал разлучить братьев ради их собственного блага. Слова казались лживыми и порядком лицемерными, но приходилось признавать, что дыма без огня не бывает – он и сам уже успел заметить, что отношения между его детьми претерпели определенные изменения. Раньше Лухан за обедом никогда не давал себе труда смотреть на брата, он в целом всегда вел себя так, будто Миньшо вообще не существовало, а теперь не столько ковырялся в своей тарелке, сколько пытался поймать взгляд старшего, будто ждал ответа. Миньшо нервничал под его взглядом тоже гораздо больше обычного, давился едой и в конце концов, бросив на брата умоляющий взгляд, извинялся и сбегал из-за стола.
Чем больше он думал о письме, тем отчетливее в его голове складывалась полная картина – ведь это же Лухан, это его младший сын. Его ненависть к старшему могла заставить его сделать самые ужасные вещи, а робкий недотепа Миньшо не издал бы ни звука, чтобы защититься.
Когда он вспомнил, как утром после завтрака застал братьев в коридоре, очевидно, ругающимися – Лухан за руки оттолкнул Миньшо так, что старший впечатался спиной в стену, а потом выругался и ушел, захлопнув дверь своей комнаты – его подозрения обрели плоть и голос, который отчетливо говорил ему, что он слишком долго позволял себе не замечать ненависть Лухана, и теперь его долгом было защитить Миньшо, хотя, возможно, уже поздно.
Миньшо удивился, когда поздно вечером в его спальню зашел отец и уставился на него долгим взглядом сощуренных глаз, словно под кожу пытался заглянуть. Миньшо занервничал, припоминая, когда и в чем они с Луханом могли проколоться – а иначе зачем отец здесь? Неужели отец не поверил утреннему представлению, которое они с братом устроили, когда он почти застал их целующимися? Миньшо тогда в очередной раз поразился сообразительности братца, который, хорошо понимая, что иначе ему не объяснить то, почему они стояли вплотную, схватил его за руки и толкнул в стену. И Миньшо считал, что грубое ругательство, громко выплюнутое Луханом вслед, уж точно должно было убедить отца в том, что они не забыли старой вражды и в том коридоре просто в очередной раз ругались. Но отец все стоял и смотрел на него, и Миньшо широко раскрыл глаза от удивления, когда отец спросил:
- Что Лухан с тобой сделал?
Миньшо запаниковал, пытаясь сообразить, что ему сделать, если отец на самом деле знает все – без Лухана он может только зареветь. Миньшо замотал головой и выдавил из себя:
- Ни-ничего. Лухан ничего не делал.
- Он бил тебя?
- Нет, никогда, - Миньшо снова затряс головой, словно ему казалось ужасным само предположение отца, но тот, очевидно, не поверил.
- Ты можешь сказать мне, не бойся.
- Мне нечего…
- Разденься.
- Что? – Миньшо ничего не понимал.
- Сними рубашку и брюки, я хочу убедиться, - пояснил отец. – Давай, это не трудно.
Миньшо с трудом проглотил набравшиеся во рту от страха слюни и потянулся к воротничку. Отчего-то это показалось ему настолько унизительным, недоверие и подозрения отца настолько гадкими, что против воли в глазах задрожали слезы.
- Я жду, Миньшо.
Миньшо кивнул и стал раздеваться быстрее, пытаясь успокоиться мыслью, что сумасшедший Лухан, как будто зная, никогда не оставлял на его теле никаких следов.
Никаких очевидных следов – синяки на руках не в счет.
- Повернись, - сказал отец, когда Миньшо оказался перед ним в одних трусах.
Не было, ничего на его теле не было! Только белая кожа, вся покрытая поцелуями Лухана, сладкими, грешными и совершенно невидимыми.
- Хорошо, - сказал отец, разворачиваясь, чтобы выйти.
Миньшо облегченно выдохнул, натягивая на себя одежду, и надеялся, что подозрения отца рассосались, и они с Луханом снова в безопасности.
Лухан знал, что правильнее всего было бы продолжать изображать ненависть к Миньшо, но его глаза не слушались и словно приклеивались к личику помятого с утра братца, у которого со щеки еще не сошел след от подушки.
Он сверлил его взглядом с другой стороны стола и тихо млел, вспоминая, как хорошо было просыпаться вместе, как изумительно вкусно втягивать носом сонное тепло, залегшее на шейке. Сонный Миньшо шевелился, как кошечка, медленно и сладко, подтягивал белые теплые бедра к животу и утыкался лицом в подушку, продолжая спать несмотря на поцелуи Лухана.
Лухан просто бесился от того, что у него отобрали возможность быть с братишкой на таком расстоянии, чтобы он вечно мог дышать ему в каштановый затылок и нежными руками гладить его теплый ото сна животик. Необходимость держать себя в руках и подальше от обожаемого братца, конечно, постоянно предупреждающей красной лампочкой горела в голове Лухана, но он должен был честно признаться себе, что когда-нибудь она перестанет его останавливать.
Лухан пил кофе, пялился на Миньшо, который почему-то снова краснел под его взглядом, и совсем не обращал внимания на отца – ему казалось, он как всегда читает газету и так же равнодушен к сыновьям, как и они к нему.
Но Лухан был не прав – отец внимательно всматривался в эти переглядывания, и они начинали его раздражать: ему казалось, все трое обманывают его. Его брат, запугавший его своими скользкими фразами, судя по которым выходило, что его младший сын сделал что-то такое омерзительное, о чем даже не скажешь вслух. Миньшо, ему казалось, тоже врал, прикидывался плачущей овечкой, потому что это позволяло ему прятать за своими слезами все, что угодно. Ну и уж точно можно было быть уверенным в том, что Лухан не чист на руку – вот только в мотивах младшего сына и сам черт бы не разобрался.
Впрочем, раздражение следовало отодвинуть в сторону, позволив его сыновьям самостоятельно разбираться с враньем, которое они привезли из старого деревенского дома, и решить только один вопрос – разумно ли все-таки разлучить их? Он больше был склонен верить своему брату, чем Миньшо, и не переставал думать, что за Луханом есть какой-то грешок, но в это было сложно поверить, видя все эти ухмылки, которые Лухан бросал брату через стол. Лухан ненавидел Миньшо пятнадцать лет, без причины, но с такой яростью, что изобрел, наверно, более тысячи способов унизить молчаливого и робкого старшего – а теперь заглядывал ему в глаза? После того, как он видел их вчера ругающимися в коридоре?
Сколько бы он ни смотрел на сыновей, придти к какому-то одному выводу ему не удавалось – и он решил, что лучше поступить сурово, но так, чтобы его ошибка не обернулась чем-то худшим. Он прокашлялся, убрав газету, позвал:
- Лухан… - и когда сын поднял на него яркие веселые глаза, продолжил: - я хочу сообщить тебе, что в этом году ты будешь учиться в столице. Школа одна из лучших в стране, она открывает своим выпускникам самые широкие перспективы, о бумагах я уже позаботился…
Веселье из глаз Лухана смылось в секунды.
- Подожди, - прервал Лухан, - ты хочешь, чтобы я уехал? Один?
- Разумеется, я только что сказал тебе об этом. Тебя приняли в одну из лучших школ страны, и мы с Миньшо хотели бы поздравить тебя вечером.
- Нет, - Лухан замотал головой, бросая на брата потерянный взгляд. – Я не хочу, чтобы меня поздравляли, потому что я никуда не поеду.
- Как я сказал, бумаги уже готовы, поэтому отказываться неразумно, Лухан.
- А я сказал, что никуда не поеду.
Миньшо притих, наблюдая за уставившимся в столешницу братом и отцом, лицо которого быстро изменилось и приобрело хищные, раздраженные черты, понимая, что сейчас грянет очередная ссора, в которой Лухану, как бы ему ни хотелось, не устоять. Миньшо опустил лицо в сложенные руки и сжался от голоса отца, с угрозой произнесшего:
- Изволь уважать мое намерение сделать из тебя человека и дать тебе лучшее образование.
- Я не поеду! – заорал Лухан.
- Почему же, позволь поинтересоваться? Чем та школа так отличается от той, где вы учились с Миньшо?
Миньшо смотрел на брата с жалостью, понимая, что он не может сказать правду, и, наверно, еще более отчетливо понимая, насколько тяжело Лухану принять тот факт, что им придется расстаться.
- Ханни, - его тихий голос раздался мягким шорохом, словно в противовес крику Лухана, но и брат, и отец оба повернули головы в его сторону, словно заговорил не Миньшо, а одна из стен, - соглашайся, Ханни. Это отличная возможность стать дипломатом, как ты хотел.
- Я не поеду, - горько сказал Лухан, закрывая лицо руками.
Но отец, как показалось Миньшо, почувствовал, что Лухан сдался, и, задвигая стул, сказал:
- Ты всегда был честолюбивым мальчиком, и я надеюсь, ты окажешься достойным имени нашей семьи, - раздумывая над тем, с каких это пор старший называет брата «Ханни».
- Я не смогу уехать, - Лухан повторял это, как Миньшо казалось, в сотый раз – хотя его чемоданы уже были собраны и стояли внизу, дожидаясь утра, которое разлучит их на полгода.
- Сможешь, Ханни, - рот Миньшо горько кривился не то от запаха сигарет, которые Лухан выкуривал в окно, не то от того, что ему приходилось утешать брата, хотя самому хотелось расплакаться у него на груди. – Я никуда не денусь и буду любить тебя, только издалека.
- Почему, ну почему он решил отослать меня куда-то? – Миньшо был уверен, что брат его даже не слушает. – Какого черта в его голове вдруг появилась эта мысль? Именно сейчас?
- Дядя ему что-то рассказал, - тихо сказал Миньшо, поднявшись, чтобы обнять Лухана. – Отец даже приходил убедиться, что на мне нет твоих синяков.
Лухан повернулся, в темноте яркими глазами вглядываясь в лицо Миньшо, который счел нужным рассказать об этом только сейчас – мотивы отца, которые он не мог понять, теперь ясно вырисовывались перед ним. Миньшо смотрел в ответ на него своими тихими глазами, потом опустил их, хлопнув ресницами.
- Ты десять лет издевался надо мной, что еще он мог подумать?
Лухан отвернулся обратно, выбросил сигарету за окно и потянулся за новой – Миньшо чувствовал, даже складочки рубашки на его плечах говорили об этом – как он зол на самого себя, как отчаянно ненавидит все свои выходки… как хотел бы вернуться назад и исправить все. Миньшо смотрел на его спину и думал о том, что он очень, нестерпимо красивый – каждой черточкой своевольного личика, каждым нервным жестом, под которым пытался спрятать, как ему плохо.
Лухан оперся обеими руками о подоконник, наклонив голову – будто ломался от отчаяния, и Миньшо вновь пожалел его. До идиотизма, до сумасшествия хотел обнимать его плечи и утешать – хоть и понимал, что совершенно нечем.
- Ну прости меня, - Миньшо развернул брата к себе и сжал его лицо ладонями. – Не надо было этого говорить.
Миньшо упирался лбом в лоб Лухана и целовал его горькие от дыма губы, не собираясь прерываться даже на то, чтобы сказать Лухану, что пепел с его сигареты крошится на ковер. Ему было наплевать на ожоги на ковре, на сырой ночной ветер из окна, ему хотелось только стискивать руками худого нервного брата и губами обещать, что он будет ждать его каждый день, каждую минуту скучать и любить, наверно, теперь до самой смерти.
Лухану эти поцелуи тоже казались невозможно горькими, от них в горле застревал комок и глотать было больно – он изо всех сил пытался не расплакаться, но сырость все равно появилась под губами, потекла по подбородку, размазалась по шее. Эта вода была совсем нестерпимо горькой, от нее болела голова и отчаянно хотелось выбраться за окно, туда, где сырой ветер гонит черный воздух и бросает на кожу редкие сырые капельки. Лухан целовал прикрытые глаза Миньшо, из под которых стелилась эта горечь, ломался от боли, но теперь ощущал себя сильнее, чувствуя необходимость заботиться в первую очередь о крошке Миньшо, который плакал из-за него.
- Я так люблю тебя, - сырость под губами Лухана размазалась по щеке, пока он покусывал длинную и такую тонкую косточку челюсти. – Разденься для меня. Я хочу тебя запомнить.
Миньшо вытер слезы рукавом и дернул воротничок, не собираясь даже раздумывать над тем, что он делает – сейчас он разденется, догола, до самого основания, и прижмется к Лухану всем телом, чтобы он запоминал его руками и губами до самого утра, впрок, на месяцы вперед.
Лухан, опуская обнаженного братика на кровать, не чувствовал в себе обычного голода, скорее, ему хотелось коснуться Миньшо везде, сотни раз провести по его животу и ребрам, чтобы ладони напитались нежностью кожи братика, чтобы губы запомнили ласковые шарики цветочных сосочков, а на языке остался его сводящий с ума вкус.
- Миньшо, - позвал Лухан, снимая его руки со своей спины и расправляя теплые пальчики на одеяле. – Не приходи завтра утром провожать.
Миньшо поднял на него свои огромные глаза и уставился в темноте прямо внутрь, прямо в сердце.
- Я правда не смогу, если ты там будешь, - сказал Лухан.
Миньшо кивнул и закрыл глаза, позволяя вновь целовать себя в шею.
Миньшо проснулся, когда солнце светило в окно свысока, глянул на часы, показывавшие почти одиннадцать, и облегченно вздохнул – Лухан сделал то, что хотел: Миньшо спал всю ночь и даже уход Лухана не смог его разбудить.
Миньшо почесал нос и перевернулся на бок… расширяющимися глазами глядя на то, как с его кровати на пол падают длинные и прямые стебли цветов – весь ковер у его ног был покрыт перекрещенными зелеными ветками хризантем, которые, он знал, торговки продают рано утром прямо на их улице.
Личико Миньшо сморщилось жалко, как у обезьянки из зоосада, он выскочил из кровати и принялся торопливо собирать цветы, укладывая их стебли ровно, один к одному. Когда целая охапка хризантем оказалась у него в руках, он сжал ее бережно, как ребенка, пододвинулся к кровати и положил на нее запрокинутую голову – сильный запах раздавленной зелени поднимался к лицу, а он мотал головой, чтобы стряхнуть с глаз непослушную прядь каштановых волос, глядя сквозь слезы на дымчатое солнце одного из последних дней лета.
|
|