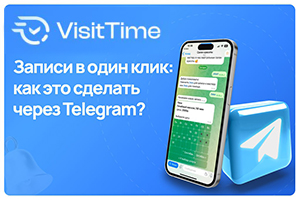Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Часть 11. Лухан не любит его так, как он хочет
|
|
Лухан не любит его так, как он хочет.
Лухан говорит, что вообще не любит его.
Миньшо сходит с ума.
Когда Лухан гладит его тело, он умирает от отвращения к себе – ему глубоко противны эти блядские ласки. Когда Лухан гладит его – он дышит ему в губы и стонет:
- Ханни, я так… тебя…
Он не произносит этого слова, но все его тело поет «люблю» - и Лухан жрет эти признания, смеется, раздевает, целует невменяемо и повторяет:
- Хочу тебя, братик, хочу…
«Выебать» - из Лухана уже не раз это вырывалось, и Миньшо кажется, что его голову расплющивает между этой унизительной любовью внутри, которая пахнет умирающим летом, сухими лепестками бледных фиолетовых хризантем, и пошлостью, блядством и развратом брата, который не видит, ничего не замечает кроме его замученного, раздетого и сочащегося греховной влагой тела.
Миньшо думает, что все его тело уже покрыто поцелуями брата – они горят позорными пятнами на бедрах, прямо внутри. Они остались, когда он раздвигал ноги для Лухана, сжимал бедрами его голову со спутанными волосами и притягивал к себе, туда, внутрь, в трепещущий от любви и желания центр. Он с отвращением и нетерпением ждал, соскальзывая спиной по кровати ниже, что Лухан перестанет вылизывать его член и спустится туда, где обещал порхать языком, как бабочка – и Миньшо даже подложил подушку под спину, чтобы ему было удобнее. Но Лухан не хотел брать то, что Миньшо предлагал, прикидывался дурачком, издевался над мокрой «игрушечкой», заглаживая ее шершавым язычком, чмокал губами и смеялся – а Миньшо внутри себя выл от ненависти.
Лухан пришпилил его, как жука, растянул на гвоздях своих правил, как будто руки к кровати придавил: Миньшо не мог добиться той любви, которой хотел, ни тогда, когда обнимал за плечи, отчаянно целовал и умолял братика сказать, зачем они этим занимаются – ни тогда, когда предложил себя, разрешая заполнить это мерзкое «выебать» изнутри вспухшим от желания членом.
Но Лухан отказывался дать ему ту любовь, о которой он просил – чистую, нежную, заботливую… Верную.
Такую, чтобы навсегда – чтобы не приходилось мучиться из-за того, что этим летом они оба вымазались в страшном грехе. Миньшо думал, что, если бы Лухан ответил ему, если бы позволил любить себя откровенно и преданно, он бы смирился с тем, что в церковь ему больше хода нет, сжился бы с мыслью, что он грешник, что в аду для него уже зажгли пламя – это было бы справедливой ценой за любовь обожаемого брата.
Но Лухан делал все, чтобы Миньшо продолжал думать, что он только летнее увлечение слишком взрослого подростка, что Миньшо просто тело, которое можно сосать, заставлять стонать и вымазывать в том унизительном, что из него вытекает. Миньшо помнил про вранье и часто думал о том, что Лухан просто дикая кошка, которая не может помыслить о том, чтобы отдать свою свободу кому-то: наверно, Лухан считал это смешным и унизительным – если он когда-нибудь сложит свое ехидство к ногам брата и признает, что зависим от него, что в его циничном сердечке есть слабое-слабое местечко, наполненное любовью такой дикой и нежной, которой никогда нельзя было ожидать от этого хулигана.
Но либо Миньшо недоставало силы верить, либо Лухан был слишком хорош в своем вранье – но каждый раз, что брат обзывал его блядью и заставлял чувствовать себя шлюхой, Миньшо чувствовал, как пощечину. Этот удар жег изнутри, наполнял его сердце отвращением, а глаза слезами – все бережно собранные Миньшо факты, все жесты, доказывавшие «любовь» Лухана, рассыпались вмиг, и Миньшо начинал ненавидеть Лухана за то, что он с ним сделал.
И уже, конечно, он никогда не прекращал ненавидеть себя за то, что позволил брату сделать это с собой.
И чего Миньшо никак не мог понять, так это того, почему Лухан, отказываясь от его любви, запрещая любить себя, не хотел взять и то единственное, к чему – по его же собственным словам – стремился с самого начала, когда начал это вранье с уроками поцелуев.
Лухан целовал его везде – между ног, в соски, сосал язык – но даже не приближался к дырочке, которую обещал ласкать бабочками поцелуев. Миньшо, когда тащил подушку себе под спину, с отчаянием думал, что, раз уже Лухану так хочется сделать из него блядь, он ей и будет: он способен заплатить этой своей омерзительной звонкой хрустальной любовью за те короткие минуты, когда они оба получат то, что хотят – Лухан, как в его мечтах, о которых он столько раз говорил с восторгом, будет с наслаждением иметь миленький остренький отставленный зад, а Миньшо, наконец, получит Лухана целиком вместе с его нечистой любовью и горячим сердцем, которое хотя бы в эти минуты будет по праву принадлежать шлюшке, вертящейся на его члене.
Но Лухана невозможно было заставить – ни разжалобить, ни купить. Нельзя приручить, нельзя сделать своим, нельзя на него положиться.
Миньшо казалось, что он стоит в абсолютной темноте и не может зацепиться ни за что в порывах воющего ветра – буря внутри просто съедает его.
Разламывает череп, растягивает нервы, сосет сердце.
Лухана нельзя…
Миньшо лежал на своей кровати, подложив руки под щеку, и бессмысленным взглядом смотрел в стену, чувствуя, как брат поглаживает его по бедру. Лухан все время целовал его и нюхал, так что Миньшо казалось, что он ищет в запахе его кожи тот самый грешный оттеночек, которым пахнет то, что выделяется из его тела, когда Лухан его ласкает.
Брат, видимо, считает нормальным всегда держать его при себе и поглаживать, как домашнее животное – поглаживать там, где прикасаться считается неприличным. Лухан может часами ничего не делать – только нюхать его, целовать и тереть его член сквозь ткань, доводя до истеричного возбуждения.
Миньшо не понимает ни этого вечного желания Лухана видеть его голым и затравленным ласками, ни этой неподвижности, похожей на прострацию, на сумасшествие, на идиотическое бессилие. Миньшо вынужден в очередной раз признаться себе, что Лухан – пустышка. Его не интересуют ни книги, ни нежное гаснущее лето за окном – только раздразненное полуласками тело.
Самодовольство выливается из братца рекой, когда он валяется вот так, поглаживая его по животу, скребет сосочки и шумно дышит в ухо, готовясь сказать очередную мерзость.
И Миньшо не злило бы это так сильно, если бы каждый раз, когда он встает, собираясь уйти, Лухан не хватал бы его за руку и не просил тихо:
- Не уходи.
Миньшо бы вообще это не злило, если бы он хоть раз отказал просьбе брата.
Он уже давно не спит в своей кровати – за исключением тех дней, когда они поругались – засыпая под боком у брата, которого ненавидит за пошлость и самодовольство, успокоенный прикосновениями его губ и рук.
Эта чертовщина слишком велика для его головы – и скоро непонятная смесь ненависти и обожания начнет сочиться через уши.
Лухан никогда не строил иллюзий начет братца. Этот робкий мальчик, который терпел унижения десять лет, который отмывал своего медведя под краном после очередного погружения в унитаз, на проверку оказался не таким уж и робким, особенно в постели – раздетый донага Миньшо мог стонать ему в губы и покрывать спину следами коротеньких ноготков, как страстный зверек.
Братик мог даже издеваться над ним, выскальзывая из его рук, когда совсем не хотел – Миньшо вообще был настолько разным, что Лухан иногда думал, что у него как минимум можно обнаружить раздвоение личности. Но Лухан кроме этого знал даже больше – он знал правду: Миньшо истеричка.
«Куколка, нежный, доверчивый, запуганный, - Лухан с наслаждением гладил соблазнительную линию прижатых к его собственным бедер, - и сумасшедший, нервный… истеричка»
Миньшо внутри своей очаровательной головки всегда страдал о чем-то – и Лухан думал, что, по справедливости, ему зачтется то, что он часто зацеловывает братишку до состояния совершенного отсутствия мыслей.
Лухан надеется, что Миньшо не думает ни о чем хотя бы тогда, когда чувствует его рот, накрывающий нежную штучку.
Лухан не боится этих истерик – он слишком… слишком, чтобы Миньшо смог достать до него шквалом своего отчаяния. Слишком циничный или безэмоциональный – можно назвать как угодно, но даже верно подобранное определение не объясняет того факта, что Лухан всегда (ну хорошо, почти всегда) чувствует, что братик снова загоняется. Впрочем, догадаться, что у Миньшо снова черная фаза нетрудно – он словно забывает, что умеет говорить и двигаться. Просто лежит, смотрит вникуда, и Лухан предполагает, что при этом еще и ненавидит его изо всех сил маленького сердечка.
Постичь причину Лухан даже не пытается – куда уж ему – только нежно водит по хорошенькой попке, раздражая брата еще сильнее.
Впрочем, Лухан врет.
Снова врет.
Пытается самому себе казаться дурачком, но получается плохо – мозг сам, против его воли, связывает раздражение Миньшо с вчерашней ночью, когда братик едва ли не заревел под его поцелуями, стискивал свои кулачки на его рубашке и довольно бессвязно просил о чем-то. Лухан всегда любил слезки братика, и эти принял с всегдашним наслаждением – как и признание, которое вслед за тем вылетело из заласканного Миньшо:
- Ханни, я так… тебя.
«Люблю-люблю-люблю» прыгало по загоревшимся щечкам, и Лухан с дьявольской щедростью одаривал штучку братика ласками своего языка и губ – Миньшо выкручивал пальчиками простынь, елозил голым задом по кровати, а твердые сосочки смотрели остриями в темноту.
До Лухана дошло и то, зачем Миньшо стащил подушку себе под спину и раздвинул ноги – словно приглашение выписал в свою дырочку. Лухан хорошо видел, что Миньшо неприятно, что скользящими по сосочку пальчиками он пытается успокоить себя и внушить то желание, которого не было – и смеялся про себя.
Нет, если бы Миньшо сказал, что хочет его (хочет, а не любит), и Лухан видел бы подтверждение его слов в самих реакциях его тела на ласку – Лухан бы взял. Еще как бы взял – и тогда, наверно, даже смог бы забыть истерику, охватывающую его обычно, когда мозг ставит в одно предложение слова «Миньшо» и «выебать» - всю ночь бы брал, во всех позах и на всех горизонталях, делая хорошо и себе, и шлюшке-братику.
Но пока удручающая истина была в том, что Лухан, хоть и хотел, в самом деле хотел сделать ЭТО с братишкой, готов был разреветься, когда представлял себя портящим непорочный цветочек Миньшо – свое дикое желание растерзать его попку, раздвинутые ноги братика, у которого на лице будет написано, что он не хочет… белое тело повсюду, его и Миньшо, которое покрывается следами жажды, становится захватанным и нечистым.
Лухана вновь передернуло, и он уставился на макушку молчащего Миньшо – объяснить, почему он так странно реагировал на мысли об их возможной близости, он не мог. Он просто знал, что если дорвется до этого, будет вести себя, как скотина, как последнее животное, как изощренный садист – будет заставлять Миньшо плакать и наслаждаться его слезами, расковыривая своим инструментом беззащитную дырочку. Это было бы так волшебно – грохнуть всем своим весом в грязь, утащить с собой Миньшо и чувствовать, чувствовать, чувствовать, как тугие мышцы облизывают его член, как вязкая глубина чавкает, давить братику на спинку и наслаждаться его униженной позой с вывернутой наружу попкой, которая покорно принимает все, что он в нее запихивает.
Что же, Лухана трясло от красок собственного воображения – и возбуждение начинало свербить прямо между ног, когда мозг под давлением похоти напрягался и показывал ему обратную сторону: его братику шестнадцать лет, и он похож на цветок хризантемы. По утрам он просыпается, потягивается, его ножка выползает из-под одеяла – и Лухан тихо подыхает от того, что видит.
Его еще никто-никто не трогал.
Он чист, как летнее утро. Его тело белое, как облако, его глаза еще не успели сгореть ничьей страстью. Никто не… никто не пользовал его ни в ротик, ни в попку, никто не пинал ему по ногам, чтобы дырочка открылась шире, никто не спускал в него свое отвратительное…
Он чист, как можно быть только до определенного момента в жизни. Эта непорочность в его частоте, она его сладость и его самый кошмарный яд. И Лухан прыгает вокруг него уже который месяц, слизывая отравленные капельки – а братик сияет все так же, как в самом начале.
И еще одно: Миньшо возится под ним, как змееныш, и в его сказочной головке тоже не все чисто – он пытается выжать из Лухана какое-то глупое признание, без которого, по мнению Лухана, они оба могут прекрасно обойтись. Лухан не собирается становиться зависимым от братика, не собирается оставлять свою фантастическую свободу, не собирается ничем жертвовать, чтобы удовлетворить истеричную прихоть Миньшо – он все равно не скажет. И Миньшо может плакать сколько угодно, до бесконечности выставлять себя жертвой, раздвигая ножки с больными глазами – он не дождется гарантий. Лухан и так уже доходчиво объяснил, что теперь братик может рассчитывать на его защиту перед отцом, в школе, перед кем угодно – Лухан может быть мужчиной, но принадлежать кому-то не собирается.
И Миньшо придется смириться с этим и как-то утихомирить свое раздражение, которое рвется наружу так смешно: потрепанный воробьишка, заведший привычку кормиться на окне Миньшо крошками, настойчиво чирикает и скачет по подоконнику – разочарованный и не нашедший своего обычного ужина, о котором впавший в депрессию Миньшо, наверно, забыл, а братик делает вид, что не слышит воплей возмущенной птички, а потом и вовсе шикает на наглеца, прогоняя с подоконника.
Лухан смеется брату в воротничок:
- Он-то в чем провинился? Ты его раньше зацеловать был готов.
- Ни в чем, - бурчит Миньшо. – Отстань.
- Я думал, что мой братишка ангелочек, а он, оказывается, злыдня, - дразнит Лухан. – Давай поцелую в губки, чтобы все прошло?
Миньшо не отталкивает, но уворачивается, и Лухан бесполезно мажет по щеке.
- Ну ладно, - обиженно соглашается Лухан. – А то мог бы куда-нибудь еще поцеловать. Куда ты любишь? У тебя сосочки похожи на цветочки…
Лухан потирает пальчиком бугорок под тканью рубашки брата и, соответственно, получает кулаком по плечу – Миньшо ну совсем не в настроении.
- О чем ты думаешь? – Лухан перевернул братца на спину и заглядывает в глаза. А потом, так и не дождавшись ответа, проводит пальчиком по густой линии брови: под ней чернильные ресницы утекают к виску, как будто стрелку в углу глаза рисовали кистью и слишком много туши набрали – вот-вот сорвется под своим весом. Лицо Миньшо вызывающе яркое – и эти глаза на нем как пятна, как омуты, кажется, в Миньшо ничего больше нет, кроме этих застывших, огромных, дико на чью-то беду вычерченных глаз. Лухан смотрит на брата и впервые задумывается о том, что у его отца тоже могло не быть выбора – его просто засосало в эти зрачки, за коричневыми стеклами которых плещется то ли наивность, то ли страсть – никто уже не скажет точно. Затянуло так плотно, что он забыл о хрупкой китаянке, ждущей его дома, может быть, уже с хилым клубочком новой жизни внутри себя. Лухан вздыхает, и с сожалением говорит: - Я бы хотел посмотреть на твою мать. Увидеть ее глаза.
Миньшо быстро и злобно сощуривается, готовый защищаться: зачем Лухану хочется посмотреть на шлюху, мать еще более позорной?
- Ты красивый, - задумчиво продолжает Лухан. – И она, наверно, тоже была.
Миньшо душит в себе злые слова, даже в своем раздражении понимая, что Лухан не хотел его обидеть.
- Ты ее помнишь? – вдруг спрашивает Лухан. – Думаешь о ней?
- Да, - сухо говорит Миньшо. – Я ее помню.
Миньшо под ним уползает ниже, переворачивается на живот и зарывается носом в подушку, в ее пыльную глубину рассказывая:
- Я помню, как она мне пела, как приходила поцеловать на ночь, как учила читать… на своем родном языке.
- Скучаешь по ней? – тихо спрашивает Лухан.
- А ты как думаешь? – огрызается Миньшо. – Если бы она не умерла, все было бы по-другому. Я был бы другим, совсем другим.
- Ну уж другим, - усмехается Лухан, которому кажется, что у Миньшо не могло быть другой судьбы – кроме как вырасти пугливым, нервным цветком.
- Почему ты споришь? – Миньшо едва ли не шипит. – Тебе-то тоже хорошо известно, что значит вырасти без ласки. Ты сам знаешь, как это – когда никто и никогда к тебе не прикасается, когда никто не гладит, когда тебе грустно.
Лухан бы рассмеялся, если бы мог.
- Ты хочешь сказать, что ты такой, потому что тебя не гладили в детстве, как щеночка?
Миньшо устает объяснять – Лухан или не хочет понять, или в самом деле его устраивает его детство, которое он провел вполне самостоятельно, ссаживая себе колени об асфальт и швыряя камни в городских собак и попрошаек.
Миньшо знает только то, что он навсегда будет обижен на свою судьбу за то, что отобрала у него эту радость – быть любимым кем-то, за то, что одиночество расшатало его нервы, и теперь он готов на коленях стоять перед Луханом, который поманил его несуществующей нежностью.
- А по-моему, - говорит Лухан, растекаясь на братце сверху, - я уже столько гладил своего братика, что ты получил все, что, ты думаешь, тебе задолжали.
Лухан нежненько обхватывает ладошку братика, пропуская свои пальцы между его – Миньшо вырывается, но Лухан держит крепко.
- И потом, - Лухан многозначительно играет бровями, - я могу гладить тебя столько, сколько тебе хочется… Когда тебе хочется…
- Уйди, - просит Миньшо. – Уйди из моей комнаты. Сил больше нет тебя терпеть.
Миньшо отчаянно надеется, что Лухан все-таки поднимется и оставит его – потому что у него больше нет терпения умолять о нежности, о доверии, а в ответ получать эти похотливые фразочки.
Но Лухана заставить уйти может только пинок по яйцам – а Миньшо, как бы ни был зол, неспособен обидеть его маленькие драгоценные яйки. Этот дурачок может только – случайно – сожрать себя.
- Вставай, - говорит Лухан. – Я понял, что тебе нужно – просто расслабиться.
Миньшо понял, что Лухан имел в виду под «расслабиться», когда оказался в пыльной библиотеке: на столе стояла бутылка вина и два стакана, а Лухан пытался разжечь камин, бормоча что-то о том, что тут холодно, как в гробу:
- А впрочем, это место ведь тебе нравится? Ты сюда маленький реветь ходил?
- Сюда, - отвечает Миньшо, озираясь по сторонам – где-то здесь он и нашел своего медведя. Запах пыльных книг, шорох мягкого ковра под ногами и изогнутая дугой спина Лухана, стоящего на коленях перед закопченным камином, действительно успокаивают.
И все же он думает, что они рискуют задохнуться здесь, если он не откроет окно – сырой черный воздух вваливается в комнату, наполняя ее шумом сверчков и шорохами сада.
- Садись, - говорит Лухан, нетерпеливо постукивая ладонью по колену. Миньшо снова оглядывается по сторонам – второе огромное кресло слишком далеко, чтобы имело смысл придвигать его.
Да и вообще, разницы-то никакой уже нет – Миньшо аккуратно устраивает свой зад на коленях братика, наблюдая за выражением явного удовольствия на его лице.
- Держи, - Лухан протягивает ему стакан, на три четверти полный. – Ты такой нежненький, тебе хватит.
- Ты хочешь, чтобы я напился? – Миньшо швыркает носом, глядя на красную жидкость.
- Хочу, - кивает Лухан. – Хочу напиться с тобой и узнать, как ты целуешься пьяный, какой ты похотливый на самом деле, какой испорченный…
Лухан хохочет, когда личико братца оплывает обидой, как расплавленный сыр.
- Да ладно, - сжаливается Лухан. – Просто выпей, думать меньше будешь. – Лухан подталкивает стакан к губам Миньшо. – Выпей все. А потом посмотрим, налить ли тебе еще.
Стекло стучит по зубам Миньшо, а кислый запах, поднимающийся к ноздрям, просто дурит. Он делает маленький глоточек и морщится – он надеялся, что хотя бы на вкус вино будет лучше.
- Пей-пей, - снова подталкивает Лухан.
Лухан не дает ему остановиться, отодвинуться, убрать стакан от губ – и Миньшо глотает рубиновую воду большими глотками, чувствуя, как обжигает от нее внутри, как обволакивает кислятиной рот, словно выскабливает все.
- М-м-м, - Лухан перевернул стакан слишком сильно, и то, что не уместилось в последний глоток Миньшо, вытекло из его рта тонкой струйкой, скатившись по шее. – Какая гадость.
- Ничего не гадость, - со смешком спорит Лухан, делая глоток из своего стакана. Он даже не морщится, и Миньшо предполагает, что Лухан пил уже не раз. Лухан думает, что Миньшо все равно догонится быстрее, и осушает стакан до дна, отставляя его на стол и подмигивая братцу: - Мы с бабулей одобряем.
Миньшо недовольно фыркает – рефлекс на упоминание старухи.
- Ну так вот, - говорит Лухан, и Миньшо хихикает про себя: «ну так вот» - вроде, любимая фразочка Лухана. Миньшо, правда, мрачнеет, когда вспоминает, что следующие в списке популярных у Лухана «блядь» и «выебать», а его собственное имя, наверно, где-то по середине, - о твоей матери…
Миньшо возится на коленях брата, приложив руку к груди, по которой все ощутимее разливается горячее: оставил бы он его мать уже в покое, грешно все-таки говорить гадости о мертвом человеке. Миньшо с тоской вспоминает те не бывшие редкими моменты, когда, лежа на медведе, он плакал в его плюшевый затылок и обвинял мать, которую помнил только звуками песен, в том, что она оставила его, такого нелюбимого и беззащитного. Обвинял много раз и в том, что она вообще родила его – как ни крути, а она была виновата – чего ей стоило не раздеваться перед чужаком, не отдавать себя ему? Так нет же, они, бедняжки, думали, что любили друг друга – а вот этот плод любви, фрукт с раскосыми глазами и вечной истерикой в сердце оказался никому не нужен. Миньшо с отчаянием не раз думал, что, будь у него возможность выбрать, рождаться ли на этот грубый свет или никогда не существовать вообще – он бы точно выбрал второе.
- Эй, ты здесь вообще? – Лухан щелкает пальцами у него перед носом, и Миньшо с удивлением понимает, что задумался настолько, что забыл о брате.
В его голове вообще, судя по всему, появились какие-то странные нелинейные мысли, которых раньше не было.
- Повтори, пожалуйста, - аккуратно просит Миньшо. – К сожалению, я должен признаться, что совсем не слушал тебя.
Лухан непонимающе хлопает ресницами и таращится на румянец, очевидными пятнами разливающийся по щекам брата – вот ну не смешите, неужели Миньшо уже скосило?
Впрочем, братишка сейчас выглядит точь-в-точь как его медведь. Которому саданули по плюшевому затылку доской.
- Я говорил, - терпеливо повторяет Лухан, надеясь, что его слова все же доходят до Миньшо, - что бесполезно изводить себя тем, что матери у тебя не было. Ну не было и не было, ты ни в чем не виноват и помочь этому не можешь.
- Все могло бы быть, - Миньшо подчеркивает горькие слова, - по-другому.
Даже мысли о том, что он мог бы так же греться в лучах родительской любви, как другие дети, делают ему больно, и в голове от этой вечной боли снова светлеет и холодает.
- Ну как по-другому? – не унимается Лухан. – Маман варила бы тебе кашку, вытирала бы зеленые сопельки и сватала за соседскую девчонку, которая страшная, как оспа, да еще и картавит?
Лухан никогда не был хорош в спорах – да и аргументов, чтобы вытащить Миньшо из его сожалений, у него уже не осталось – и поэтому он просто нес чепуху, заставляя губки Миньшо дрожать от горького, сдерживаемого смеха.
- Да, конечно, это было бы замечательно, - Лухан продолжает кривляться, - в четырнадцать ты бы зеленел от стыда, когда мамочка спросила бы, что это за штукой обляпаны твои трусы. А папочка отвел бы тебя наверх и стал объяснять, что такое сифилис и гонорея, и даже назвал бы имена шлюх, у которых это точно можно подхватить – а ты бы думал, откуда он это знает.
Миньшо пофыркивает сквозь губки – то ли расплачется сейчас, то ли рассмеется, и Лухан добивает коронным:
- Вырос бы похожим на Вуфаня… Он мне, представляешь, два дня показывал какой-то амулетик из металла, делал страшные глаза и говорил, что он защищает от ЭТИХ, - Лухан выпучил глаза, как бессмысленная рыба, изображая мистический трепет соседа по комнате перед гонореей, - болезней.
Миньшо больше не может сдерживаться – представление в лицах добило его – и тихо хохочет, упираясь ручками в подлокотники, пока Лухан задумчиво подпирает щеку ладонью.
- Как будто к нему за этим делом очередь выстроится… - Лухан смотрит на братишку, идущего красными пятнами – ему явно весело – и решает спалить вдогонку еще и грандиозный вуфаневский секрет: - Никто не знает, а у него же в трусах вот такой, - Лухан, не особо стараясь, раздвигает пальцы на ту длину, которая его тогда так впечатлила… А потом под смех братца еще и убавляет пару сантиметров, так что Миньшо рыдает слезами, пытаясь связать расстояние между пальцами Лухана с образом высокомерного красавчика – образ жалобно кривится и делает щенячьи умоляющие глаза. – Ну, уебище же? – заканчивает Лухан.
- Уебище, - согласно кивает Миньшо, и все внутри него нагревается от приятного чувства, что он в первый раз в жизни произносит такое нехорошее слово.
Он вообще в первый раз в жизни – пьян.
Эта очевидная мысль настигает его, как выстрел из учебного арбалета, и он замирает снова, пораженный прямо в голову – он может двигаться, он думает… Но все какое-то не такое.
- Так что не говори мне больше о том, чего у тебя нет, - Лухан все не может успокоиться в своем намерении вправить братцу его маленькие глупенькие мозги. – Упаси меня господи иметь в родственничках такого, как Вуфань. Можешь мне поверить, я исключительно рад тому, что у меня братишка такой, какой есть…
Миньшо трясет головой, каштановые прядки падают на лоб – и вино течет внутри, разгоняя тепло от слов Лухана до самых кончиков пальцев: хорошо, эта его проблема в представлении Лухана, действительно, хотя бы на мгновение, перестала казаться ему такой мучительной.
Но ведь есть еще одна, которая мучает еще сильнее – сам Лухан.
- И вообще, - Лухан снова тянется к бутылке, наполняя стаканы, - зачем тебе кто-то еще, когда у тебя есть я?
- Нету.
Миньшо снова с удивлением понимает, что вино, кроме всего прочего, умеет говорить. Его голосом, его мыслями – но как-то в обход головы. А, впрочем, ему уже все равно, и он повторяет снова, ставя сильное ударение на слова:
- У меня тебя – нет.
- Что? – Лухан не был готов к такой категоричности, к этому упрямому блеску в глазах – он всего лишь хотел расслабить братика.
А вышло почему-то, что перевел стрелки на себя.
- Ты не хочешь сказать, кто я тебе, - заунывным голосом Миньшо зачитывает обиду, - ты говоришь, что не любишь меня…
Лухан нервно посмеивается, не зная, как выпутаться из слов Миньшо – ему почему-то впервые не хочется, чтобы братишка сейчас принялся рыдать.
- Ну… - Лухан тянет это «ну», как кота за причиндалы, - сам же сказал, что я постоянно вру. Какой тебе смысл хотеть это услышать, если я лжец?
- Именно потому, что ты постоянно врешь, в это я бы поверил, - упрямо говорит Миньшо, опущенными глазами изучая свои ноги.
- Ну знаешь, братишка, - Лухан снова не может удержаться от смеха, - не поискать ли нам логику под твоей кроватью? По-моему, ты ее где-то потерял.
- Не смейся, - обиженно тянет Миньшо. – Я пьяный из-за тебя. Я хочу тебе сказать, что… а слова не складываются, и ты не понимаешь.
- Так выпей еще, - радостно говорит Лухан, - тебе надо еще выпить, и слова сами придут.
Лухан передает брату стакан, думая о том, что Миньшо после него отключится, и придется нести его в кровать – а завтра снова искать аспирин в чемодане.
Миньшо радостно встречает уже знакомый вкус, который делает его мысли такими… странными. Как будто если он сейчас действительно соберется и скажет Лухану, как сильно нужно ему услышать «люблю», Лухан тотчас же поймет, сдастся – и перестанет быть такой сволочью.
Миньшо допивает вино, отдает стакан брату – а потом внезапно ощущает потяжелевшее притяжение земли, которое, как магнит тянет железо, тащит его голову назад.
Наверно, потому, что его голова и впрямь стала металлической.
Миньшо опускается спиной на колени брата, его голова, руки и ноги свешиваются с подлокотников, так что он начинает чувствовать, как кровь шумит в ушах – а еще, вдобавок, как бесстыже он устроился на Лухане.
Когда Миньшо внезапно принял горизонтальное положение, Лухан тоже не остался безучастен – вытянувшееся на нем тело вполне очевидно будило такие же горизонтальные желания.
Миньшо скреб одну ножку другой, шевелил руками и, очевидно, наслаждался тем, как приливающая к голове кровь сводит его с ума. Лухан снова начал подозревать, что Миньшо делает это специально – впрочем, нет, сегодня он, скорее всего, просто пьян.
- Хочешь, чтобы я погладил тебя? – спрашивает Лухан, когда братик снова растягивает на его коленях свои позвоночки, как потягивающаяся кошечка.
Миньшо блестит глазами и уверенно кивает.
Лухан распускает пуговки на его облитой вином рубашке – полосы скользкой ткани съезжают с живота – и кладет ладонь на белую грудь, осторожно скользя вперед, до шеи, чтобы смять кожу, сжать… и вернуться обратно. Лухан гладит грудь над сосочком, заползает под рубашку, чтобы сжать плечико – он кожей чувствует, как Миньшо приятно, как он жмурится от удовольствия и замирает, предвкушая следующее прикосновение.
Миньшо не возбуждает это, он просто получает удовольствие от его пальцев, сжимающих, массирующих кожу – как будто он в самом деле изголодался по прикосновениям, как будто все то, о чем он говорил – правда, и его тело впитывает долгожданные касания, как губка.
Лухан гладит ребра, и Миньшо поджимает пальчики на ногах от удовольствия – четыре сильных пальца подушечками натягивают кожу, вытягивают ее почти до боли, оставляя после себя приятное ноющее раздражение. Миньшо чувствует, как Лухан пытается стянуть с него рубашку, и торопливо приподнимается – лишь бы брат не прекращал этих сумасшедших ласк.
Голубой кусок ткани облетает на ковер, выпущенный рукой Лухана, и он спокойно тянется к пуговкам на шортах, чтобы стянуть и их – Миньшо ведь хочет, чтобы его тело гладили.
Где – он не уточнил.
Миньшо отстраненно, словно со стороны смотрит на свое тело, которое извивается, мнется в поясе, помогая Лухану избавиться от шортиков – кусок ткани съезжает по его бедрам, застревает на коленях и в конце концов исчезает под креслом. Лухан смотрит на него внимательно и насмешливо, и Миньшо постигает еще одно свойство вина – ему не стыдно.
Совершенно не стыдно лежать голым на коленях брата, наоборот, это приобретает какую-то свою откровенную прелесть, когда он потягивается, прогибает спину и прикрывает согнутым коленом библейские места от глаз Лухана.
Лухан начинает гладить уже все тело – красные полоски от его рук пересекают живот и бедра, пальцы впиваются в бока и тянут кожу со спины. Расправленный веер его пальцев сминает кожу даже на щеке, забирается за плечо, давит на косточку на шее. Лухан думает, что они оба сошли с ума – братишка просто млеет под его пальцами, растирающими ручку от плечика до локтя, прикрывает глаза и тянет:
- Хорошо-о-о…
- Ты сумасшедший, - восхищенно выдыхает Лухан в ответ.
Миньшо похож на животное – он поворачивает голову, когда Лухан гладит его шею, он почти переворачивается на бок, когда Лухан скользит по ребрам, его движения медленные, полные наслаждения, а глаза мутные, будто он теряет сознание.
Эта чувственность лишает Лухана рассудка: его пальцы раздирают кожу на острых ключицах, под ладонями он чувствует холодные шарики сосков, а Миньшо поднимает бедра и потирает колени друг о друга, так что шорох кожи в тишине становится оглушающим, будто сотни змей наползают на это кресло в темноте, глядят подернутыми пеплом углями глаз из камина и ждут, что после этого они еще могут сделать друг с другом.
- Ты издеваешься надо мной, - стонет Лухан, когда Миньшо вновь падает головой вниз с подлокотника – каштановые волосы опадают полотном, а ножки так и продолжают тереться друг о друга, погружая Лухана в такую одурь, в которой он еще не был, которой еще не пробовал с Миньшо.
Да он и не предполагал, что братик на такое способен – по сравнению с этим его приставания и игры с расстегнутой ширинкой кажутся просто смешными. То, что делал Лухан, походило на секс, чавкало спермой в зажатом кулаке и, возможно, невероятно возбуждало – но то, что мог Миньшо, было чистой одурью. Это была власть тела, которое отравляло не влечением натертого, истекающего смазкой члена, а страшной, отчаянной похотью, которую и выдержать-то было сложно. Это тело было абсолютно бесстыжим, непостижимо отзывчивым, внутри него, казалось, медленно и тяжело пульсировала плазма, как в новорожденной звезде, и вся эта запертая в нем энергия хотела – не банальной разрядки, не взорваться фонтаном теплой спермы, не дышать тяжело после этого. В Миньшо горел какой-то свой дикий пожар, и его желание было на порядок выше луханевского – он хотел целиком, получить заряд прямо в сердце и разорваться без остатка. Его кожа кричала от желания, его тело изнывало жаждой – но все это было куда глубже, мощнее и страшнее, чем то, с чем был знаком Лухан.
И эта страсть внутри, на которую Лухан смотрел, как завороженный, разглядывая тело брата, оправдывала и разврат, и похоть… Она состояла из них, но глушила еще чем-то, чего не было у самого Лухана.
Лухан не умел любить так, не умел отдаваться, не умел подыхать, извиваясь от наслаждения, на поверхности этой звезды, сияющая плазма под коркой которой уже нагрелась достаточно, чтобы взорвать все вокруг.
Миньшо умирал от наслаждения, Миньшо хотел взорваться в нем – и эта тяга к смерти, которую братик всегда хранил в себе, была тем, чему Лухан сопротивляться не мог и не хотел. Он восхищался маленьким Миньшо, который любил так, что готов был умереть, который отдавался так, что сам огонь становился безобидно холодным.
Миньшо почувствовал, как замерли руки Лухана на его теле – и закрыл глаза, когда пальцы брата медленно смяли шелковистые густые волосы под животом. Его мало волновало то, что Лухан собирался делать дальше – сегодня он получил то, что хотел.
Минуты сумасшествия, когда ему было хорошо со всех сторон – вечно издевающийся, отвратительный Лухан своими похотливыми ладонями выгладил все его тело.
И Миньшо впитал каждый маленький отпечаточек пальцев брата, всосал кожей и сохранил в памяти – хоть что-то, что останется, когда Лухан снова заставит его встать на колени или, того вероятнее, бросит одного на дороге.
Миньшо почувствовал, насколько осторожнее стал двигаться Лухан, когда заскользил вниз между его ног, подминая гладкие густые волосы, и это показалось ему забавным – шкодливый Лухан хотел поиграть со своей любимой игрушечкой. Миньшо едва не захохотал, по-пьяному весело, со слезами, когда буквально почувствовал, с какой любовью Лухан поднимает его член, обхватывая ладонью.
Обожаемая Луханом штучка под его прикосновениями медленно поднималась, упругая, как тетива стрелы – пока не выпрямилась окончательно, подняв налившуюся кровью голову. В глазах Лухана это тоже походило на магию, и он погладил член двумя пальцами, спустив складочки кожи с кончика. Прелесть братика не была громадных размеров, но Лухан был ей бесконечно доволен и едва ли не горд – член был таким же хорошеньким, нежненький и белым, как сам Миньшо.
Его приятно было трогать – прослеживать пальцами подъем у основания, там, где он еще не становится круглым, тянуться вдоль этой неровности вверх, пока пальцы не встретят венку, оплетающую ствол вокруг… Чуткие подушечки пальцев ощущают в ней пульсацию крови, тот же горячий ритм, что шумит в ушах.
Миньшо не собирался смеяться вслух, но это больше, чем он может вынести, и из него вырывается истерический смешок – голая грудь прыгает от смеха, рвется оскорбительным для Лухана кашлем.
- Почему ты смеешься? – смех Миньшо такой откровенно вызывающий и нездоровый, что Лухан слышит в нем нотки истерики.
- Ты… - хохочет Миньшо, поднимаясь на ногах брата, - ты бы, если бы мог, признался бы в любви моему члену, верно? Его ты готов любить – а меня нет?
Лухан готов признать, что это действительно смешно – пока Миньшо не вешается ему на шею, опутывая ручки вокруг его плеч, и Лухан все-таки узнает истерику в дрожащем голосе, шепчущем ему в ухо:
- Скажи, зачем ты это делаешь со мной. Скажи, черт бы тебя побрал, - Миньшо ударяет Лухана кулаками, бесполезно надеясь, что Лухан отравится его словами, сдохнет от их горечи: - Я для тебя никто, да?
Лухан находит это до слез трогательным – голый, как лягушка, братик на его коленях, пытающийся избить его кулачками – но отвечать на попытки Миньшо вытребовать из него признание он по-прежнему не собирается, так что единственным способом уберечь ручки Миньшо от синяков и прекратить это становится поцелуй.
Миньшо чувствует губы Лухана на своих, легкий толчок отодвинувший его, и отвечает брату так же голодно, скатываясь на колени по бокам ног Лухана, который перебирается на шею – и это становится его ошибкой: если рот Миньшо освободился – он использует его, чтобы добить Лухана.
- Скажи, что ты меня любишь. Скажи так, чтобы я поверил…
- Нам это ни к чему.
- МНЕ это к чему! Скажи, Лухан, просто скажи, ты не понимаешь, как мне это нужно, как необходимо… - Миньшо снова принимается трясти брата, и Лухан обрывает грубее, чем хотелось:
- Перестань капризничать, я не твоя мать, чтобы уговаривать.
- Ты не понимаешь, - обреченно произносит Миньшо, утыкаясь носом в шею брата, - мне плохо…
- Не строй из себя жертву, - предупреждает Лухан – но ничего не может поделать со своей рукой, которая успокаивающе гладит позвоночки на вздрагивающей спинке.
- Я же все уже для тебя сделал, - горячий шепот обжигает кожу Лухана, и он прищуривается, расслышав в нем не жалкое отчаяние, как раньше, а наливающуюся злость. – Все отдал тебе, что мог.
- Так уж и все? – Лухан мог бы пожалеть, конечно, но Миньшо сам лезет в огонь – а Лухан уверен, что за свои действия даже братик должен платить по полной. – Чем же это таким ты пожертвовал, что я об этом не знаю?
В голосе Лухана столько сарказма, что Миньшо съеживается – как будто Лухан никогда не понимал, что одежда, которую брат снимает с него, обнажает и что-то в его голове, отчего он облетает кусками, как штукатурка. Он больше не целый…
Как будто десяток раз раздвинуть ноги было легко, как будто он хотел этого, а не просто позволял! Как будто вся эта грязь не вросла уже в его тело, как будто это не Лухан научил его отзываться на слово «блядь»…
Миньшо чувствует в себе потрясающую, жуткую злость – и почему бы ему не удовлетворить Лухана сегодня полностью? Лухан, конечно, не назовет это жертвой – или посоветует перестать изображать ее из себя – зато Миньшо, сползая с коленей Лухана на пол, надеется, что эта не-жертва захлестнет его самого, зальет отвращением его сумасшедшую любовь… и когда она будет шипеть обиженно, он окажется на равных с ничего к нему не чувствующим Луханом.
Когда Миньшо слетел с него, Лухану показалось, что ему стало плохо, что братишка ударился – противный мягкий звук упавшего на пол тела застрял в ушах. А потом вместе с этим звуком его язык застрял в глотке, и торопливое сердечко зачастило, как у пойманного зайца – голый, как Адам, соблазнительный, как первородный грех, братик встал на колени между его раздвинутых ног и принялся расстегивать на нем брюки. Миньшо сильно дергал пуговицы, а ткань и вовсе рванул так, что она затрещала – Лухан глубоко вдохнул и вцепился в подлокотники, когда братик с сумасшедшей силой потянул его брюки вниз.
- Миньшо, что ты… - Лухан не знал, собирался ли он отговаривать на самом деле, но братишка решил за него сам, оборвав бессмысленное бормотание, которое даже на жалость не тянуло:
- Поднимись.
И Лухан позволил – стащить ткань с бедер, раздвинуть свои ноги… Он сидел и просто смотрел: как Миньшо уперся ладонями в кресло, как неуверенно облизнул губы, как его каштановые волосы упали на живот, скрыв от него главное.
А потом он поплыл – вслед за влажным ртом, проглотившим его плоть.
Миньшо на самом деле не собирался облегчать себе задачу, да и не хотел делать это так, как Лухан делал с ним – покрывая поцелуями и вылизывая длинными взмахами языка, от основания до самого кончика. Миньшо просто открыл рот пошире, пропуская это в себя – а потом сомкнул губы, пытаясь проглотить слюни, которых сразу же оказалось слишком много. Миньшо заставлял себя глотать, но сделать это с членом во рту казалось невозможным – и он запаниковал, чувствуя, как задыхается, пока не выпустил Лухана изо рта. Он уперся губами в кончик члена, чтобы не потерять, и только тогда смог проглотить и успокоиться.
Самым странным оказалось то, что он не мог взять глубоко – едва головка упиралась в глотку, его начинало тошнить, он задыхался снова, все его внутренности поднимались к горлу, и он едва мог удержать то, что выпрыгивало из него и пыталось вытолкнуть это изо рта. Миньшо закрыл глаза и смирился с тем, что не должен пытаться засунуть в себя больше половины.
Зато эти самые слюни никак не хотели заканчиваться, с ними ничего нельзя было сделать, и вместе с влагой по рту поплыл какой-то мерзкий вкус, тошнотворно оседавший на языке – вкус тела, которое не было чисто вымытым, которое вообще не должно было оказаться у него во рту – и противно было думать о том, сколько раз после душа Лухан успел побывать в туалете.
Лухан не знал, о чем думает братик, но не мог не заметить, как Миньшо затошнило – и он не нашел в себе сил остановить его, только отодвинул волосы со лба, чтобы они не мешали смотреть, как ротик Миньшо скользит на его члене. Движения Миньшо рваные, размытые отвращением, но Лухан может поклясться, что теперь ему гораздо приятнее, чем было тогда в школе с пьяным мальчишкой – просто потому, что это его братик сейчас упирается ладонями ему в бедра и старательно насаживается на него своей головкой с каштановыми волосами.
Чем больше Миньшо глотал, тем меньше оставалось неприятного вкуса, он, казалось, смывался его слюнями, оставляя после себя знакомый кисловатый винный оттенок. Миньшо свыкся с членом, но по-прежнему не представлял, как сделать Лухану приятно. Он мог только скользить по нему губами – это получалось легко и влажно, очень сыро. Если он приподнимал член и упирал его кончик в верхние зубы, даже глотать становилось проще. Он мог потереть его снизу языком, мог выпустить его так, чтобы погладить кончиком языка дырочку на головке – но ощущение, что он причиняет Лухану больше неудобства, чем удовольствия, не пропадало.
И все же Лухан не отталкивал его, только держал руку на лбу, отодвигая волосы.
Миньшо пытался сжимать губы сильнее, сосать в буквальном смысле, но ему начало казаться, что мышцы на щеках ноют от боли.
Он был совершенно бесполезен…
Лухан чувствовал и зубы, которые иногда проходились по нежной коже, заставляя вздрагивать – но это все меркло по сравнению с удовольствием, которое он получал. Боже, это тепло, эта влага, эти попытки Миньшо проглотить больше, чем он может, заканчивающиеся рвотным рефлексом, который приподнимает корень его языка и так приятно сдавливает кончик. Лухан лишь хотел бы, чтобы Миньшо делал это резче, чтобы он мог слышать чавкающий звук, когда погружается в ротик Миньшо – но его руки с расставленными пальцами так и замерли около головы братика, слишком нежные и любящие, чтобы схватить братишку за его шелковые шоколадные волосы и показать, как правильно.
Миньшо кажется, что это длится уже вечность – ноющие щеки и горло, ощущение необыкновенной гладкой кожи под губами, редкие чмоки, когда он выпускает слишком сильно… И, наверно, это снова из-за вина – то, что он начинает чувствовать, когда опять пытается затолкать в себя больше, чем может.
Он и в самом деле блядь – любящая Лухана до истерики, до сумасшествия. Блядь, которую тошнит, которая давится членом в своем рту, но не может даже от себя скрыть, как ноет у нее в животе – потому что он хочет этого.
Облизывать еще и еще, сосать, как самая низкосортная шлюха, обволакивать нежный ствол своими слюнями, а потом глотать их, глотать вкус Лухана, совершенно не заботясь о том, какая это мерзость. Ему хочется любить Лухана между его ног, позволять иметь себя в рот и дарить брату удовольствие, к которому он так стремился.
Миньшо понимает, что это конец – конец его плюшевого мира, чистых слез и старых книг с желтыми страницами.
Потому что в эту самую секунду он обожает член брата и готов плакать от того, что не может сделать ему так приятно, как хочется – только в животе ноет все сильнее, только губы болят. А желание угнездилось где-то в голове и рисует перед воображением картинки, на которых он облизывает Лухана, хлюпает слюнями на его члене и глотает все, что ему дадут.
Миньшо растягивает пальцы на бедрах Лухана, там, где отчетливая дельта напряженных мышц тянется через пах – и снова берет глубже, сжимая губы сильнее, чтобы Лухан чувствовал это.
Как бы плох ни был братик, как бы ни был неуклюж и неопытен, вскоре Лухан все же почувствовал, что долго не продержится – и если он не хотел заставлять Миньшо глотать, а потом тащить нежного братика к унитазу, ему надо было оторвать эту каштановую головку от себя. Ведь он же не хотел, да? Залить Миньшо теплой влагой и смотреть, как она вытекает у него из губ, как его тошнит от вязкой теплоты и запаха, пока он, такой нежный и хрустально-чистый, выглядит, как шлюха.
Лухан дернул ногами с болтающимися под коленями брюками, позвал:
- Миньшо… - и, не дождавшись ответа, приложил ладони к вискам братика, чтобы потянуть вверх. – Миньшо, остановись, ты не сможешь проглотить.
Миньшо смотрел на брата огромными обиженными глазами – Лухан же хотел увидеть «жертву», так почему останавливает его? Какого черта он обращается с ним, как с малышом, а бьет прямо по щекам, прямо внутрь плюет, как врагу?
- Ты же хотел, - Миньшо отталкивает руки брата и пытается вернуться к прерванному занятию. – Ты же всегда только этого от меня хотел…
Лухан услышал свои собственные слова и попытался забыть обиженные и злые огромные глаза, которые смотрели на него с таким вызовом, когда Миньшо выплюнул свое обвинение. И, наверно, ему надо было быть настолько жестоким, насколько он планировал с самого начала – но черт бы побрал его жалость до бессильного братика, внутри хрупкого тела которого бушуют эти бури.
Лухан оттолкнул Миньшо, так что тот свалился на ковер, глядя на него с обжигающим презрением, сполз с кресла следом, неловко пытаясь содрать с себя мешающие брюки.
- Что еще для тебя сделать, братик? – издевался Миньшо, наблюдая за неловкими движениями Лухана, срывающего с себя рубашку. – Целовал, отсасывал, «блядей» твоих терпел – может, сделаешь это уже со мной, наконец? Попользуешься, для тебя все и кончится – а на меня тебе плевать было с самого начала?
- Помолчи, - сказал Лухан.
Миньшо, действительно, замолк – он целовал голого нависшего над ним брата, как голодная собака, прижимал ладони к его спине и растянутым ртом встречал его губы.
Он ненавидел Лухана. Он любил его так сильно.
- Возьми, Ханни, - шептал Миньшо в шею братика – запах такой сильный, такой родной набивался в нос и цеплялся к губам. – Любишь или нет, сделай уже что-нибудь одно.
- Нет. Мы оба пьяные.
Миньшо рассмеялся – он не любит, но отказывается. Лухан, почему?
Лухан поднял смеющегося Миньшо с ковра, поставил на колени и развернул к себе спиной – он хотел просто чудовищно, вылизанный братиком член болел от напряжения – но он не мог, не мог, никак не мог заляпать Миньшо, который не хотел по-настоящему, который просто истерил, пытался сломать его и сделать своим.
- Сожми ноги, - попросил Лухан.
Миньшо сжал бедра и вздрогнул, когда между ними медленно вошло горячее и скользкое. Член Лухана гладко проскальзывал между белых бедер, задевал яички, ощущался туго и плотно, кожа к коже. Миньшо сдавил его еще плотнее и навалился на Лухана спиной, позволяя братику получать столько удовольствия, сколько возможно.
Лухан целовал плечико, гладил братика спереди, теребя маленькие сосочки – и задыхался от удовольствия, когда нежные бедра все вымазались в его смазке и скользить между ними стало легко и сладко. Наверно, это было далеко от того, что он мог бы чувствовать, если бы они занимались любовью по-настоящему, но тело Миньшо под его руками, косточки на талии, шелковые волосы между ног, шея под губами – все было настоящим и сводило с ума. Лухан чувствовал, как толкает Миньшо, как его бедра ударяются в ягодицы, как Миньшо напрягается, чтобы удержаться – и немного отставляет маленький зад.
Черт побери, ему еще никогда не было так хорошо.
Миньшо думал, что эти толчки свалят его с ног – Лухан резко вгонял член между его ног… а выходил медленно, наслаждаясь скольжением между плотно сжатых бедер, которые Миньшо стискивал все крепче – специально для него, специально, чтобы порадовать своего братика.
Лухан гладил его одной рукой, а второй держал поперек живота, чтобы Миньшо не отлетал от него с каждым толчком и не срывал сладкий ритм, который подгонял их обоих все ближе к концу. Миньшо видел ладонь Лухана на своем члене, ощущал его член в себе, проходящимся где-то совсем близко от задницы... А потом Лухан остановил его, прижал к себе, надавил на живот – и Миньшо почувствовал, как между ног застелилась теплая влага.
Миньшо так и стоял с этим влажным между ног, которое растиралось шире, стоило ему только двинуть бедрами, потереть их друг о друга – завороженно наблюдая за тем, как Лухан пытается сделать приятно ему самому: рука братика складками спускает кожу к кончику, пока из него не брызгает белая жидкость, заляпывая ковер перед ними.
Миньшо так чудовищно хорошо, что силы, в конце концов, оставляют его – он беспомощно ищет, обо что бы упереться руками, но находит только Лухана позади себя, и благодарно падает ему в руки. На лице Лухана какие-то красные пятна и глаза блестят слишком ярко для темной комнаты, в которой от света углей камина почти ничего не осталось – а лунный свет в окно, наверное, не в счет.
Лухан коротко целует его, а потом подхватывает на руки, осторожно поворачиваясь в дверях, чтобы не ударить Миньшо.
Миньшо не уверен, в чьей они комнате – его или брата – когда Лухан опускает его на постель. Лухан целует его снова, нежно и благодарно, но Миньшо может думать, кажется, только об этом сыром и скользком между ног. Он неуверенно пробирается рукой под одеялом на живот Лухана, спускается ниже и сжимает его член – вспоминая, как противно и приятно одновременно было ласкать его языком.
Ему кажется, что его мысли запутались совершенно и он очень и очень пьян.
Миньшо просыпается от головной боли, медленно шевелится, чувствуя чье-то присутствие за спиной – и то, что он абсолютно голый под этим одеялом. Боль вспыхивает яркими вспышками, пламенем тухнущих углей, рубиновым наполненным стаканом – он вспоминает, что вся их одежда так и осталась в библиотеке, разбросанная по всему ковру.
Миньшо кривится, когда вспоминает и то, почему у него болят губы и ему неприятно глотать – как будто он все еще держит во рту член любимого братика. Любимого настолько, что вчера он сам сполз к нему между ног, сорвал брюки и наслаждался этим мерзким вкусом тела.
Миньшо хотел бы знать, что с ним было вчера, что заставило его хотеть этого – если ему сегодня так противно даже вспоминать. Противно до отвращения, до омерзения к самому себе – а ведь вчера после всего он целовал Лухана в губы и, кажется, ночью еще и говорил, что любит, поглаживая братика под одеялом.
Боже, какая мерзость.
Ему так хочется напитаться этим отвращением к себе, посмотреть на свое измызганное, заляпанное тело, что он отодвигает одеяло – и скользит взглядом по животу, замечая на косточке следы пальцев, по своему члену, безвольно упавшему на простынь… Вчера, наверно, этой любимой братиком части его тела было невероятно хорошо – жаль, Лухан не целовал его, он же сразу встает, когда чувствует губы братишки. Кожа на бедрах стянутая, вся в полосках – как будто их обмазали яичным белком.
Да вот только это не белок, это любовь его братика так, как Лухан ее понимает – и Миньшо вчера был покрыт ей с ног до головы, как и положено шлюшке, которую по ночам того самого на ковре в пыльной библиотеке.
После того, как она качественно отсосет, конечно.
Огонь злобы и отчаяния на секунду расширяет глаза Миньшо, и они становятся по-настоящему пугающими, с огромными бесчувственными зрачками, из которых исчезает всякая жалость – и прежде всего к себе самому.
- Доброе утро, братик.
Миньшо слышит за спиной хриплый и нежный спросонья голос – и еще пальчики, протянувшие теплую полоску вдоль позвонков.
Боже, как Миньшо его ненавидит. Его тупость, эту деревяшку внутри его груди, его похотливый член.
- Голова, наверно, болит? – интересуется Лухан. А потом смеется: - Ты думал, так легко стать пьяницей?
Глаза Миньшо почти чернеют, а губы сжимаются в тонкую линию – он больше не будет просить Лухана, он больше не будет сосать его член, называть себя блядью, позволять обращаться с собой, как с куклой, на которую можно кончить, а наутро еще и посмеяться с ней над чем-нибудь действительно забавным. Он бы с радостью заплакал над своим решением угробить в себе эту любовь, что отравляла его нежностью все лето – но глаза как будто выжгло.
- Эй, Миньшо, ты чего молчишь? – Лухан пытается развернуть брата к себе и заглянуть в глаза. – Не поверю, что тебе настолько плохо.
Лухан не находит ничего лучше, чем погладить братика по груди, растрепать сосочки и нежно, но сильно надавить на живот – вчера ведь от этого Миньшо плавился и выгибался, как кошка. Но к вящему неудовольствию Лухана его попытка сделать братику приятно закончилась тем, что Миньшо отвернулся от него сильнее и спрятал лицо в подушке.
- Ну Миньшо, что опять случилось-то? Скажи своему братику, - Лухан все еще думает, что может подурачиться, - какая бешеная муха тяпнула тебя за попку?
Миньшо думает, что говорил много раз – Лухан смеялся и утверждал, что он капризничает. Но это не каприз, сегодня – уже нет. Им надо закончить с этим, с ласками и ненавистью, с вечной похотью и пощечинами от Лухана. Миньшо больше не может быть шлюхой из-за своей любви – это не его предназначение, не его судьба – быть игрушкой жестокого братика.
- Миньшо, братишка, завязывай с этим, - голос Лухана, не получающего ответа ни на один свой вопрос, становится раздраженнее. – Уже порядком заебало смотреть, как ты обижаешься непонятно на что.
- Тебе все еще непонятно? – Миньшо поднимается на локтях и зло глядит на брата. – Так, может быть, ты просто слишком тупой?
Лухан совершенно не понимает – почему ночью он целовался с совсем другим Миньшо, который хватался за его губы и гладил его тело под одеялом, мурлыкая от удовольствия. Почему у этого Миньшо глаза такие черные и злые, полные ненависти?
- Уйди от меня, - с той же яростью продолжает Миньшо. – Забудь, продолжай издеваться, но не прикасайся больше, понял? Я предложил тебе тело – ты не захотел взять, я открыл тебе душу – ты в нее плюнул. Все! Ты сделал все, что мог!
- Миньшо…
- Ненавижу тебя! Убирайся из моей жизни, из моей постели!
- Прекрати!
- Ты думаешь, я хотел, чтобы меня раздевали? Чтобы ты трогал меня везде, а потом смеялся над тем, как я кончаю? Чтобы ты говорил, что не любишь, а хочешь просто попользоваться?
- Все не так, я никогда…
- Я не игрушка, Лухан! Ты больше не будешь играть с моим телом.
- Минь…
Миньшо оттолкнул попытавшуюся схватить его руку, и оттолкнул слишком сильно, так что Лухан попал собственным кулаком себе по лицу – и это окончательно выбесило его. Лухан придавил Миньшо сверху, прижав его запястья к кровати, и зло зашипел ему в затылок:
- Ты так любишь говорить о своих чувствах, так красиво выставляешь себя жертвой – а ведь я никогда, за все это лето, не сделал тебе ничего плохого. В чем ты меня обвиняешь, а, братишка?
Лухан встряхнул запястья в своих кулаках, чтобы убедиться, что Миньшо хотя бы слушает.
- Ты просто истеричка, у тебя расшатанные нервы, братик. Я начинаю подозревать, что ты вообще успокаиваешься только тогда, когда я делаю это с тобой. Так что на твоем месте я был бы благодарен…
Лухан пытается прижать извивающееся под ним тело, ногами сдавливая бедра Миньшо, чтобы растянуть его на кровати поудобнее.
- Давай я снова сделаю тебе приятно, и ты успокоишься? Такого ты еще не чувствовал, так что я надеюсь, это поможет твоей истерике.
Миньшо извивается, пытаясь избавиться от Лухана на своей спине, и ему почти удается встать на локти и колени, когда он жалеет об этом – Лухан кладет ладонь ему на задницу, равнодушно поглаживает, а потом надавливает пальцем на дырочку.
- Нет, - Миньшо задыхается от отвращения, но сил остановить Лухана у него нет – он чувствует, как пальчик медленно проникает в него и чуть сгибается, поглаживая стеночки. – Уйди от меня!
- Боже, какой ты нежный, - выдыхает Лухан. – Какой ты гладенький, какой тесный.
Лухан чувствует пальцем скользкий влажный шелк внутри, и его ненависть, которой он угрожал Миньшо, погасает – остается только желание целовать Миньшо в изогнутую спинку, собирая его судороги, когда он раскрывает стеночки шире, поглаживая их по кругу.
Легкие Миньшо начинают частить, хотя он по-прежнему задыхается – он никогда не думал, что прикосновение там будет настолько лишать рассудка. Он вздрагивает, когда Лухан надавливает внутри, и опускает голову между расставленных рук, когда понимает, что сам двигается навстречу брату.
Этот предательский жест тела Миньшо не остается незамеченным для Лухана, и он, наконец, решается погладить его сосочки – каштановое полотно волос покачивается между тонких упирающихся в постель ручек, а Миньшо втягивает воздух так шумно, что сложно становится сомневаться в том, что он возбужден до возможного предела.
- Погладь себя, - предлагает Лухан. – Ты же хочешь кончить?
Рука Миньшо послушно тянется к члену, ложится сверху и начинает растирать сладенькую штучку, пока Лухан любуется вздувшимися на его шее венами, раскрытыми губками, хватающими воздух, когда его пальчик трется внутри слишком быстро.
Миньшо совершенен. Миньшо прекрасен, как маленький бог. Лухан обожает такого братика.
И, наверное, это и есть любовь – что, глядя на то, как братик делает себе хорошо, быстро скользя ручкой по стволу, он думает о том, как внезапно беспокойство о чувствах братишки перевесило его собственное «хочу». Лухан так долго отказывался сказать Миньшо, что любит, потому что не хотел оказываться зависимым от этих слов – ничто не мешало ему в конце концов оставить Миньшо и найти другую интересную игрушку. Лухан не был никому ничего должен, ненавидел подчиняться и думал, что таким и останется до конца дней – но почему-то истерики Миньшо расшатывали это намерение…
И в конце концов захотелось просто плюнуть на свою независимость, вообще на будущее – и дать Миньшо то, чего хочет его маленькое сердечко.
Лухан сдался.
Миньшо сжимал себя так сильно, что кончить оказалось невыразимым облегчением – как и почувствовать, как измучившие его пальцы покидают его тело. Миньшо не собирался даже смотреть на брата – в последний разочек он поиздевался над ним просто роскошно, заставив надрачивать себе и млеть от пальца в заднице.
Он слез с кровати и принялся оглядывать комнату, разыскивая, что бы на себя накинуть – все-таки это оказалась спальня Лухана, а ходить по коридору голым с пятнами спермы на теле ему совсем не хотелось. В конце концов его взгляд упал на брошенный на спинку стула халат – он потянулся к нему, спиной чувствуя, как братец настойчиво глядит на него, и вздрогнул, когда Лухан позвал:
- Миньшо…
Миньшо не хотел поворачиваться, не хотел даже слышать этот ласковый голос. Он стоял голый посреди комнаты и большими неподвижными глазами смотрел на стену – как некрасиво все кончилось у них с братом. Впрочем, чего еще можно было ожидать – может быть, это справедливое наказание за «неправильные» отношения.
Чужие руки легли на его плечи, и он закусил губу, стараясь не оглядываться – незачем, незачем, незачем.
Ему никогда не везло.
Лухан в который раз поражался братишке и его вечно взвинченным нервам – он хорошо видел по этим стеклянным глазам, что Миньшо не в порядке, что он расстроен до предела и вот-вот взорвется.
И с улыбкой думал, что Миньшо для счастья не хватает, в общем-то, одного – его самого.
Лухан обнял братишку за плечи, ласково поцеловал в шею и, губами отодвинув с нежного ушка каштановую прядь, наконец, произнес те слова, которых так ждал Миньшо.
|
|