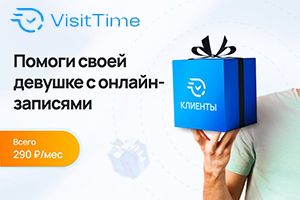Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
|
|
Часть 16
Зеркало…
Показывает красные размазанные по скулам пятна румянца, два неровных верхних зуба в приоткрытых губах, торчащие из расстегнутой рубашки затвердевшие соски и подпрыгнувший на уродливой шее кадык, когда он вцепляется пальцами в болезненно-белый фарфор раковины и виляет голым задом, чтобы уйти от щекотного, как у змеи, прикосновения твердого кончика языка к стянувшейся от дурящего голода точечке, которая единственная сейчас прикрывает от Лухана вход внутрь его тела.
Лухану с утра показалось мало как обычно стянуть с него белье и брюки и быстренько заняться этим перед завтраком, негодник братишка заволок его в ванную и решил показать тех самых обещанных порхающих в заднице бабочек – и теперь Миньшо вынужден, сгорая от смущения, смотреть на себя в нечистое зеркало и ждать, когда Лухан наиграется с его на все готовым телом.
Лухан мстительно дергает его голые бедра на себя, и Миньшо растекается по раковине, обжигаясь фарфоровым холодным прикосновением к сосочку – тоненькая приятная боль оседает нежными иголочками в растянутых мышцах колечка, когда братишка слишком сильно разводит ягодицы.
А потом это самое неприличное, до слез смущающее местечко на его теле оказывается вылизанным широкими взмахами влажного языка – Миньшо едва ли не кожей на ягодицах чувствует, с каким удовольствием братишка это делает. Как вжимает нос между половинок, облизывается и раздвигает их снова, чтобы пощекотать языком свою новую любимую игрушечку на его теле.
И тогда Миньшо понимает, что так раздражает его в зеркале – не обкусанные губы, не кривые зубы и не торчащие соски.
Глаза.
Блядские голодные глаза, в которые совершенно нельзя смотреть, не содрогаясь: в них одна только густая, как кофейная гуща, похоть и желание раскрыться пошире для этого языка и губ, которые…
- Не-е-е-ет, Ханни…
Миньшо хочется схватить любимого братика за торчащие волосы и приложить личиком об раковину – если бы Лухан хотя бы примерно представлял, что он чувствует, вряд ли он стал бы…
О, боже…
- Ханни, перестань…
Сосать его там так, что он чувствует, как нежная кожица затягивается внутрь братишкиного грязного рта и делает ему так невыносимо хорошо…
Рука Миньшо беспомощно ударяет в стену, срывается – и стягивает за собой полотенце. Кусок ткани оседает на пол, и Миньшо кажется, что он услышал смешок в глубине своей задницы. Миньшо, может быть, и не зверел бы так, если бы Лухан не начинал хохотать каждый раз, когда понимал, что раздразнил нежненькое тело братика так, что, какую бы мерзость он ни вытворял, сил, чтобы уйти, у Миньшо нет.
Миньшо очень хочется развернуться и пнуть братику по тяжелым от похоти яйцам… или наброситься на него, стянуть кулаками волосы и вылизать его грязный рот, прижавшись к нему, одетому, стоящим членом, но все, что у него в конце концов получается – раздвинуть ноги еще шире, так что спущенные брюки натягиваются на полу по ширине шага.
Потому что блядский братик растирает по его сосочкам пальцами свои слюни, и они высыхают тут же на горячих головках – Миньшо хочется нервно засмеяться, когда он понимает, насколько хорошо Лухан знает, где его слабые места.
- Братишка…
Миньшо думает, что он глуп, раз не догадался сразу, что одни полизывания самых интимных и неприличных мест не удовлетворят Лухана – он же просто бесстыжий – и снова хватается за раковину, едва ли не опуская голову в фарфоровую глубину: от одной мысли о том, что грязный пакостный язычок любимого Ханни сейчас в полном смысле слова внутри него, подкашиваются ноги и слабеют колени. С томным:
- Амх, - предательские ножки Миньшо подаются назад, чтобы еще хоть немного глубже…
Раздраженный стук в дверь и отцовское:
- Лухан, ты там? Сколько можно вас ждать? Завтрак уже остыл, - кажутся Миньшо ужасами, о которых он читал в книгах – сущий кошмар, если подумать… От которого его с братом надежно защищает белая дверь.
Лишь бы не слышно было стонов…
Лухан словно угадывает его мысли, тянется рукой ко крану, чтобы включить воду, и, на удивление Миньшо, спокойным голосом отвечает:
- Сейчас приду. Я только встал, ты мешаешь мне умываться.
- Найди своего брата, - с явным недовольством заканчивает голос за дверью. – Я не считаю приемлемым бегать за вами по дому и собирать на обед, как маленьких.
- Хорошо, отец, - Миньшо прекрасно знает, что покорность в голосе – заслуга одного лишь актерского мастерства Лухана, лицо которого с похабной ухмылкой от уха до уха он видит в зеркале.
- Скотина, - шипит Миньшо, - нас из-за тебя поймают.
- Если не будешь громко стонать по ночам, то не поймают, - отмахивается Лухан. – Не хочешь меня поцеловать?
Повернувшийся Миньшо рассматривает его припухшие, шелушащиеся губы, на которых, как ему кажется, красным горит сам грех, повествующий о том, где только что были эти губки и что делали.
И еще Миньшо кажется, что Лухан специально это спросил, чтобы подразнить. И если он скажет «нет», Лухан все равно заставит его целоваться из вредности – братишка считает, что он непременно должен причаститься всей мерзостью, что он вытворяет.
- Хочу, - с вызовом отвечает Миньшо.
К его облегчению, в поцелуе не чувствуется какого-нибудь гадостного вкуса, только Лухан с сожалением проводит пальцами по его члену:
- Прости, придется тебе так походить.
- Я знаю. Давай быстрее, он будет злиться, - Миньшо отталкивает его руку, потому что ласковое поглаживание успокоиться не помогает совсем, и наклоняется, чтобы подобрать брюки. – Черт! Сука!
Лухан хотел было кинуться, чтобы приласкать приложившегося своей хорошенькой головкой о раковину Миньшо, но это внезапное совершенно несвойственное братику ругательство его насмешило – либо Миньшо успел нахвататься привычек сквернословить от него, либо он на самом деле сейчас злой и неудовлетворенный и хочет что-нибудь твердое в свою попку.
Какая жалость, что у них нет времени.
- Сука, - передразнивает Лухан, поднимая братика-неудачника на ноги и целуя в лоб. – Тебе не идет ругаться.
Миньшо фыркает, застегивается и слышит только тихое:
- Люблю тебя, - когда выходит из ванной, но не считает нужным отвечать на него – в конце концов, это все из-за Лухана.
Его вина, что отец смотрит на них сердито, когда они спускаются, что недовольно встряхивает газету – Миньшо кажется, что его с братом растрепанный видок слишком очевиден и красноречив и не миновать им теперь допроса о том, где они изволили пропадать и чем занимались, что выглядят так развратно. Миньшо встречается с отцом испуганным взглядом и весь съеживается, когда на его голову успокаивающе ложится чужая рука – легко проводит вдоль, разнимая шоколадные прядки, и то ли застревает в них, чистых и слишком из-за этого спутавшихся, то ли Лухан нарочно задерживается, чтобы сделать это с удовольствием. Как бы то ни было, недовольство в глазах отца сменяется удивлением, и Миньшо не замечает, какими взглядами обменивается с братом его отец – он и правда хотел бы высказать вслух свое раздражение и узнать у младшего сына, что значат эти нежности, но Лухан, ласково поглаживая брата по волосам, смотрит на него так, словно предупреждая, твердо и ясно, что лезть на его территорию он просто остерегается.
- Дверь! Дверь хотя бы закрой…
- А мне плевать, - Лухан нахально шепчет в ушко упирающегося братика свое мнение о том, что их могут поймать на горячем – он уже не первый раз, на самом деле, ловит себя на мысли, что его только возбуждает сильнее, когда они занимаются этим там, где их могут увидеть. – Что естественно, то не безобразно…
- Ну да, конечно, - ерничает Миньшо, помогая пакостным ладошкам братишки задирать его джемпер, потому что они оба знают, что маленькие похотливые сосочки должно быть видно. – Мы с тобой голые друг на друге – это так естественно…
Лухана необъяснимо греет это «мы с тобой», и он смеется, целуя братишку в ушко – нет, Миньшо на самом деле не маленькая блядь. Он если и блядь, то самая настоящая и полновесная, потому что крошка братик с самой первой ночи ни разу еще не попрекнул его тем, что что-то случилось (и регулярно теперь случается) против его воли и он вообще не хотел – наоборот, он никогда не скрывает своего желания и, когда Лухан доставляет удовольствие его маленькому нежному телу, довольно бесстыже и без ложного стеснения помогает ему сделать хорошо им обоим, подмахивая своей очаровательной попкой навстречу.
Боже, подумать только, чем он заслужил такого славного братика, а? Не иначе как целый народ в прошлой жизни спас.
- Люблю тебя, - бедняжка Миньшо уже без штанов, и пряжка ремня бьет ему по коленочкам, когда Лухан крепко стискивает его руками и шепчет свое признание ему в затылок. – Иди ко мне…
Миньшо не сопротивляется, когда его тащат назад и Лухан садится на кровать, предлагая ему устроиться с комфортом на нем и уместить в себе торчащий из расстегнутых брюк инструмент.
О боже, они же действительно как животные, им обоим шестнадцать лет, и им хочется так, что кровь вскипает, так, что Миньшо даже не тянет упасть перед унитазом и вытошнить отвращение, если он представляет, как нелепо, смешно и уродливо выглядит со стороны, когда на широко раздвинутых ногах переступает над коленями братца, пока тот пытается упереть головку своей штучки в правильное место.
- Ха-а-нни… - сумасшедший мозг Миньшо радостно цепляется за боль, которую все еще причиняет проникновение, это первое сквозь отчаянное сопротивление скольжение внутрь. – Ханни…
Миньшо знает, как братик любит слышать его убитый удовольствием голос, зовущий Лухана по имени, которым пользуются только они вдвоем, как знает и то, что у него есть немного времени, чтобы подвигать попкой на члене так, как ему нравится, пока у Лухана достаточно терпения сдерживать животное внутри.
- Ха-а-а-анни… - Миньшо вжимается своим сладеньким задом в братика, подтягивает ножки с пола и разглядывает руки Лухана, бережно раскрытыми пальцами придерживающие жирок на животике. Если говорить откровенно, он совершенно не понимает, чем придирчивый и привередливый братишка мог соблазниться в его теле – неужели этими постыдными складочками? Миньшо никогда не считал себя красивым, и, честно говоря, не представлял, что ему будет так наплевать на уродство своего тела, когда он будет заниматься этим с кем-то по-настоящему. Наверно, это Лухан, вылизавший его уже даже ТАМ, научил относиться к своему голому телу не как к эстетической ценности, а как к источнику бесконечного, бесплатного и мучительно прекрасного удовольствия.
Только вот это восхитительное удовольствие, наверно, сыграло с ними нехорошую шутку – стоило только на секунду пустить в голову мысль, что они, в принципе, сейчас могли бы где-нибудь удовлетворять друг друга, как мозг проворными пальцами вцеплялся в нее и тащил к себе, заставляя по-быстрому соображать, где они могут запереться, чтобы торопливо повторить заученное действие – и секунд десять спустя после этих размышлений он смотрел на Лухана и по его потемневшим глазам понимал, что братик его одержимо хочет, а в собственных штанах твердо и тесно. Это было похоже на голод – остановить невозможно, удержаться нереально – можно только съесть то, что так хочется. И оставалось только, жадно поцеловавшись пару минут, спустить с себя штаны и удовлетворить беснующееся тело.
И это все не было возвышенным актом любви, это было просто, по-животному и до одури – все равно что поесть, тем более, что ели они едва ли чаще, чем упивались друг другом. По правде говоря, Миньшо вообще думал, что кое-что у кое-кого скоро отвалится или обрастет мозолями – потому что любовью они занимались регулярно перед сном, утром, едва проснувшись, днем где придется и, прости господи, ночью, если мысль о том, что голый член упирается в голое бедро, а сосочки под одеялом такие нежные, не давала спать. Вообще, Миньшо, наверно, сильно наивный, раз не подумал о том, что все это, если можно так выразиться, в меньшем масштабе, уже было – летом, когда его бесценный Ханни зажимал его по всей усадьбе и успел поласкать его игрушечку не только на кухне, в гостиной и на конюшне, но даже в бабкиной комнате на ее собственной опороченной теперь кровати… И поскольку подставить драгоценную попку любимому братику для удовольствия оказалось не сложнее, чем вкусно покушать за обедом, Миньшо и не видел смысла изводить себя тем, что они с братишкой, как бы ни старались, все еще похожи на одичавших собачек, дуреющих от одной только мысли о том, как славно было бы вообще не вылезать по утрам из кровати.
Лухану казалось странным, что чем больше братик разрешал (или он должен сказать – чем чаще?), тем сильнее он хотел. Сумасшедшее обожание все так же заставляло его с придыханием, как будто он святыню трогает, держать Миньшо за ребра там, где они обрывались впадиной вкусного мягкого животика – и пальчиками он чувствовал под кожей каждую полосочку этих ребер и как они двигаются, когда братишка приподнимается на его коленях, сжимая внутри себя греховную распаленную желанием штучку.
- Ты красивый, - Лухан прошептал это далеко не в первый раз – развел ноги братика пошире, помог ему улечься спинкой на своей груди так, чтобы оголенные перед всем светом божьим бесстыжие сосочки и красивый упругий член насладились на свободе своей красотой – и стал нежненько поглаживать все эти принадлежащие ему бессовестные прелести, потому что крошечка Миньшо даже внимания не обратил на его слова. Нежненький братик ценил только прикосновения, которые наливали его нетерпеливое тело сладостью, пока он елозил своей попкой на члене, хватался за руки, пытаясь привстать посильнее, и глубоко дышал то ли от удовольствия, то ли просто от осознания того, чем сейчас занимается. Пока процесс не переходил в быструю фазу, требовавшую от Лухана энергичных движений задом, ему нравилось позволять старшенькому немного поутопать в волнах чувственности – это был конек Миньшо, в конце концов. Он, стремясь сделать братику хорошо, долго выглаживал каждую складочку на его теле, поднимал ножки, смывался по пухленьким бедрам и чмокал поцелуями по спине, фанатично роняя вслед каждому нервному вздоху Миньшо еще что-нибудь бесполезное вроде: - Обожаю тебя…
Что всегда поражало Лухана в братике, так это то, что он не стонал. Он хныкал от боли в тот первый раз, скулил, вздыхал, ронял «Пожалуйста», но в полном смысле слова не стонал никогда – и Лухан не без грусти думал, что это та грань, переступить через которую Миньшо, на самом деле все такого же робкого и скромненького, уже не заставить. Они занимались этим как зверятки, чаще некуда, когда хотелось, но Лухан так и не смог выжать из братика пошлых и громких стонов, которые бы доказывали, что Миньшо сдал себя с потрохами.
Нет, братик по-прежнему хранил ту независимую, гордую частичку себя внутри вдоль и поперек исцелованного тела – и Лухан в некотором роде был этим доволен. Частая теперь и откровенная близость давала право пользоваться и делать приятно нежненькому телу Миньшо, но мятежный и часто мечущийся в истериках дух братика Лухан к рукам так и не прибрал.
- Братишка, - Миньшо слишком сладко вертел на нем задом и царапался опушкой не до конца стянутых брюк, и желание Лухана припустило вперед терпения – вместе с запутавшимся в его руках братом Лухан поднялся на ноги и сделал пару шагов до стола, намереваясь опереть на него Миньшо руками. Вот только братик так бесстыже раскорячиваться, похоже, не собирался – почти развернулся к нему, стал целоваться нетерпеливо и жадно, а попытавшиеся оттолкнуть его руки переложил себе на грудь, крепче прижавшись к Лухану спиной.
- Ну хорошо, хорошо, - согласился Лухан, послушно прижимая принципиального братика к животу.
Еще один пункт в постельных отношениях, который Миньшо сделал условием – еще ни разу братик не дал так, как с кровью из носа мечтал об этом летом Лухан. На колени себя поставить не позволял, ловко перекатываясь на спину, шептал:
- Ханни… - и начинал целоваться, вынуждая Лухана повернуться к нему лицом или прижаться всем телом.
Лухан не знал, считал Миньшо унизительной саму позу, когда они не могут даже взглянуть друг другу в глаза, или просто ему необходимо было всегда чувствовать на себе объятия того, кому он отдается, но не считал нужным заставлять, распрощавшись со своими мечтами помять в процессе сладенькие ягодички и наоставлять на них красных щипков. Что же, если вообще говорить о попке Миньшо, то у Лухана на ней, очевидно, наметился сдвиг фаз. Он искренне и от всей души хотел целовать бледные половинки и гладить их носом… А еще он хорошо знал, почему тогда, в начале лета, решил из всех наказаний для рукоблудствующего братика выбрать именно ремень – насколько сильно ему хотелось ласкать гладкие шарики губами, настолько же сильно было желание причинить им, таким прекрасным, нежным и почти фарфоровым, яркую в ширину полоски кожаного ремня боль. Лухан до сих пор помнит, с каким восторгом наблюдал за тем, как отец опускает взвизгивающий ремень на попку недавно начавшего с ними жить сопливого братика – да он же едва не расплакался от невыносимо прекрасного удовлетворения, когда представил, как сильно печет маленький зад ревущего застегивающего штанишки Миньшо… Прошлой ночью братик опять взбрыкнул, очевидно, повинуясь своему истерическому нраву, и посреди ночи на мокрых от пота простынях спросил:
- Я для тебя вообще кто? Сосочки, писечка и задница?
Лухан давно смирился с тем, что Миньшо иногда надо терпеливо повторять, что поцелуи, слезы и постель – это не игра, не обман и не… что там в очередной раз показалось неуверенному Миньшо. Он завернул братика в простынь, лег сверху и игриво ответил:
- Ты мой братик. Вздорный и истеричный, но почему-то любимы-ы-ы-ый… - обожаемые старшеньким маленькие поцелуйчики гасили непонятно откуда взявшееся раздражение Миньшо, как выплеснутый на угли стакан воды, и Лухан решил внести свои коррективы в мир искаженных представлений братишки: - И вообще, что это за слово – задница? Я никогда не целовал и не обсасывал задницу, я часто делал это с сосочками, писечкой и попкой…
- Сука, - Миньшо шипел и пинался, а Лухан на свою беду догонялся все сильнее:
- Даже не попка, попочка… Сладенькая…
Миньшо здорово рассвирепел вчера, но что Лухан мог поделать? В кои-то веки он говорил правду – братиком он восхищался так, как родители новорожденным малышом. Он мог обсасывать хоть пальчики на ногах, хоть даже и дырочку – Миньшо был малышом, после которого на губах оставался только сладенький вкус детского молочка. Малыш был такой до одури нежный, что всю свою жизнь, до этого лета, Лухан только и мечтал о том, как будет его душить, хлестать по заднице и смотреть на слезы – а на проверку вышло, что целовать эту прелесть куда приятнее, хоть нездоровую голову Лухана иногда до сих пор посещала идея предложить Миньшо что-нибудь пожестче… например, ремнем его связать или щелкнуть по обожаемой попке пару раз. Но конкретно с рассудком он еще не расстался, и поэтому думал, что за такое предложение братишка в отместку расцарапает ему спину, вырвет глаз или, не дай бог, и вовсе накажет воздержанием. Так что Лухану приходилось мириться с текущим положением вещей – можно было быть достаточно грубым, чтобы Миньшо хныкал от боли в вывернутых сосочках, но разнузданную фантазию, мечтавшую как-нибудь попробовать заниматься этим совсем по-блядски, стоило придерживать.
Тем более что экстрима Миньшо давал достаточно. Когда его головку в очередной раз припекало желание удостовериться в том, что Лухан не просто любит, а любит, как собака, готовый покорно терпеть все истерики и укачивать воющего от обиды братика на руках, Лухан до самой глубины души понимал, что самая сексуальная и возбуждающая часть тела в братике вовсе не попка, не сосочки и не писечка, а эта дурная истеричная головка, настолько тонко чувствующая, что в выборе красок для описания еще никогда не ошибалась: ни когда Лухан читал полные тоски и отчаяния письма, по строчкам которых можно было ходить, как по битому стеклу, ни тогда, когда Лухан онемел на секунду, когда Миньшо выбрал именно это веселое, уничижительное, но какое-то ласковое словцо – «писечка».
Братишка был чудесным, хоть передом его разверни, хоть задом – и заниматься этим именно с ним было тоже до дури приятно: Лухан крепко прижимался губами к снова покрытой испариной шее, двигал бедрами, придерживал Миньшо поперек животика и развлекался тем, что несильно пощелкивал по славненькой хорошенькой игрушечке братика – упругий член всякий раз упрямо возвращался в горизонтальное положение.
- Ханни, ты дурак? – хрипло спросил Миньшо, наблюдавший за развлекающимся братом.
- Дурак, да, - согласился Лухан, прикладывая все усилия, чтобы милый вредный братик поскорее растекся в его руках лужицей, потому что он задыхался от желания и готов был все-таки смять его пополам и сделать попке неприятно, но хорошо.
За дверью прошуршали чьи-то шаги, и совсем распустившийся Миньшо пробормотал:
- Быстрее, дверь…
Миньшо был прав, но внутри Лухану снова было слишком скользко, и двигаться с одинаковым усилием и в постоянном ритме было сложно, несмотря на то, что братишка бесстыже отвечал на каждое его движение встречным. Лухан быстро стер с виска пот и перехватил Миньшо удобнее, раздумывая над тем, почему ничего не получается именно тогда, когда времени мало, и почему когда ничего долго не получается, в конце концов накрывает особенно сильно – так что ему кажется, он на пару минут становится глухим.
- Чертовы брюки… - раздеваться Лухану было лень, и теперь он готов проклясть мешающую двигаться тряпку – пока Миньшо не цепляет скрюченными от желания пальчиками ткань на его бедрах и не тянет неловко вниз: Лухан до слез бы похохотал над спрятанной в скромном братике тонной похоти, если бы не был так занят.
Он снова дышит, как медведь, где надо чавкает с потрясающе мерзким звуком, и Миньшо отлетает от его бедер, как мячик – Лухан все-таки толкает их обоих к столу, падает на брата сверху, придавливая его ладонь…
Что-то к несчастью валится и валится на ковер, пока Лухан постыдно финиширует первым, оставляя так и не разрешившегося от бремени жгучего желания братика принимать в себя результаты.
- Не успел, - со смешком говорит Лухан, быстро разворачивая Миньшо к себе и усаживая задницей на полированную поверхность стола. – Поцелуй…
Миньшо целует жадно и некрасиво, цепляется пальцами за волосы брата и тихо скулит, когда Лухан слишком жестко ласкает его член – красиво снова не вышло.
Наоборот, вышло до смешного глупо и почему-то сильно – его пошатывает, когда он сползает со стола, чтобы поднять и застегнуть брюки. Казалось бы…
- Ты чудо, братик, - голос и обвившиеся вокруг пояса руки Лухана вмешиваются в его мысли, и Миньшо искренне не понимает, что заставило разнежничаться брата, который с самого утра был ядовит, как поганка, пока Лухан не разворачивает его лицом к столу, на полированной поверхности которого остались два очевидных следа его бедер и размазанная белая мерзость между ними.
- Боже, ну почему… - Миньшо, может быть, впервые настолько невыносимо стыдно, что трудно даже взглянуть на брата.
- Почему нет? – заявляет Лухан, которого даже не восстановившееся еще дыхание не удерживает от того, чтобы подхватить снова беспричинно смущенного братика за пояс и, подняв над полом, прижать к себе.
Миньшо думает, что если бы Лухан был не таким мерзким и безмозглым, он бы никогда не разделся перед ним и не был бы так счастлив.
Данная страница нарушает авторские права?