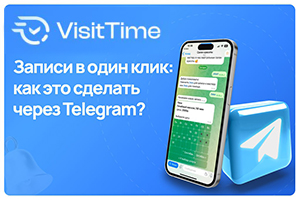Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
|
|
Часть 5
Середина лета выжаривала сутки, начиная с самого утра, и Лухан раздраженно отлеплял рубашку от мокрой спины, как зверь в клетке укорачивая комнату сердитыми шагами.
Ему было мало. Чертовски мало.
Жара просачивалась в окно, прямо в череп под влажные волосы, и ему хотелось сделать хоть что-нибудь, чтобы остудить себя… это свое внутри. Горела даже не кожа – плавился потом и вонял он сам, в самой сердцевине себя.
Всегда липкий, вечно голодный, с трясущимися руками и воспаленными глазами.
А Миньшо с хрустальными слогами своего дьявольского имени был как тот ручей – обжигающе холодный, прозрачный и… утекающий сквозь пальцы, стоило только отлепить от него губы и отпустить его запястье.
Если бы Лухан мог, он бы выпил братика, всосал его внутрь вместе с плюшевым волосатым медведем, чтобы его рыбья чистота плескалась внутри, как в стеклянном аквариуме.
Лухан остановился перед столом, глядя в окно. Сухое жжение в глазах размывало контуры леса на горизонте, а капля пота, катившаяся по виску, не давала ни на секунду забыть о том, какой зверь мечется внутри. Лухан поднял руку и кончиками пальцев провел по виску – растертая вода заблестела на них, горячая и отвратительная, позорная, грешная, проклятая… Воспаленный взгляд Лухана нашел на столе книгу, уже месяц лежащую лицом вниз, и он смазал ненавистную воду на гладкую черную корку, натянув на клыки хищную улыбку.
Ведь если рассудить здраво – что мешает ему взять то, что так хочется? Кто его остановит? Если кто-то рискнет назвать себя сильнее, чем то, что плавит его изнутри – что же, Лухан хорошо посмеется.
Он уже не мальчик – и отнюдь не слабый.
Красивые, темные, но почти растерявшие блеск из-за жары глаза на секунду блаженно закрылись – а потом Лухан вылетел из комнаты, как пробка из бутылки шампанского.
Миньшо сидел на кровати, подогнув под себя ноги, и тоже страдал из-за жары, как-то отупело переворачивая страницы книги – он не помнил толком, о чем читал, и совсем не вдумывался в смысл слов. Его глаза не успевали доползти до конца абзаца, а его мысли уже соскальзывали туда, к холодному ручью, к сумасшедшему брату, который в последний раз дошел до того, что придавил его к земле и лежал на нем, заставляя задыхаться от поцелуев. Миньшо видел, как его пальцы беспомощно сжимаются, выдирая траву из земли, и знал, что это значит – Лухан изо всех сил пытался запретить себе трогать его. Лухан боролся с какими-то своими дьяволами внутри и целовал так жестоко, что губы потом болели до самого вечера – но не прикасался никак вообще. И эта тонкая зовущая боль на искусанных губах, и узкие плечи Лухана над ним, которого кто-то будто тянул внутри в разные стороны, залегли в памяти нервным, покалывающим слоем неозвученных, задыхающихся от жары желаний.
Лухан тянул их обоих на самый край, хоть и пытался сопротивляться, и Миньшо… Что же, Миньшо со своей вечно опущенной головой и медведем под мышкой покорно шел за ним, потому что узкие плечи Лухана, его нахальство, вечное вранье и обжигающие искренностью поцелуи обвили Миньшо, как побеги хмеля, и стали для него тем, из чего он не мог и не хотел выпутываться. Миньшо понимал, что это страшно, это грех, об этом узнают и рано или поздно накажут, но каждый раз, когда Лухан наклонялся к нему, он беспомощно тонул в запахе волос и тела брата. А других запахов в его жизни просто не было – он не различал их. Лухан был единственным, кто подобрался к нему настолько близко, и после десяти лет, которые Миньшо провел в обществе драного медведя и пыльных книг, этот живой запах, тепло тела Лухана, сотни дробящихся оттенков его смеющегося голоса вросли в него, как корни дерева, и он начинал думать, что разорвется на части, если попытаться их вытянуть.
- Миньшо…
Лухан стоял в дверях – высокий, худой, с взъерошенными волосами и темными пятнами пота на рубашке под мышками. Миньшо подумал, что он, наверно, бегал по этой чудовищной жаре…
- Лухан?
Лухан сделал три быстрых шага и присел на кровать, а потом порывисто обнял своего брата. Никогда раньше он не делал этого, потому что найти хоть сколько-нибудь правдоподобную причину, почему его голодные непослушные руки могут сжаться на плечах Миньшо после всех слез и унижений, было невозможно. И еще Лухан боялся – что Миньшо все помнит. Что каждый раз, когда он рядом, когда он прикасается, раскрывает губы, чтобы произнести очередную ложь – Миньшо помнит и «выблядка», и «уродца», и «я хочу, чтобы ты сдох». Но сейчас Миньшо просто сидит, не шевелясь, как испуганная мышь, и притворяется мертвым – хотя темное от пота пятно на рубашке прямо рядом с его лицом.
Лухан вынимает бесполезную книгу из рук брата и шепчет в самое ушко:
- Миньшо, пойдем гулять? – Лухану стоит огромного труда удержаться от того, чтобы не погладить разрумянившуюся щечку губами. – Ведь гулять со своим братом тебе нравится больше, чем читать, а, Миньшо?
Миньшо думает, что Лухан дьявол. «Гулять со своим братом» - ведь это он о поцелуях, об этом нехорошем, неприличном, но томительном, чем они занимаются каждый день в саду у ручья. Лухан дьявол, и он задумал что-то новое, еще хуже, чем обычно.
- Миньшо, пойдем, а? – голос Лухана вкрадчивый, как у оборотня, и он все-таки оставляет на коже Миньшо горячий след губ.
Лухан встает и тащит брата за руку, цепко впиваясь в него пальцами, а когда Миньшо тянет его обратно, чтобы захватить медведя, Лухан усмехается и, выжигая старшего взглядом, медленно и уверенно отбирает игрушку, опуская ее обратно на кровать:
- Тебе он больше не нужен. У тебя есть я.
Это очередная ложь Лухана, но Миньшо слишком голоден, чтобы не подобрать то, что ему бросают, и он послушно следует за братом, а в его голове, когда они спускаются по ступеням, все мерцает и мерцает голос Лухана. По словам Лухана выходило, что теперь он признает в Миньшо брата – или как там ему хочется называть того, кого он целует каждый день, выдергивая траву пальцами от нестерпимого желания. И эта мысль грела, грела так, что, когда нога Миньшо опустилась на последнюю ступеньку, он забыл, что в словах Лухана правды всегда меньше половины.
Лухан вытащил его на крыльцо, и Миньшо задохнулся от жары, внезапно плеснувшей в лицо горячей волной. В ушах зашумело, и он отобрал свою руку, чтобы вытереть пот со лба, а когда опускал ее, влажную от капелек, то едва ли не вздрогнул – Лухан смотрел на него так пристально, что становилось не по себе.
Лухан больше не мог говорить – его язык присох к глотке то ли от жары, то ли от вранья. Он молча взял Миньшо за руку и поволок к ручью. Короткая рубашечка Миньшо намокала от пота так же, как его собственная, и он, если бы закрыл глаза, мог бы почувствовать, как капельки пота под тяжестью своего веса скатываются по дуге позвоночника, заползая под опушку бриджей Миньшо, намачивая салатового цвета ткань и превращая ее в темно-зеленую.
Лухан держал Миньшо за руку, и мог чувствовать, насколько горяча его кожа, как жарко ему должно быть под двумя слоями материи, опутывавшими его бедра, а под мышками, наверно, просто бесновалось пламя, способное плавить металл.
Лухану было жарко, Миньшо было жарко тоже, и Лухану хотелось бы раздеть их обоих… Чтобы потом прижаться своим голым телом к вытянутому под ним телу брата, придавить всем своим весом, выдавить весь воздух из груди – и медленно вплавляться в него, подыхая от запрещенного восторга.
- У ручья слишком жарко, - сказал Лухан, внезапно дернув ручку Миньшо в сторону. – Нам нужна тень.
Лухан втолкнул Миньшо внутрь старой конюшни и прикрыл перекосившуюся тяжелую дверь. Лошадей здесь не держали уже лет двадцать, зато сена было навалом, и солнце проскальзывало сквозь щели в стенах, высвечивая золотистые пыльные дорожки. Пыль оседала на влажной от жары коже, и хотелось чихать, но Лухану было все равно. Он затянул Миньшо в коробку бокового стойла и, положив руки ему на пояс, заставил опуститься на сваленное в угол сено.
Легкие узкие бедра Миньшо выжали из старой травы еще порцию пыли, и Лухан опустился перед ним на колени, предупреждая:
- Не шевелись сильно… пыльно…
Глаза Миньшо снова вытянулись на все лицо, и он испуганно смотрел на Лухана, понимая, что что-то не так. Запах травы и пыли тянул легкие, и дышать было тяжело и неприятно – а взгляд темных, горьких, как это сено, глаз Лухана расслабиться абсолютно не помогал.
Очевидно, нехорошее возбуждение и постоянно, как кровь из раны, сочащееся в теле желание делало Лухана очень сообразительным и чутким – он понимал, что пока Миньшо испуган, у него ничего не получится. И, если признаваться честно, ему и не нужно было так – он хотел, чтобы Миньшо отвечал ему по собственной воле.
- Миньшо… - выдохнул Лухан. – Я теперь не сделаю тебе ничего плохого, ты мне веришь?
Лухан приподнял личико брата пальцами и заглянул в глаза.
- Миньшо, мне нельзя этого говорить, но мне очень нравится целовать тебя. Братишка…
Лухан наклонился вперед и поцеловал Миньшо, обхватив его руками, как игрушку. Пальцы Лухана подергивались от восторга, когда он разглаживал влажную ткань рубашки на спине, и он прижал коленями бедра Миньшо, обхватив его крепче. Крепкий запах сена снова пополз по воздуху, а Лухан закрыл глаза, потому что Миньшо отвечал – не с таким диким напором, как сам Лухан, но уже давно без того страха, что был в самом начале. Губы Миньшо всегда лишь подчинялись давлению Лухана, и он целовал с той же тихой и молчаливой сдержанностью, которая сквозила во всех его движениях, но Лухан искренне восхищался ей – она, словно дым сигарет, только дразнила сильнее, заставляла хотеть большего, манила недоступностью и напрашивалась на то, чтобы ее, наконец, изловили и подчинили.
Лухан оторвался от брата, разлепив губы с громким чмоком, и, фальшиво улыбнувшись, пропел:
- Ну, целоваться я тебя научил… - а потом выдрал из прорези пуговицу воротничка, который душил Миньшо.
Пуговички были белыми и отдавали перламутровыми разводами, как створки ракушек изнутри, и Лухан выдавливал их одну за одной, раскрепляя полоски ткани, закрывавшей Миньшо, позволяя ему смотреть, как легко брату удалось разломать весь его страх и осторожность, за которыми он прятался столько лет. И это было бы еще ничего, если бы Лухан не тянул его сейчас в самую воронку греха.
Нервное напряжение отпускало Лухана – с каждой новой перламутровой пуговичкой, лишившейся своего места, и когда полы рубашки остались просто болтаться перед ним, ничем не связанные, он глубоко и с наслаждением вдохнул солнечную пыль.
А потом отдернул ткань.
Как он и думал, грудь Миньшо оказалась белоснежной – на ней не было ни шрамов, ни синяков, ни родинок, только впадинка пупка, вокруг которой завивались нежные каштановые волоски, и два пятнышка сосков, бледным, светло-фиолетовым оттенком походившие на осенние хризантемы.
Миньшо смотрел на него, затаив дыхание, и, кажется, был совсем не против прикосновений. Лухан положил руку на грудь брата и чиркнул кончиками ногтей по сосочку, как по гитарным струнам. Когда он сделал это еще раз, сжавшаяся головка сосочка запела, царапнув ноготь нежным мясистым пузырьком, а Миньшо вздрогнул.
Рука с сосочка соскользнула на животик, и Лухан погладил его ладонью, стягивая подушечками пальцев влажную, упругую кожу. На лице Миньшо по-прежнему не отражалось ничего – ни неприязни, ни удовольствия, и Лухан вновь уперся коленями в сено, поднимаясь выше, чтобы втянуть носом сладкий дурманящий аромат прямо из-за впадинки под ушком Миньшо. Он касался шеи брата кончиком носа и чуть-чуть губами, оставляя невесомые, дрожащие поцелуи, которые так нравились Миньшо. Жар чужого тела оседал Лухану прямо на губы, и он коснулся горячей кожи языком, забирая себе соленый привкус и оставляя Миньшо холодную мокрую дорожку поперек кадыка.
Лухан хотел пробовать это тело как можно медленнее, но терпение никак не получалось взять под контроль – он позволил себе стянуть послушную ткань с плечика Миньшо, припадая губами к круглой косточке сустава. Руки Лухана скользнули на поясницу брата, и он чуть потянул его на себя, заставляя откинуться назад, упереться руками в пыльное сено и подставить ему грудь. Губами и руками Лухан попробовал косточки ключиц – две тонкие, как месяц, дуги, от которых вниз нарастал легкий подъем, заканчивавшийся холмиками сосков. И Лухан, как паломник, не упустил ни сантиметра святой земли, обступывая ее всю поцелуями, пока не взобрался на самую вершинку цветом в лепестки поздних, осенних хризантем.
То, как вершинка выскальзывала из его рта, смоченная слюной, как его голодные губы сосали этот цветочек, как сладко и горько пахло от фиолетового кружочка – сводило Лухана с ума. Он снова и снова теребил ласковый темный горошек нижней губой – а потом прижимался лбом к молочной груди Миньшо, и ему хотелось плакать. Беззвучно ронять слезы обиды и бессилия, ощущая прикосновения липкой кожи и слушая глухие удары сердечка Миньшо в груди.
Почему они братья? Ну почему-у-у…
Глаза Лухана зло сжимаются, когда он думает, что это совершенно все равно. Ведь по-прежнему нет никого, кто может его остановить.
Рука Лухана так быстра – пуговички его собственной рубашки охотно выскальзывают из прорезей, подчиняясь желаниям сильного и уверенного в себе хозяина. В конце концов, победителей не судят.
Лухан распахивает собственную одежду и тянет руку Миньшо себе на грудь, накрывая сосок, шепчет, не выбирая слов:
- Миньшо, сделай это тоже… Я хочу, чтобы и ты…
Пальчики Миньшо нежно гладят горячую кожу, омываясь вокруг сосочка двумя потоками. Лухан, глядя на них, сходит с ума, и за шею притягивает голову брата к своей груди, опуская губами прямо в темное пятнышко. Миньшо целует послушно, а Лухан зарывается пальчиками в его каштановые волосы, собирая их в кулак на затылке.
Он так благодарен Миньшо за это, за это согласие, что нетерпеливо целует его в губы – а потом вновь заставляет запрокинуть голову, зацеловывая шею, поглаживая маленький пупок, горькие цветочные соски, прощупывая длинный, идеальный изгиб ребер.
- Ханни…
Собственное имя ударяет по голове, как язычок по колоколу, губы Лухана раскраивает счастливый и хищный оскал, и он выдыхает прямо в горячую шейку:
- Называй меня так всегда, - а потом сдавливает маленькую хризантемку на груди брата пальцами, выкручивая головку, ловя раскрытой рукой плечи падающего в него Миньшо, снова выдохнувшего:
- Ханни…
Пыльные столбы света за спиной Лухана вдруг взметаются, и скрип двери с трудом проникает в его сознание, поглощенное нездоровым, скачущим по нервам обожанием.
- Этих сопляков хотя бы тут нет, - произносит мужской голос, и Лухан с ненавистью узнает в нем дядю.
«Черт, черт, черт…»
Лухан слышит женский смех, звук грубого поцелуя, шорох сена и одежды – а Миньшо в своей расстегнутой рубашке смотрит на него так жалобно, что Лухан бы рассмеялся, если бы не был так зол.
- Сладкая моя куколка, - говорит голос прямо за перегородкой, которая трясется от толчка, осыпая в сено пыль. – Вот я тебя сейчас…
В глазах Миньшо разрастается ужас, он падает на колени, пытаясь торопливо подняться, но Лухан дергает его назад, крепко сжимая руками и торопливо произнося над самым ухом:
- Дурень… сиди тихо.
О да, Лухан знает, как горяча кровь в их роду – и он сам бы тоже убил того, у кого хватило бы глупости вмешаться, когда он уже задрал чей-то подол. Но это не самое главное, почему он остановил Миньшо и сейчас держит его руками, тихо дыша в плечо – ему просто хочется, чтобы Миньшо послушал…
Чтобы Миньшо слышал все эти неприличные, возбуждающие шорохи расстегиваемой одежды, чмокающие поцелуи, тяжелое дыхание мужчины, поневоле восстанавливая в своем воображении картинку того, что происходит за перегородкой – болезненный женский стон от того, что дядя, видимо, крепко сжал грудь и теперь мнет это мясистое в руках. А теперь целует покрасневшую сисечку, причмокивая губами, так что она снова стонет, но уже возбужденно, путая пальчики в его волосах.
Когда шорох одежды становится нестерпимо громким, как будто это не шелест, а шум леса под ветром, Миньшо весь сжимается в дрожащий комочек под его рукой и закрывает уши ладонями, отказываясь слушать. Но Лухан с силой оттаскивает его руки от головы, пережимая запястья, так что Миньшо отчетливо улавливает произнесенное:
- Горяченькая… - а Лухан тяжело сглатывает, представляя задранный до самой головы подол, призывно расставленные ноги и круглые белые женские ягодицы.
Снова раздается смешок и похотливый, как у течной кошки, скрипучий стон – и Лухан изо всех сил сдавливает руки Миньшо, дурея от мысли, что там, за перегородкой, он гладит ее по вытянутому, из-за того что она лицом в стену, кудрявому треугольничку, волосы на котором даже не черные и не коричневые, а какие-то серые.
За стеной что-то ударяется в стену, а следом раздается болезненный всхлип и мужское довольное:
- М-м-м…
«Начали…»
А Лухан слушает шлепки кожи о кожу, и пот стекает с него рекой, когда он думает о том, как горячий и налитый кровью ствол двигается внутри ее сочащегося влагой прохода, заставляя жалобно и сладко постанывать от боли, потому что он все еще держит в ладони ее грудь и каждый раз, когда с хрипом толкается внутрь, сжимает только крепче.
Женские стоны затекают в уши, как расплавленный метал, и начинает казаться, что она стонет уже постоянно, меняя только тональность:
- Ах, ах, ах…
Лухан переводит взгляд на Миньшо, и его глаза зажигаются дьявольскими искрами, когда он замечает, как братишка сжимает бедра, стискивает коленочки вместе, стягивает их и потирает одну о другую, будто ему хочется в туалет.
И Лухан уже не думает, что идея дяди поиметь какую-то служаночку в конюшне была так плоха. Он перетягивает словно оглохшего и ослепшего Миньшо к себе на колени и, быстро расстегнув пуговки на бриджах, ныряет ладонью под белье, сжимая затвердевшую уже игрушечку в кулаке.
Миньшо ведет плечами и пытается соскользнуть с коленей брата, но Лухан держит слишком крепко, а от его руки в штанах старшего бьет судорогой и по внутренностям расползается отупляющий жар.
Лухан растирает маленькую нежную частичку братика и лишь один раз позволяет себе остановиться, чтобы указательным пальчиком обвести кончик, слизнув с него теплую капельку. Стоны за перегородкой не прекращаются, а от мысли, что он держит в руках, член Лухана становится каменным.
У Миньшо совсем нет опыта, и несколько удушающих минут спустя, когда от нового удара в стену за перегородкой пыль в лучах света снова вздрагивает, он почти теряет сознание, и из его горла вырывается замученный лаской, едва слышный звук:
- Икх…
Лухан готов молиться на своего братика, который даже застонать не может громко – а этот жалкий полувздох занятый работой дядя не услышит. Лухан тыкается носом в шейку брата, но на поцелуи у него уже нет сил – его левая рука распластана на животе Миньшо, держит крепко… а под ней что-то двигается, в самом низу животика, что-то растет и набухает, как живое.
Миньшо сжимает кулачки на рукавах рубашки Лухана и приподнимает колени, пытаясь прикрыться, спрятаться от мучительного стыда. Слезы накапливаются в его глазах, и от них пыль, висящая в воздухе, становится нечеткой, зато стоны и хлюпанье за перегородкой он слышать не перестает. Может быть, потому, что оно не за перегородкой, а в его штанах…
Когда Миньшо начинает ерзать, Лухан сосредотачивается на том, чтобы подставить свой возбужденный ноющий член под его бедра – чтобы попка Миньшо еще хоть раз прокатилась по нему, заставляя Лухана закрыть глаза и откинуть голову, как будто ему больно.
Лухан убеждается, что его братик и в самом деле нечасто занимался рукоблудием – когда слишком быстро теплая влага растекается по его пальцам. Он так и сидит, не вынимая руку из бриджей старшего и не отпуская его член, машинально растирая липкое по длине, дожидаясь, когда за перегородкой закончат тоже.
Наконец, громкий мужской рык и сладостный скулеж извещают Лухана о том, что они тоже скоро смогут выйти, но Лухан перестает вообще обращать внимание на звуки за стенкой, когда видит залитое слезами личико Миньшо. Он бы рассмеялся над тем, что его братик умудрился разреветься даже когда его ласкали – если бы не страх, что Миньшо плачет из-за того, что он сделал. Этот страх заставляет Лухана быть серьезным и ласковым, так что он, едва дождавшись, когда дверь снова скрипнет, обнимает ладонями лицо Миньшо, разворачивая его к себе:
- Почему ты плачешь, Миньшо? Я сделал тебе… больно?
Больно – не то слово, которое он должен был сказать, но Лухан ничего не может с собой поделать, нежно целуя мокрые от слез губки, просит:
- Расскажи мне, Миньшо? Пожалуйста, Миньшо, расскажи мне… Миньшо… Миньшо…
Лухан уже готов к тому, что губы Миньшо раскроются, и он, наконец, начнет его обвинять – за десять лет, за поцелуи, за вот это принуждение – и это высасывает из сердца Лухана саму жизнь. Что он будет делать, если теперь его братик оттолкнет его? Если его прикосновения стали противны Миньшо?
- Я получился так же… - наконец, всхлипывает Миньшо. – Они просто в сарае… Он ее… А потом я… Я потом ты меня… Выблядок…
На лице Миньшо такое страдание, что Лухану становится не по себе, и он снова бросается вперед, зацеловывая мокрое личико братика.
- Миньшо, Миньшо, - Лухан трясет его за плечо. – Перестань плакать, и я кое-что скажу тебе. Кое-что важное, чего ты не знаешь.
Миньшо вытирает слезы, но горестное выражение с его лица не исчезает, и Лухан со вздохом опускает его спиной обратно на сено, почти придавливая собой, чтобы не приходилось смотреть в лицо.
- Послушай, Миньшо, - начинает Лухан, - даже если отец делал это с твоей матерью просто ради шутки… Они не знали одного, когда занимались этим – что делают подарок мне. Что много лет спустя я буду благодарить их не за игрушки и деньги, а за то, что у меня есть ты, понимаешь?
Миньшо смотрит на него широко раскрытыми глазами, и Лухан видит, что он действительно старается – но не понимает.
Впрочем, Лухан его не винит – это одна из его многочисленных теорий в последнее время. И любимая – что его отец действительно е**л ту женщину единственно для того, чтобы шестнадцать лет спустя восторженный Лухан имел возможность заграбастать себе это пугливое сокровище с огромными глазами и прозрачным внутри. Чтобы Лухан умирал от своих запутанных, сводящих с ума чувств к шлюхиному сыну…
«И пользовался им, раз уж ему на роду написано?» - вдогонку спрашивал обычно едкий голосок внутри, и Лухан торопливо гнал его, гнал далеко на границу сознания.
- Ты действительно не понимаешь, - усмехается Лухан, раскрашивая поцелуями щеку Миньшо и окончательно ложась на него. – Я больше не могу без тебя жить, слышишь? Как без воздуха, как без света, Миньшо. Миньшо… Миньшо…
Лухан снова целует шею старшего – после того, что он сделал, когда на руке все еще чувствовалось вязкое тепло, вылившееся из члена Миньшо – это было еще приятнее. Он словно стал еще ближе к Миньшо, и теперь мог позволять себе хотя бы поцелуи, не ища оправданий.
- Миньшо?
Брат смотрит на него своими темными глазами, и Лухан лижет его сосок, прежде чем сказать:
- Я правда бы умер за тебя. Ради тебя я сделаю, что угодно, веришь?
Миньшо качает головой, зарываясь пальцами в волосы Лухана, и Лухан ложится на нем поудобнее, прижимаясь ухом к груди и пристраивая свой все еще возбужденный член так, чтобы он упирался в обмякший член Миньшо.
Если бы он сжимал игрушечку Миньшо немного дольше, он бы тоже кончил.
Данная страница нарушает авторские права?