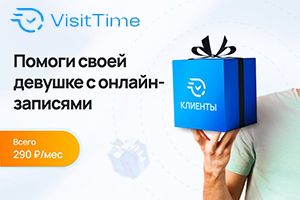Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
В. С. Соколова — очарование женственности. — Н. П. Баталов — современный актер. — Как Баталов меня спас. — «У Баталова роль в пятках видна». 4 страница
|
|
Но сквозь комизм никчемности в нем просвечивало что-то удивительно человечное. Живая память о детских годах, любовь к Ане, к сестре пленяли искренним чувством. При этом нежная любовь к сестре не мешала ему вдруг болтать о ее порочности. Вообще болтовня, иногда высокопарная, иногда поэтическая, была стихией Гаева — Станиславского. Иногда казалось, что слова слетают с его языка без всякого участия чувства или мысли. Он любил говорить, ему нравилось слушать себя. Бильярд и слова, слова и бильярд — так сложилась его жизнь. Когда Любовь Андреевна говорила, что он в ресторане опять много и некстати рассказывал половым о семидесятых годах и о декадентах, Гаев только горестно махал рукой: «Я неисправим, это очевидно…».
Но когда случилось страшное и вишневый сад продавался с торгов, оказывалось, что Гаев способен на необыкновенно глубокое чувство. Беспомощная, растерянная фигура. В руке болтается на веревочке завернутая баночка анчоусов. Он входил в комнату неуверенной поступью, с опущенной головой и, не в силах скрыть своего потрясения, плакал, по-детски утирая слезы рукой.
В чеховских ролях Станиславский раскрывал авторскую интонацию, при этом сохраняя живую творческую индивидуальность Станиславского-актера. Абсолютно различны были Гаев, Вершинин, Астров, Шабельский, но что-то самое сокровенное, присущее индивидуальности Станиславского — чистота, доброта, наивность, благородство — сквозило во всех этих ролях. Неповторимыми были характеры людей, и сквозь них при этом всегда проглядывала цельная и прекрасная индивидуальность актера.
Через несколько лет после «Вишневого сада» я испытала новое потрясение: я увидела «Трех сестер». Сейчас многое наслоилось на те, первые, впечатления, но какие-то сцены я помню отчетливо.
Третий акт — «Пожар». На сцене два блаженно счастливых человека: Маша — Книппер и Вершинин — Станиславский.
Вершинин сидел в одном конце комнаты, счастливый, растерянный. А Маша стояла в другом конце и отстукивала пальцами на маленьком столике: «Трам‑ там‑ там…».
{211} Все было странно и вместе с тем не казалось странным. Никаких внешних выражений любви, и при этом — картина полного человеческого счастья, счастливой любви, пусть короткой, но всепоглощающей. Я видела, как зрители отделились от спинок кресел и, вытянувшись вперед, с напряженным вниманием смотрели на сцену, а на лицах у них было выражение блаженства — отблеск сияния, которым светились лица Станиславского и Книппер.
Чеховский Вершинин извиняется за то, что много говорит. В Станиславском — Вершинине была такая бездна невысказанных мыслей, что ему не хватало времени поделиться ими. Его доброй душе так хотелось высказать то светлое и высокое, что жило в нем… И за этим стремлением угадывалось, как дорого ему чужое внимание, как нелепо сложилась его судьба провинциального военного и как он, в сущности, одинок…
«Дядю Ваню» я увидела значительно позже.
Станиславский в жизни был необычайно красив. И Астров тоже был красив — красотой Станиславского. Красив талантом — им светилось каждое слово, каждое движение. Его восприятие мира, любовь к природе, к своей профессии, одиночество, тяга к красоте — все, казалось, исходило от самого Станиславского. Потом я много раз видела «Дядю Ваню» с другими исполнителями. Это бывало и хорошо и интересно, но всегда мне казалось, что настоящего Астрова я видела один раз в жизни.
«… пойми, это талант!» — говорит о нем Елена Андреевна. Да, он был не просто одаренным человеком. Он был талантом. Но этот талант жил в невыносимых условиях. Огромные расстояния, грязь на дорогах, метели, нужда, болезни… Не хватало сил.
Как все это играл Станиславский? Не знаю, не понимаю. Он нигде не жаловался, не жалел себя, но вызывал глубочайшее сочувствие к себе и ярый протест против жизни, калечащей таких людей.
Он трезво, по-чеховски трезво, говорит о том, что душа и мысли Елены Андреевны пусты, но мы еще до его слов понимаем, что красота Елены Андреевны захватила его и нужен только случай, когда это обнаружится.
И когда в третьем акте эта возможность возникла, — хлынуло наружу то, что было тщательно запрятано в глубине души. Он не просил, не спрашивал о взаимности, он взволнованно приказывал, отдавая себя обаянию женской красоты и вспыхнувшему в нем чувству. Его движения становились сильными, порывистыми, голос — глубоким, и смеялся он как-то особенно, с закрытым ртом. Да, он был настоящим «Лешим» в этой сцене.
Запомнила я сцену, когда Соня почти открыто говорит Астрову о своей любви. Станиславский — Астров слышал все, что говорила ему {212} Соня, но до его души ее любовь не доходила. Он был во власти собственных мыслей и ощущений. А Соня (я видела в Соне и чудесную Лилину, и удивительно игравшую эту роль Тарасову) не страдала от этого, а была счастлива тем, что говорит о своей любви, и все в ней дрожало от предчувствия возможного счастья. Они касались души друг друга какими-то тончайшими струнами и все же были бесконечно далеки. Эта особая глухота — глухота от переполненности своими мыслями и чувствами — поражала.
Но сильнее всего Станиславский играл четвертый акт — финал роли.
Прошел его страстный диалог с Еленой Андреевной, в котором он с необыкновенной силой упрашивал ее остаться. Потом он как бы подчинялся неизбежному. Прошло их порывистое и страстное прощание. Серебряковы уехали. Надо и Астрову уезжать из этого дома, где он знал уют, тепло и любовь. Уезжать от любящих, строгих глаз Сони. Уезжать в одиночество, к неблагодарной, тяжелой работе. Во всем его существе чувствовалась беспредельная тоска. Она нарастала. Казалось, ему трудно дышать. Но — ни одной подчеркнутой драматической ноты. Скорее, отсутствие каких бы то ни было интонаций. Так бывает в жизни, когда приходит подлинное горе. Так люди разговаривают, когда в доме покойник. Таким суровым горем был отмечен отъезд Астрова.
Чеховского «Иванова» я видела в год его возобновления (сезон 1918/19 года). В то время я уже училась в Чеховской студии. Станиславский, актер, которого я видела из зрительного зала, стал превращаться в учителя. Поэтому все, что он делал на сцене, приобретало особое значение.
Шабельского Станиславский играл дряхлым стариком. Многие и в этой роли ругали его за то, что он «состарил» Шабельского во имя внешней характерности. Мне старость Станиславского в этой роли казалась органично связанной со всем внутренним миром Шабельского.
Больше всего запомнились его глаза и руки. В этих руках, никогда ничего не делавших, а сейчас то неумело поддерживавших плед, то безжизненно лежавших на коленях, то повисших вдоль большого, чуть сгорбленного тела, было столько усталой покорности и безнадежности! Казалось, близок час, когда эти руки скрестят навеки.
А глаза, потерявшие блеск, смотрели куда-то не то внутрь себя, не то в будущее, имя которому «вечность». Они то искусственно оживлялись, то неожиданно потухали. Старческая беспомощность, бедность, одиночество Шабельского выражались в каждом движении. У него было дряблое, морщинистое лицо, костюм сидел плохо — очевидно, с чужого плеча. Под маской презрительного отношения ко всему он прячет смертельную скуку, тоску и насмерть оскорбленное самолюбие человека, в карманах которого к концу жизни нет ни копейки собственных денег.
{213} Станиславский был по-чеховски безжалостен к Шабельскому — ничто не смягчал, ничто не затушевывал. Но человеческое брало верх над всем.
Пошлая затея женитьбы на Бабакиной занимала Шабельского всерьез. В попытках ухаживать за ней он нарочно пользовался самыми вульгарными приемами, будто для того, чтобы спуститься еще на одну ступеньку ниже. Ему хотелось слиться с компанией Боркина, Бабакиной и других окружавших его пошляков.
«А что, в самом деле, не устроить ли себе эту гнусность? А? Назло! Возьму и устрою… Все подлы, и я буду подл». Станиславский — Шабельский был готов переступить в себе последнюю грань человеческого. Но это желание стать подлецом сталкивалось со странным сопротивлением в себе же самом. В душе старого брюзгливого шута жила глубокая поэтичность, которая, раскрываясь то в одном месте, то в другом, захватывала душу зрителя. Верилось, что этот озлобленный человек любит музыку, верилось, что, если бы он выиграл сто или двести тысяч, он действительно поехал бы в Париж на могилу жены, верилось, что, увидев случайно виолончель, он рыдает действительно потому, что вспомнилась умершая Анна Петровна.
А когда после гримас и ломаний он признавался: «… когда солнце светит, то и на кладбище весело. Когда есть надежда, то и в старости хорошо. А у меня ни одной надежды, ни одной!» — он не жаловался, он просто констатировал безысходность своего положения. «Паша, дай мне денег. На том свете поквитаемся», — новая счастливая мысль осеняла его, и он уже готов был поверить, что Лебедев даст и перед смертью он все-таки поглядит на могилу жены…
|
|