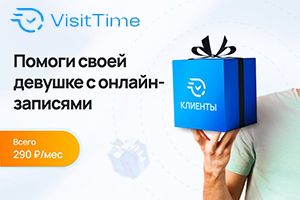Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Часть 1
|
|
Сухие-как-пергамент-лепестки-хризантем-которые-кто-то-любил
| Автор: SoftPorn Фэндом: EXO - K/M Основные персонажи: Лу Хань (Лухан), Ким Минсок (Сиумин) Пэйринг или персонажи: Лухан/Миньшо Рейтинг: NC-17 Жанры: Слэш (яой), PWP Предупреждения: OOC, Инцест Размер: Миди, 142 страницы Кол-во частей: 18 Статус: заморожен |
Описание:
Лухан ненавидит своего брата с того мгновения, как впервые увидел. Он ненавидит его так сильно, что не может думать ни о чем, кроме него.
Примечания автора:
Фетиш.
Как следствие неслыханного разврата рожденный артhttps://cs14112.vk.me/c314817/v314817810/4a70/BgxR70csNLU.jpg
https://cs14112.vk.me/c314817/v314817810/4a79/7cklh0kSplA.jpg
за который благодарности достаются s3
+ обложечка (мерси, s3): https://cs412631.vk.me/v412631810/6a1e/uXHConszVnU.jpg
+ еще няшность https://pp.vk.me/c408930/v408930082/ae8c/D7PXE2lvW0o.jpg (грейт сенкс eternall fall!)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Часть 1
Он был совершенно счастлив и доволен своей маленькой жизнью – даже собаки на улицах жалобно поскуливали и прижимали уши к голове, когда он выходил на горячие от солнца улицы, стукая каблуками разбитых ботинок по камням. Нищенка на углу собирала свое шмотье и торопливо вставала, семеня искривленными болезнью ногами на другую сторону улицы, подальше от дома, где жил маленький разбойник, кидавший в нее камнями. Служанки кормили его конфетами, чтобы он не рассказывал, кто и как часто ходит к ним по ночам, уходя только с рассветом.
А потом появился ОН.
Отец держал его за ручку, а он думал, что никогда еще не видел такого дурачка – маленькие широко раскрытые глазки смотрели не просто испуганно, а так, как смотрят умалишенные, наивно и жалостливо.
Но самое страшное было то, что отец сказал:
- Это Миньшо, и он твой брат. Пожалуйста, позаботься о нем.
У Миньшо, который на самом деле оказался даже старше его на месяц, под носом висела сопля, и он впервые в жизни ненавидел отца, маленьким, но ухватистым детским сознаньицем сообразив, что братик ему не совсем родной – как-никак, мать умерла так давно, что он ее и не помнит.
И, кроме того, его мать, судя по портретам, висящим в гостиной, была настоящей красавицей, как сказочная китайская принцесса – у нее просто не могло быть сына с такими косыми глазами и соплей под носом.
И он, которого природа не обделила ни красотой (все говорили, что мальчик хоть и сущий дьяволенок, но красив, как ангелочек), ни умом (в свои шесть с небольшим он уже отлично считал и, что самое главное, умел думать и извлекать из своих размышлений выгоду – чего стоил, например, его шантаж с конфетами), с первого же дня возненавидел нового родственничка, который вскоре вполне оправдал ту соплю, висевшую под носом в первый день их знакомства – Миньшо оказался туповатым тихоней, плаксивым и запуганным ребенком.
Ему не приходили в голову мысли о том, что Миньшо, возможно, скучает по матери (а куда она, собственно, делась, он не мог допытаться ни у самого Миньшо, который при упоминании о ней начинал реветь и мазать свои сопли по лицу, ни у отца, который просто выгнал его из кабинета, когда он задал этот вопрос), что маленького мальчика пугает огромный новый дом и незнакомые люди, которые, если говорить откровенно, вовсе были в нем не заинтересованы – и поэтому маленький Лухан недолго думая записал братика в ту же категорию, что собак на улицах и нищенку на углу.
Эта была категория существ, созданных для его удовольствия – и он не стеснялся доводить отсталого Миньшо до слез, ябедничая на него при любом удобном случае. Впрочем, если быть честным, то случаи он создавал сам – начал с того, что побежал к отцу, показывая ему синяк на ноге, который посадил, упав с дерева. Помнится, он сумел даже зареветь и, всхлипывая, произносил только одно:
- Это Миньшо… Это все Миньшо, папочка…
Помнится, Миньшо тогда на весь день заперли на втором этаже, лишив обеда и ужина.
Потом он бил самые дорогие и ценные вазы, неизменно тыкая пальцем в туповатого братика, который никогда не спорил и не защищался – только ревел тихо, раз за разом просиживая голодные дни наказания наверху.
Пожалуй, ошибкой было вылить на себя чай за завтраком – когда коричневое пятно поползло по его рубашке, глаза Миньшо уже были полны слез, и отец впервые не поверил ему, решив, что тихий и вечно запуганный мальчик, который и слова-то произносил так тихо, что приходилось вслушиваться, вряд ли был настолько хулиганистым, как пытался показать младший.
Отец сказал:
- Если ты, Лухан, еще раз соврешь, я выпорю тебя так, что с тебя кожа слезет.
Пришлось сменить стратегию и доводить туповатого реву другими способами – и Лухан находил новые и новые. Он подставлял подножки и больно щипал старшего за бока, получая чистое удовольствие от того, что его реакция не менялась никогда – глаза застилало водой, и он убегал в свою комнату, вытирая сопли рукавом рубашки.
Лухан отбирал у него игрушки и конфеты.
Лухан без жалости, глядя в маленькие широко распахнутые глазки, отрывал воротничок от рубашки Миньшо, раздирая ткань так, что ее невозможно будет сшить – и уж гувернантка точно расскажет об этом отцу.
Потому что Лухан ненавидел этого непонятно откуда (наверняка получалось, что его отец не так уж и безгрешен) взявшегося брата.
А когда с ними стал заниматься злой и седой репетитор, Лухан возликовал – мало того, что Миньшо был явно глуп для всего того, что старик пытался им втолковать, так едкий, как мыло, высохший китаец, вечно сжимавший пальцами тонкую длинную линейку, на счастье Лухана еще и с первых же дней невзлюбил Миньшо, срываясь на крик всякий раз, когда испуганный мальчик не понимал его.
Лухан ликовал, и, когда ему казалось мало, выливал чернила на тетрадочки братика, чтобы злой старик ударами линейки по маленьким пальчикам в очередной раз учил Миньшо быть аккуратнее. Лухан радовался его слезам – таким большим и чистым, бежавшим по уродливым полным щекам – потому что они были настоящие. О, он хорошо знал, насколько болезненна была линейка – он и сам получил однажды сухой оглушающий ожог по вытянутым пальцам.
Но тогда Лухан вскочил из-за стола и, шипя, как змея, злыми глазами глядя на учителя, произнес:
- Еще раз меня ударите, и я сделаю так, что вас уволят.
Очевидно, его ярость была страшна уже тогда.
А Миньшо продолжали бить все, кому не лень, даже слуги – маленький тихий мальчик, похожий на дурачка, почему-то у всех вызывал только одно желание – ударить побольнее. Возможно, потому, что никогда не защищался. Некоторых ведь словно сам бог выбирает, чтобы сделать подушкой для битья.
Единственным, кто пытался относиться к Миньшо хорошо, был отец. Отец всегда улыбался дурачку, вытирал его сопли, и приговаривал:
- Как же ты похож на нее…
И это выводило маленького Лухана из себя – хорошо, то, что отец уже не принадлежал одному ему, как раньше, он кое-как принял, но как можно было испытывать нежность к этому сопливому уродцу, который ныл с утра и до самого вечера, вызывая своими зелеными соплями отвращение, ему было непонятно. Особенно, если учесть то, что у отца был нормальный здоровый сын – он сам.
И тот день, когда его страхи по поводу симпатий отца развеялись, он будет помнить вечно – потому что это один из самых приятных дней в его маленькой жизни.
Миньшо с уроков отправили в кровать, потому что он был горячий и весь красный, а за обедом он закатил такую истерику, что даже Лухан удивился – Миньшо ревел, как сумасшедший, валялся на полу и бил по ковру кулаками. Отец пытался его поднять, потянув за плечо, но уродец укусил его, еще громче затянув:
- Я ненавижу этот до-о-о-ом, я хочу к маме-е-е-е-е…
- Миньшо, успокойся, - унизительно ласково продолжал отец, поглаживая содрогающуюся спинку. – Пойдем, я уложу тебя в кровать.
- Я не хочу с тобо-о-о-ой, - выл Миньшо. – Верни меня к маме-е-е-е… Я люблю маму-у-у-у, почему ты держишь меня зде-е-е-есь…
- Миньшо, твоя мать умерла, - холодно сказал отец, встряхивая Миньшо, как мешок, за воротничок кофты.
- Тогда пусть я тоже умру, - внезапно зло выдал Миньшо, глядя покрасневшими глазами прямо на отца. - Я не хочу здесь жить. Я тебя ненавижу.
Лухан подумал, что никогда еще не видел отца настолько разъяренным, когда он, выдернув жесткий кожаный ремень из шлеек брюк, прошипел:
- Ты в точности, как она. Если умрешь, я буду только рад.
Миньшо все еще смотрел на отца своими страшными черными глазами, и Лухан отчего-то решил, что Миньшо хорошо понял и запомнил эти слова, крепко сцепив их воспоминаниями с тем, что было после – отец сдернул с него штанишки и перегнул через подлокотник кресла, чтобы ремень горячее ложился на бледные половинки.
Удары жесткого кожаного ремня падали на очень быстро ставшую красной детскую попку, Миньшо ревел, разрывая горло, отец все хлестал и хлестал, а он смотрел, не отрываясь, и мог бы поклясться, что ничто и никогда не приносило ему наслаждения большего, чем ярко-красные горячие полосы, пересекавшие ягодицы Миньшо.
Бабку Лухан любил хотя бы за то, что старуха ненавидела Миньшо так же, как и он сам. Бабка не разговаривала с его братом и постоянно вслух роняла замечания о том, что ее сын взял в дом ребенка какой-то шлюхи, которая даже не была китаянкой – и, соответственно, несмотря на все старания сына, отказывалась признавать глупого косоглазого мальчика своим внуком.
После тех побоев отец и сам как-то охладел к сопливому уродцу, предпочитая игнорировать его присутствие, когда он молчал, а если Миньшо ревел – просто поднимался и уходил, предоставляя слугам самим, если им захочется, успокаивать мальчика.
В конце концов отец стал пересекаться с сыновьями только за обедом (и Лухан не находил в этом ничего, что его бы не устраивало – молодой еще, красивый и молчаливый мужчина, конечно, назывался его отцом, но никаких теплых чувств не вызывал), а Миньшо, к чести сопливого уродца надо сказать, перестал реветь громко, предпочитая прятаться в своей комнате и ронять слезы в подушку. Если говорить откровенно, Миньшо вообще отказывался издавать какие-либо человеческие звуки, отмалчиваясь, когда его о чем-то спрашивали – просто стоял, смотрел под ноги и ничего не говорил. И то, что Лухан забыл, как звучит голос Миньшо, тоже устраивало его как нельзя лучше.
Но старуха бабка, видимо, была из той же неуемной породы, что и сам Лухан – за каждым обедом, который подавали в старом доме отца, в глухой китайской провинции, в половине третьего, она, воздав должное уважение таланту кухарки вычищенной до блеска тарелкой, доставала графинчик вонючей ягодной настойки и, подперев полную щеку рукой, вперивала взгляд полинявших глаз в бледного щекастого мальчика:
- Сын шлюхи, - говорила она. – Маленький ублюдок.
Миньшо тихо скреб ложкой по тарелке, и Лухан сомневался в том, что он понимает, что слова бабки относятся к его матери, сомневался, что сопливый уродец вообще знает значение слова «шлюха».
- Надо было отравить твою мать, пока ты был внутри. Надо было отравить ее до того, как мой сын решил, что сможет жениться на шлюхе.
Графинчик пустел, злые глаза старухи становились все белее, а Лухан весело болтал ножками, облизывая ложку и прислушиваясь к словам, чтобы запомнить самые обидные и потом шептать их Миньшо на ухо, когда никто не слышит.
Миньшо всегда слушал покорно, проглатывая вместе с обедом и слезы, но в тот день перед самым отъездом, бабка, очевидно, перебрала настойки, и даже Лухан вздрогнул, когда пустой графин разлетелся на полу воняющими кислятиной осколками:
- Выродок, - прошипела старуха, - ты не должен жить.
Миньшо всхлипнул громче обычного, задел рукой стакан – и он полетел вниз вслед за графином, раскрошившись по полу стеклянными кусками. Бабка вскочила в ярости, схватив Миньшо за волосы, и бессильными старческими руками таскала его по всей комнате, слушая его рев:
- Бабушка, бабушка, пожалуйста… - и бесилась только сильнее от того, что дрожащий голосок называл ее «бабушкой», а маленькие ручки жалко и беспомощно тянули за одежду, умоляя прекратить.
Когда бабка стала задыхаться, Миньшо умудрился вывернуться и, размазывая слезы, побежал наверх, а Лухан, проводив его злым взглядом, подошел к старухе, чтобы усадить ее в кресло:
- Бабушка, забудь о нем, у тебя же есть я…
Лухана забавляло, что ему бабка неизменно улыбалась тепло и по волосам гладила с наслаждением – а он стоял, прижавшись к ней, празднуя очередную победу над сопливым уродцем, хоть от старухи и воняло кислятиной просто смертельно.
Миньшо Лухан не видел до самого утра, только слышал, как тот вполголоса разговаривает с кем-то в старой пыльной бибилиотеке, в которую ни бабка, ни он сам тем более никогда не заглядывали:
- Пусть ты будешь любить меня, пожалуйста. Я тебя никогда не брошу.
С кем идиот-Миньшо разговаривал, Лухан узнал утром, когда братишка спустился с лестницы, держа в одной руке чемодан, а второй прижимая к себе пыльную плюшевую игрушку.
- Это еще что? – разъярилась старуха, выдернув куклу у мальчика из рук. – Где нашел?
- В библиотеке, - пробормотал Миньшо. – Пожалуйста, можно я возьму ее?
Лухан видел, как перекосило бабкино лицо, когда Миньшо внезапно упал перед ней на колени, вцепившись пальчиками в подол юбки, зачастил:
- Пожалуйста, бабушка, пожалуйста, бабушка…
Старуха брезгливо кинула игрушку под ноги:
- Забирай, только заткнись и никогда не называй меня так, шлюхино отродье.
Пока Миньшо ползал по полу, отряхивая пыль с плюшевого медведя, Лухан на прощанье даже почти искренне поцеловал старуху в щечку – как потом оказалось, в последний раз.
Когда отцу надоело содержать репетитора, и их с Миньшо отправили в школу, Лухан тоже не сильно расстроился – пансионат был частным, дорогим, находился далеко от города, и там была куча парней, у которых можно было узнать массу неприличных вещей.
Миньшо, конечно, бесил все так же, особенно тем, что позорил его и даже по школе таскался с этим уродским медведем, на уроках держа игрушку на коленях, а на переменах и в столовой крепко прижимая к себе – потому что не только Лухан уже не раз пытался, и весьма успешно, отправить медведя на тот, плюшевый, свет. Лухан хохотал каждый раз, когда после драки на следующий день игрушка оказалась заштопанной аккуратными, но кривоватыми стежочками – очевидно, шить Миньшо научил его такой же странный, как сам братец, и, откровенно говоря, туповатый сосед по комнате, которого звали Син-Син. Син-Син был на два года старше и, казалось, был единственным человеком за всю жизнь Миньшо, который проникся к нему чем-то искренним и теплым, подсаживаясь к нему за стол на обедах и спасая от вечных насмешек, отгоняя хулиганов своим безэмоциональным и глуповатым лицом – издеваться над Син-Сином, как оказалось, просто бесполезно, потому что он только улыбался и молчал, глядя на обидчиков с ласковым укором, так что руки в конце концов опускались.
Поначалу Лухан надеялся, что Миньшо вскоре просто вылетит из школы, потому что такого тупицу еще надо было поискать – каждый раз, когда его вызывали к доске, Миньшо начинал молча плакать, чувствуя на себе десяток насмешливых взглядов одноклассников и один разочарованный учительский. Но, к большому сожалению Лухана, учителя стали просто спрашивать его старшего братца письменно, и с этим Миньшо, хоть и с большим трудом и не без помощи Син-Сина, кое-как справлялся.
Одним словом, раздражение, которое вскипало в Лухане, как пенка на молоке, при виде его старшего братишки, никуда не делось, но теперь он видел Миньшо реже, а его слезы из-за в очередной раз облитой чернилами тетради, очевидно, доставались нелепому Син-Сину, который с охотой выполнял почетную миссию вытирать старшенькому сопельки из-под носа.
Но если бы кто-то спросил Лухана, чего он хочет больше всего на свете, он бы без сомнений ответил – не велосипед, не научиться стрелять из лука и даже не вырасти поскорее. Лухан хочет, чтобы его сопливого недоразвитого братика, который в свои восемь лет почти не умеет разговаривать и повсюду таскает за собой драную, пестрящую шрамами из белых ниток детскую игрушку – просто не было.
Никогда не было.
|
|