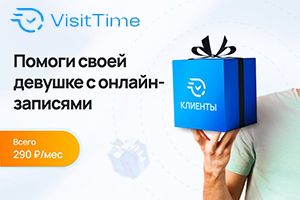Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Часть 2
|
|
К своим пятнадцати Лухан вытянулся, как водоросль, и за звание короля пансиона с ним мог поспорить разве что еще более высокий и совсем уж неприлично красивый шестнадцатилетний Вуфань. Личико Луханя стало еще более милым, а внутри он остался все тем же дьяволенком, не упускавшим ни одного шанса вывести из себя учителя или посмеяться над кем-нибудь, кто не был настолько же обласкан вниманием, как он сам.
Некоторые шутки Лухана и вовсе переходили границы – например, тогда, когда он засунул в карман одноклассника непонятно откуда добытые женские трусы, и весь класс хохотал, когда интимная деталь вывалилась у бедняги из пиджака прямо на уроке, заставив его покраснеть, как помидорину. За мальчишкой закрепилась слава знатока городских борделей, а на Лухана смотрели с еще большим уважением.
К слову стоит упомянуть и том, как Лухана едва не отчислили за пьянку, устроенную прямо в комнате. Директор был в бешенстве, потому что кого-то из младших напоили так, что туалет пришлось закрыть, чтобы вычистить – и это еще официальная версия, которую ходившие по школе слухи дополняли какими-то странными деталями вроде того, что кого-то раздели (или кто-то разделся сам), кого-то гладили у всех на глазах (и не надо думать, что слово «гладили» не несет в себе предосудительного смысла), а потом кому-то дали в рот и этому кому-то пришлось глотать все до последней капельки.
Кем был этот кто-то и какое ко всему этому отношение имеет сам Лухан, сплетники не уточняли, но даже дураку вроде Син-Сина было понятно, что без красавчика здесь не обошлось, и он, впечатленный, возвращаясь в комнату, спросил у Миньшо, знает ли он что-нибудь об этом.
Миньшо покраснел до кончиков волос, прижал к себе своего медведя и покачал головой:
- Я не разговаривал с братом с прошлого рождества.
Но утром в столовой, когда Лухан поймал на себе настойчивый взгляд своего братца-идиота, сразу же опустившего голову в тарелку, когда он обернулся, Лухан почему-то отчетливо понял, что слушок долетел до Миньшо – и Лухан довольно улыбнулся, толкнув локтем Вуфаня:
- А знаешь, мне говорили, что в городе появился бордель, где даже не спрашивают возраст.
Вуфань взметнул красивые брови вверх и, покряхтев от досады, что не он первый узнал такую замечательную новость, спросил:
- А поподробнее?
И Лухан принялся рассказывать – с удовольствием и воодушевлением, потому что собраться и одному посетить продажную барышню, несмотря на браваду, вряд ли бы удалось, а о том, что попробовать было просто необходимо, и речи не шло.
Потому что Лухан просто из кожи вон лез, чтобы очередной пакостный слушок, в котором, к слову говоря, почти все было преувеличено (взять, к примеру, это «у всех на глазах» - разве трое, если по-честному, это «у всех на глазах»?), снова заставил Миньшо смотреть на него, краснеть и от ужаса стискивать тупого медведя маленькими ручками.
Потому что Лухан по-прежнему ненавидел сопливого уродца, которого отец заделал с какой-то проституткой (о да, теперь он понимал настоящий смысл бабкиных пьяных речей и совершенно не стеснялся повторять их при Миньшо и, если везло, при ком-нибудь постороннем), ненавидел так, что в глазах искрило, когда он видел облезшую долыса за эти годы макушку медведя, которого братишка вжимал себе в живот, когда они встречались в коридорах. Лухан останавливался специально, чтобы напугать его еще сильнее, сжимал кулаки от ярости и едва ли не выл, когда его глаза встречались с глазами Миньшо, в которых за эти годы, казалось, ни на грамм не прибавилось осмысленности – они все так же смотрели прямо, распахнутые настолько неприлично широко, что в них, внутрь неестественно огромных кофейных дисков, хотелось, прохаркавшись, плюнуть. А еще лучше было бы стукнуть его головой о стену, душить пальцами на тонкой, вызывающе белой шее. Когда Лухан думал об этой тонкой, будто фарфоровой шейке, его мозг прекращал работать, застилая разум картинками, на которых она покрывалась уродливыми фиолетовыми синяками, его тошнило, колени слабели, и ему хотелось упасть на пол и рыдать от бессилия.
Потому что он ненавидел Миньшо так сильно, что не было слов, чтобы рассказать об этом – оставалось только изобретать все новые и новые способы прославиться, чтобы паршивые слухи перекатывались у сопливого братца прямо в глотке, душа отвращением и ненавистью, заставляя реветь, как раньше, как в детстве.
То, что Миньшо мог реветь, как сиротка, знали все в школе, но почему-то до сих пор считали своим долгом сообщать ему об очередной истерике, хотя он, кажется, сделал уже все, чтобы его перестали связывать с братом, но даже Вуфань, даже тупица Вуфань все еще мог спокойно подойти к нему и заявить:
- Там этот твой недоразвитый опять ревет в туалете. Говорят, кто-то засунул его медведя в унитаз.
И он вскидывал бровь так же безразлично, как сам Вуфань (собственно, этому эффектному жесту Лухан у Вуфаня и научился), и вымороженным голосом спрашивал:
- Предлагаешь пойти добавить?
Вуфань двусмысленно хмыкал (то ли ему просто нравилось каждый раз бесить Лухана упоминанием о постыдном умственно отсталом родственничке, то ли красавчик в конце концов смекнул, что братская ненависть не так проста, как могло бы показаться, и его разнузданная фантазия подкидывала ему картинки того, что «пойти добавить» могло бы значить на самом деле) и пожимал плечами:
- Ну он же твой брат.
Лухан бесился, как дьявол, со злости пинал вуфаневский стул и уходил, громко хлопнув дверью – проверять все туалеты, начиная со второго этажа. И когда находил, то молча стоял, прижав спину в форменном пиджаке к кафелю, и слушал музыку всхлипов и тихого воя, представляя обшарпанного медведя, вынутого из унитаза, и как Миньшо, рыдая, будет мыть своего лучшего и единственного друга под краном. Он представлял его опухшее от слез лицо, мешки под косыми глазами и трясущиеся губы – и его снова мутило, и ноги слабели, как ватные. Он убегал из туалета, неслышно прикрыв дверь, и прятался за выступом стены, закуривая одну из сворованных у отца сигарет.
Он ненавидел Миньшо настолько, что готов был собственноручно придушить его, пробравшись к нему в комнату ночью (и тупицу Син-Сина заодно, если идиоту не повезет проснуться), а потом закопал бы в школьном дворе где-нибудь у туалета. Проблема была лишь в одном – каждый раз, когда он приближался к плаксивому шлюхиному сыну, его трясло крупной дрожью, он задыхался и не мог даже пальцем пошевелить.
Лухан стоял в большом ярко освещенном зале, одергивая рукава костюма, вместе со всеми остальными мальчиками ожидая, когда объявят о прибытии девочек – в честь окончания учебного года школа решила дать бал, и, поскольку танцевать унылые танцы все-таки с кем-то было надо, уже достаточно взрослым выпускникам обоих полов было разрешено провести этот вечер вместе.
Лухан зачем-то поддался общему настроению и с интересом поглядывал на двери, рядом с которыми, к слову говоря, мялся и Миньшо – лишенный своего тупого медведя, которого у него отобрали на выходе, и потерянный без чем-то сильно заболевшего Син-Сина, который, по слухам, четвертый день не слазил с унитаза в лазарете (слухи связывали это с кем-то, подсыпавшим что-то в чай самого безобидного ученика в школе, и Лухан кусал костяшки на пальцах, прихихикивая от мысли, как он раньше не догадался так просто и элегантно устранить единственного защитничка Миньшо). Лухан с интересом смотрел на двери не потому, что его сердце с восторгом билось от мысли, что он весь вечер будет танцевать с барышнями – Лухан знавал времена, когда его сердце билось и сильнее – например, тогда, когда он почти подговорил Вуфаня посетить то самое заведение, о котором он рассказывал за обедом. Но Вуфань, которому кто-то уже успел рассказать о прелестях сифилиса и гонореи, струсил в самый последний момент, и теперь у Лухана был последний шанс отмочить что-нибудь, что ужаснуло бы дурачка Миньшо – через неделю они оба по решению отца отправлялись на все лето в ссылку в деревню, к дяде, в тот самый дом, где уж лет десять как мертвая бабка таскала ревущего Миньшо за волосы и называла выблядком. Лухан возмущался только для профилактики – отец все еще был молодым, ему даже не было сорока, и Лухан вдруг, как мужчина мужчину, начал понимать его внезапное желание хоть ненадолго избавиться от сына-дебила с соплей под носом и сына-хулигана, вечно ищущего приключений на задницу. Единственное, на что надеялся Лухан, так это то, что его игривая задница сумеет и в деревне найти что-нибудь интересное или, если говорить откровенно, мягко-сисястое, а дядя-казанова не окажется слишком строг.
Огромные двери вдруг распахнулись, и Лухан краем глаза успел заметить, как Миньшо едва успел увернуться, чтобы створка не ударила по нему – когда в зал одна за другой, похожие на птичек в своих пышных платьях, впорхнули девочки. Откровенно говоря, Лухану до них не было дела – их же все равно не потрогаешь, где хочется, а предлагать он бы не решился, зная, что это чревато криками и изгнанием из школы. Но безумно хотелось в последний разочек если и не унизить Миньшо, так хотя бы заставить поморгать шокированно, и Лухан, улыбаясь от уха до уха, поплыл к той, которую посчитал самой красивой – чтобы поклониться и предложить танец.
В конце концов через час у Лухана от улыбок заболели губы, а от танцев начала кружиться голова. Его партнерша была миленькой, но щебетала так настойчиво, что Лухану приходилось сжимать зубы, чтобы не сказануть лишнего и не оскандалиться, а когда навстречу ему проплыл счастливый Вуфань, нежно держащий за пояс красотку, у которой точно не было гонореи, Лухан и вовсе чуть не рассмеялся вслух… Но его улыбка погасла с внезапностью очага, который залили водой – у большого и узкого, вытянутого вверх окна Миньшо глупо улыбался какой-то тощей и страшной девушке, смотря в пол и беззвучно с такого расстояния шевеля губами. Ярость одним прыжком выжрала Лухану внутренности, и он поволок свою партнершу к окну, игнорируя ее причитания:
- Лухан, что случилось? Куда мы идем?
Конечно, как он мог не догадаться – у умственно отсталого Миньшо вдруг, к всеобщей неожиданности, отыскался талант к литературе (очевидно, то время, что он ревел в пыльной библиотеке, не прошло совсем даром), и учитель словесности в конце года с пеной на губах расхваливал тонкое чувство братца к поэзии, которой Миньшо сейчас, очевидно, как раз-таки услаждал слух уродливой школьницы перед ним.
Твоя листва - из яшмы бахрома-
Свисает над землей за слоем слой,
Десятки тысяч лепестков твоих,
Как золото чеканное горят...
О, хризантема, осени цветок,
Твой гордый дух, вид необычный твой
О совершенстве доблестных мужей…
Строчки, написанные древней поэтессой, чей прах уже давно проглотила щедрая китайская земля, заметались у Лухана перед глазами дождем из цветочных лепестков, и он зашатался, схватив свою спутницу за руку – Миньшо стоял, завернутый в свой новенький костюм, который никто еще не успел порвать, и смотрел прямо на него, а его губы выговаривали слово «хризантема» так, что Лухан вдруг почувствовал, как наполняется ненавистью и к этому цветку, к горькому запаху бледно-фиолетовых сухих лепестков, к волоскам, покрывающим длинный сочный стебель.
Миньшо нарочно сводил его с ума и продолжал смотреть широко раскрытыми, как у недоразвитого, огромными глазами, пожирая воздух в зале и превращая его в кашу из пережеванных цветочных лепестков, которой невозможно наполнить легкие…
Просто потому, что в тот момент, когда губы Миньшо произносили слово «хризантема», Лухан на свою собственную беду поймал в его глазах глубоко за вечным идиотским испугом запрятанное нечто, что не имеет дна и названия.
- Кто это? – щебетала девчонка, которую он держал за руку, заглядывая в побелевшее лицо Лухана внимательными блестящими глазками. – Почему ты так смотришь на него?
- Мой брат, - выдохнул Лухан, возможно, впервые в жизни ясно осознав, что, несмотря на все его молитвы, это убожество, ревущее в туалетах и сейчас читающее стихи о хризантемах, действительно приходится ему братом – и Лухан не избавится от него никогда, до самой смерти его будет мутить от этих глаз и шеи, которые, как бы он ни надеялся, не исчезнут в один прекрасный день.
- Красивые стихи, - сказала девчонка, имя которой Лухан забыл.
- Я ненавижу его, - прошептал Лухан.
А потом обхватил ладонями ее лицо и, нагнувшись, поцеловал прямо в губы. Девчонка пискнула, а по залу волной прошелся какой-то напряженный шепоток, но Лухану было совершенно безразлично – он просто смотрел на Миньшо, который смотрел на него в ответ и хлопал глазами, полными непонимания и… обиды?
Или Лухан просто хотел бы видеть ее – обиду и ревность…
Девчоночка покраснела по самые уши, а потом несмело пропустила свою ручку через локоть Лухана – ей хотелось думать, что она самая счастливая из подруг, потому что ей достался самый смелый кавалер из этой школы. Настоящий мужчина, настолько храбрый, что из-за нее решился нарушить правила – да еще такой красивый, что ноги подкашиваются. А поцелуй – это ничего, никто не будет ругаться, ведь все же было прилично, правильно?
А Лухан даже неделю спустя не вспомнит, как ее звали.
Но запах раздавленных хризантем, расползающийся от взгляда Миньшо, он будет помнить вечно.
- Разве в доме нет слуг, чтобы я ходил звать этого уродца? – фыркнул Лухан, кидая салфетку на стол. – Если хочет оставаться голодным, я-то тут при чем?
- Лухан, сходи и позови брата, - холодным тоном выговорил отец. – Это наш последний совместный ужин перед тем, как вы уедете, и я хочу видеть вас обоих.
- Черт бы вас побрал, - пробормотал Лухан, отодвигая стул.
Лухан поднялся по лестнице и замер перед дверью комнаты ублюдочного братца – из-за дерева не доносился ни один звук, который бы говорил о том, что сопливый нытик еще не умер и не разлагается там на кровати. Впрочем, так было всегда – и Лухан просто толкнул дверь.
Он никогда не утруждал себя стуком.
Всего мгновение понадобилось Лухану, чтобы запомнить каждую деталь этой комнатки – цветочный узор на ковре, включенный светильник на маленьком столике и даже ненавистного облысевшего медведя, сидевшего на полу у ножки кровати и смотрящего в полумрак своими глазами-пуговками – прежде чем сердце Лухана зачастило и его глаза намертво прилепились к самой главной и шокирующей детали.
Нет, Лухан понимал, что его братику лет ровно столько же, сколько и ему самому, но поверить в это, даже видя своими собственными глазами (в особенности учитывая, что он считал Миньшо недоразвитым – а еще этот милый медведь, сидящего возле его бедра…), было сложно, но факт оставался фактом – Миньшо сидел на полу, раздвинув ноги и откинув голову на кровать, а его правая рука двигалась в расстегнутых штанах…
И чем дольше Лухан смотрел на это, тем темнее становилось у него в глазах – где-то там, под серой тканью форменных брюк, дурачок Миньшо, сын шлюхи, его брат и ненавидимый всем белым светом глупый невинный ребеночек растирал кулачком свою маленькую игрушечку, а на его щеках играл яркий даже в полумраке румянец, в кои-то веки заставляя его казаться взрослее, чем он есть на самом деле. Косые тени падали на его личико, стирали острую скулу и затекали в расстегнутый воротник рубашки, а Лухан все смотрел и смотрел на расстегнутую ширинку, не зная, как проглотить скопившиеся во рту слюни и пытаясь угадать в очертаниях серой ткани длинное, тонкое и твердое.
Свист, вырвавшийся из горла Лухана, привлек внимание Миньшо, и он повернул голову, открывая глаза…
Лухан в косой полосе света от ночника стоял прямо над ним и смотрел такими страшными глазами, каких Миньшо еще не видел за все десять лет. Лухан был похож на самого дьявола, явившегося из преисподней, и Миньшо испуганно вынул руку из штанов, пытаясь застегнуться, хоть и понимал, что ему теперь ничего не поможет.
Лухану казалось, что его сердце сейчас остановится – подумать только, его дурачок-братик, оказывается, не только осведомлен о том, что это за штучка у него между ног, но и о том, как ей пользоваться, чтобы сделать себе приятно.
Миньшо начал испуганно шевелиться под его ногами, и Лухан подумал, что – даже если после всего этого сам дьявол не побрезгует подняться за ним – он получит то, чего хочет.
А он хотел увидеть то, что так трепетно ласкал Миньшо в своих штанах.
И еще унизить. Унизить от души, чтобы Миньшо снова заливался слезами, как раньше.
- Ты читал Библию? – начал Лухан, схватив Миньшо за запястье. – Тебе известно, что там написано об этом?
- Д-д-да, Лухан… - Миньшо попытался освободить руку. – Отпусти, пожалуйста, прошу...
- Наверно, мне стоит рассказать об этом отцу, - вкрадчиво проговорил Лухан, сильнее сжимая пальцы на запястье и, как язычник, про себя молясь о том, чтобы Миньшо повелся на эту угрозу. – Он будет в восторге, когда узнает, что его сын – мерзкий опустившийся грешник, развратничающий прямо в его доме, предающий самое святое…
- Нет, Лухан, пожалуйста, - стонал Миньшо, отрывая чужие пальцы от своей руки и наполняя глаза слезами. – Только не говори отцу.
- Как же я могу? – шептал Лухан в покрасневшее личико братца. – Грех должен быть наказан…
- Лухан, пожалуйста, пожалуйста…
Лухан на секунду задумался, а потом впился в Миньшо взглядом:
- Я могу ничего не говорить отцу только в том случае, если я сам накажу тебя. Я прав? – Лухан дернул Миньшо к себе, накрепко прижав к груди.
Миньшо дрожал сам. И дрожали слезы в его глазах.
- Так что мне сделать? – поторопил Лухан. – Сказать отцу или наказать самому?
- Не говори… отцу, - пролепетал Миньшо, втягивая голову в плечи.
Лухан улыбнулся так, что показались клыки, и довольно положил руки Миньшо на узенький пояс, отворачивая от себя.
- Больше не будешь блудничать со своей рукой, - в заключение пропел Лухан, вытаскивая ремень из шлеек брюк Миньшо.
Миньшо начал всхлипывать, когда Лухан расстегнул брюки и нагнул братишку над столиком, выворачивая наружу бледненькие ягодички. И Лухан едва ли не задохнулся, когда увидел, что член все еще стоит.
Ремень просвистел сквозь воздух и лег широкой полосой на молочно белую кожу, вырвав из Миньшо жалкий, похожий на скулеж, всхлип. Слезы закапали на поверхность стола, а Миньшо укусил себя за ладонь, чтобы не завыть, пока Лухан раз за разом ударял ремнем по беззащитной попке, собирая остатки сил, чтобы не свалиться в обморок – даже от боли член Миньшо не опускался.
Лухан сделал пять хороших ударов, раскрасив бывшие бледными, как молоко, ягодички яркими красными полосами, а потом его начало тошнить – он выбросил ремень, прошипев:
- Маленький ублюдок, - и вывалился за дверь, зажимая рот ладонью.
За дверью послышался тихий всхлип, а потом возня – Лухан представлял, как Миньшо натягивает брюки, подбирает медведя с пола и падает с ним на кровать, чтобы полночи лить слезы от боли и стыда в его облысевший загривок.
И уж теперь точно Миньшо подумает сто раз, прежде чем опять захочет поиграть со своей маленькой игрушечкой, которая подергивалась каждый раз из пяти, что ремень приземлялся на мягкие половинки Миньшо.
Воздух постепенно возвращался в легкие Лухана и он, убрав волосы со лба, медленно спустился с лестницы, осторожно ставя ноги на ступеньки.
Отец посмотрел на него с подозрением – что же, блестящие глаза и мелко трясущиеся руки не заметит разве что слепой – и сухо спросил:
- Где твой брат?
- Сказал, что у него голова болит, - выдавил Лухан, нарочно выбрав часть тела, диаметрально противоположную той, что болела в данный момент у Миньшо на самом деле.
- Ладно, тогда давай есть, - сказал отец, и Лухан фыркнул.
Если он проглотит хоть кусочек, его стошнит. Эта тошнота будет с ним всю ночь и снова появится утром, когда опухший от слез Миньшо спустится к завтраку, а Лухан будет смотреть прямо в его глаза, прокручивая в голове кадры с ним, сидящим на полу в расстегнутых штанах рядом с лысым медведем.
Кажется, лето не будет таким скучным, как ему казалось в начале.
|
|