
Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
О соотношении названных понятий
|
|
В предыдущих главах рассматривались функциональные стили русского литературного языка, связанные с различными сферами общественной деятельности. Все эти стили мы назвали книжными. Этим книжным стилям многие лингвисты (М.Н. Кожина, Ю.М. Скребнев, А.Н. Васильева и др.) противопоставляют разговорный (в другой терминологии — разговорно-обиходный или разговорно-бытовой) функциональный стиль. Этот стиль обслуживает, по мнению лингвистов, его выделяющих, сферу повседневно-бытового неофициального общения, в основе которой лежит обыденное сознание. Однако с начала шестидесятых годов прошлого столетия началось интенсивное изучение «живой» разговорной речи, несходство которой с книжно-литературным языком, обладающим кодифицированными нормами, давно обращало на себя внимание и лингвистов, и многих образованных носителей русского языка. Несходство норм книжных функциональных стилей литературного языка и «живой» разговорной речи ярко обнаружилось, в частности, при обучении русскому языку иностранцев, когда последние, овладев нормами книжно-литературной речи, тем не менее, оказывались абсолютно беспомощными в ситуации живого, непосредственного общения с носителями русского языка, не понимали их неподготовленную (спонтанную) непринужденную речь. Изучение живой разговорной речи стимулировалось также техническими достижениями: стала возможна запись звучащей неподготовленной речи на магнитофонные ленты. Первыми такие записи начали изучаться А.А. Никольским (1964), О.Б. Сиротининой (1961), О.А. Лаптевой (1966, 1969), М.В. Пановыми, Е.А. Земской(1968).Сложность состояла в том, что До изучения этого феномена предстояло решить вопрос, что же записывать: всякую ли звучащую речь или только речь в определенных ситуациях, речь всех носителей русского языка или не всех и т. д.? В то же время без записей устной спонтанной речи нельзя было 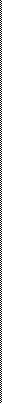

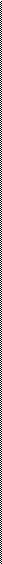
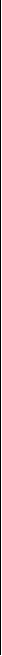
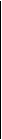 определить, что это за феномен, каковы его границы и каков его статус. Поэтому ученые пошли различными путями, возникло несколько центров (направлений) в изучении живой разговорной речи: 1) московские лингвисты во главе с М.В. Пановым и Е.А. Земской выбрали путь исследования этого объекта на основании признаков, которым удовлетворяет понятие «носитель литературного языка», и записывали на магнитофон неподготовленную устную речь носителей литературного языка в неофициальной, непринужденной обстановке (т. е. их непубличную речь). 2) О.А. Лаптева сосредоточила внимание на параметре «устность» и изучала все виды и жанры устной речи (и публичной, и произносившейся в неофициальной обстановке), называя их устно-разговорной разновидностью литературного языка. 3) Третий подход характеризовался тем, что разговорная речь идентифицировалась с функциональным стилем литературного языка и описывалась главным образом на материале текстов художественной литературы, где воспроизводились основные особенности разговорной речи (в диалогах персонажей прозаических произведений, в репликах героев драматических произведений). Сразу же отметим, что это все же не живая, а лишь стилизованная разговорная речь и различия между ними весьма существенны, так что отождествлять их не следует. (Более подробно этот вопрос рассматривается ниже, в разделе «Стилистика речи»).
определить, что это за феномен, каковы его границы и каков его статус. Поэтому ученые пошли различными путями, возникло несколько центров (направлений) в изучении живой разговорной речи: 1) московские лингвисты во главе с М.В. Пановым и Е.А. Земской выбрали путь исследования этого объекта на основании признаков, которым удовлетворяет понятие «носитель литературного языка», и записывали на магнитофон неподготовленную устную речь носителей литературного языка в неофициальной, непринужденной обстановке (т. е. их непубличную речь). 2) О.А. Лаптева сосредоточила внимание на параметре «устность» и изучала все виды и жанры устной речи (и публичной, и произносившейся в неофициальной обстановке), называя их устно-разговорной разновидностью литературного языка. 3) Третий подход характеризовался тем, что разговорная речь идентифицировалась с функциональным стилем литературного языка и описывалась главным образом на материале текстов художественной литературы, где воспроизводились основные особенности разговорной речи (в диалогах персонажей прозаических произведений, в репликах героев драматических произведений). Сразу же отметим, что это все же не живая, а лишь стилизованная разговорная речь и различия между ними весьма существенны, так что отождествлять их не следует. (Более подробно этот вопрос рассматривается ниже, в разделе «Стилистика речи»).
— Регулярная проверка качества ссылок по более чем 100 показателям и ежедневный пересчет показателей качества проекта.
— Все известные форматы ссылок: арендные ссылки, вечные ссылки, публикации (упоминания, мнения, отзывы, статьи, пресс-релизы).
— SeoHammer покажет, где рост или падение, а также запросы, на которые нужно обратить внимание.
SeoHammer еще предоставляет технологию Буст, она ускоряет продвижение в десятки раз, а первые результаты появляются уже в течение первых 7 дней. Зарегистрироваться и Начать продвижение
Естественно, что в такой ситуации возникает вопрос о соотношении целого ряда понятий, а именно: «русский литературный язык» — «функциональные стили литературного языка» — «разговорно-обиходный стиль» — «разговорная речь» — «разговорный язык».
Дефиниция самого первого понятия («литературный язык»), как это ни парадоксально, вызывает определенные затруднения, хотя для всех очевидно само наличие литературного языка, интуитивно ощущаемое его носителями. Разнобой в мнениях среди лингвистов по поводу определения особенностей литературного языка и самой его сущности объясняется двумя факторами: объективным — чрезвычайной сложностью предмета — и субъективным — различными подходами к объекту. Еще в 1930 году академик В. В. Виноградов, дав обзор концепций русского литературного языка, содержавшихся в трудах СП. Шевырева, Ф.И. Буслаева, Я.К. Грота, Е.Ф. Будде, СП. Обнорского, констатировал наличие «путаницы в понимании и определении литературного языка» (цит. по: Горшков 1983: 14). И даже спустя 40 лет В.В. Виноградов снова вынужден был отметить «многозначность, противоречивость и неопределенность употребления термина " литературный язык»" (Виноградов 1967: 69—82). Позже он дал следующее определение этого понятия: «Литературный язык — общий язык письменности того или иного народа, а иногда нескольких народов — язык официально-деловых документов, школьного обучения, науки, публицистики, художественной литературы, всех проявлений культуры, выражающихся в словесной форме, чаще письменной, но иногда и в устной» (Виноградов 1978: 288). Сложность самого явления, затрудняющая возможность дать его научную дефиницию, сказалась, в частности, в том, что, отправляясь сначала от понимания литературного языка как письменного, В.В. Виноградов вынужден был затем сделать оговорку о том, что иногда он проявляется и в устной форме. При отсутствии единого определения рассматриваемого понятия, большинство лингвистов сходятся во мнении, что литературному языку присущи следующие черты: обработанность, нормативность; наддиалектность, общеобязательность для всех членов языкового коллектива; отсутствие спонтанного речевого произведения и связанная с этим селективность (чем обусловливается его противо поставленность разговорно-бытовой стихии); большая или меньшая полифункциональность, т. е. развитость функционально-стилевой системы, а также стабильность, традиционность.
— Разгрузит мастера, специалиста или компанию;
— Позволит гибко управлять расписанием и загрузкой;
— Разошлет оповещения о новых услугах или акциях;
— Позволит принять оплату на карту/кошелек/счет;
— Позволит записываться на групповые и персональные посещения;
— Поможет получить от клиента отзывы о визите к вам;
— Включает в себя сервис чаевых.
Для новых пользователей первый месяц бесплатно. Зарегистрироваться в сервисе
Из этого следует, что система функциональных стилей присуща именно литературному языку, а значит, в пределах литературного языка невозможно выделять спонтанные речевые произведения; иными словами, «живая» разговорная речь находится за пределами литературного языка с его кодифицированными нормами. Это неподготовленная устная речь носителей языка в непринужденной обстановке. Ученые московской школы (М.В. Панов, Е.А. Земская, Е.Н. Ширяев и др.), изучавшие разговорную речь, считают эту функциональную разновидность современного русского языка разговорным языком, но для того, чтобы не порывать с традицией, употребляют термин разговорная речь (аббревиатура РР) и противопоставляют, таким образом, две системы: кодифицированный литературный язык (КЛЯ) и разговорный язык, ала разговорную речь (РР). Но при этом они считают РР функциональной разновидностью литературного языка, что, на наш взгляд, неправомерно. О противопоставлении этих двух Функциональных разновидностей русского национального языка: литературного языка и разговорного — в свое время писал Л.В. Щерба в статье «Современный русский литературный язык»: «Всякое понятие лучше всего выясняется из противоположений, а всем кажется очевидным, что литературный язык прежде всего противопола 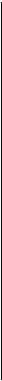

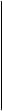 гается диалектам. И в общем это верно; однако я думаю, что есть противоположение более глубокое, которое в сущности и обусловливает те, которые кажутся очевидными. Это противоположение литературного и разговорного языков» (Щерба 1957: 115).
гается диалектам. И в общем это верно; однако я думаю, что есть противоположение более глубокое, которое в сущности и обусловливает те, которые кажутся очевидными. Это противоположение литературного и разговорного языков» (Щерба 1957: 115).
Важным признаком РР является тематическая неограниченность. Так, не только разговоры на повседневно-бытовые темы, но и обсуждение политических, научных, морально-этических, философско-религиозных, профессиональных и др. проблем в неофициальной, непринужденной обстановке будет примером использования «живой» разговорной речи. Следовательно, неподготовленность, устность, тематическая неограниченность, реализация самых различных коммуникативных установок, неофициальный и непосредственный характер общения — важнейшие экстралингвистические признаки разговорной речи.
Из сказанного ясно, что РР не является функциональным стилем литературного языка.
Рассмотрим теперь, как соотносится понятие «разговорно-обиходный стиль» с понятиями «литературный язык» и «разговорная речь». Может возникнуть мысль, что коль скоро разговорная речь как функциональная разновидность современного русского языка уже выделена нами и ее место определено за пределами литературного языка, то и говорить о наличии разговорного стиля не приходится. Именно такой вывод делает А.И. Горшков в своей книге «Русская стилистика»: «Досадное заблуждение думать, что если человек владеет литературным языком, то он и разговаривает на литературном языке. Носители литературного языка разговаривают (подчеркнем, что речь идет именно о разговоре, состоящем «из взаимных реакций двух общающихся между собой индивидов, реакций нормально спонтанных, определяемых ситуацией или высказыванием собеседника») все же не на литературном, а на разговорном языке, иными словами, при непосредственном неофициальном общении всегда имеет место разговорное употребление языка. Итак, «разговорный стиль» в составе литературного языка мы выделять не будем» (Горшков 2001: 269).
Полагаем, что более адекватно реальной картине функционально-стилевой дифференциации современного русского языка иное решение.
Если вспомнить принятое ранее определение функционального стиля литературного языка, то станет ясно, что каждый из функциональных стилей языка выделяется на основе такого экстралингвистического фактора, как форма общественного сознания и соответствующая ей сфера общественной деятельности. Тогда наличие обыденного сознания и сферы повседневно-бытового общения, в котором оно проявляется, служит экстралингвистической основой для выделения разговорно-обиходного (разговорно-бытового) функционального стиля литературного языка. Этому стилю, как мы подчеркнули в его названии, свойственна тематическая ограниченность: он реализуется главным образом в «семейных», «домашних» разговорах на повседневно-бытовые темы между владеющими литературной нормой собеседниками, находящимися в неофициальных отношениях, а также в дружеских письмах, дневниковых записях «для себя», неофициальных записках. Разговорно-обиходный стиль отличается от РР двумя признаками: 1) он может реализоваться и в устной, и в письменной форме, а РР, как было сказано выше, имеет только устную форму; 2) разговорно-бытовой стиль тематически ограничен, а РР тематически не ограничена. Общение носителей литературного языка в быту, как и общение в сфере науки, в сфере пол итико-идеологи ческой или административно-правовой и т. д. общественной деятельности, безусловно, накладывает отпечаток на тот язык, которым пользуются говорящие: отбираются одни формы и исключаются другие, используется определенная лексика и невостребованной оказывается другая, т. е. из наличного запаса средств национального языка производится определенный отбор, который и приводит к образованию в пределах литературного языка подсистем, называемых функциональными стилями литературного языка. И показателем функционально-стилевой дифференциации литературного языка является наличие, как отмечалось выше (с. 72—82) у многих средств, входящих в эти подсистемы, соответствующей функционально-стилевой окраски. Важно напомнить, что эта окраска не создается каждый раз только в речи, при конкретном употреблении, а закрепляется за языковыми единицами, являясь показателем их принадлежности к определенному функциональному стилю. Совершенно очевидно, что многие слова, формы, фразеологизмы, синтаксические конструкции обладают разговорной функционально-стилевой окраской; например: картошка, пойду принесу, с гулькин нос, стаканчик чайку, спозаранку, отпраляйся на все четыре стороны и др. Разумеется, это не значит, что разговорно-обиходный функциональный стиль литературного языка включает лишь такие языковые средства, которые обладают разговорной окраской: как и в случае с другими функциональными стилями языка, в эту подсистему входят и межстилевые средства, т. е. стилистически нейтрально единицы с книжной окраской будут восприниматься в си 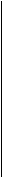
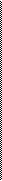
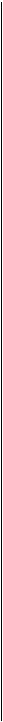

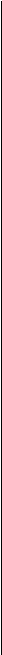


 стеме разговорно-обиходного стиля как чужеродные; ср.: * Ты, я вижу, страшно замерзла. Сейчас я осуществлю повышение температуры твоего тела с помощью стаканчика горячего чайку. Такое высказывание можно произнести только в шутку, т. е. использовать вкрапление книжных элементов в речь лишь со специальной стилистической установкой на шутку, иронию. Именно на такой чужеродности книжных элементов (т. е. общекнижных единиц, элементов официально-делового, научного или газетно-публицистического стилей) строится обычно жанр пародии, когда сочетаются разговорные и книжные единицы, что создает комический эффект; например, в пародийной газетной заметке «Как допускается порча хорошего настроения»: «Осуществив возращение домой со службы, я проделал определенную работу по сниманию плаща, шляпы и ботинок, по переодеванию в пижаму и шлепанцы и усаживанию с газетой в кресло. Жена в этот период времени претворяла в жизнь ряд мероприятий, направленных на чистку картофеля, мойку посуды и уборку квартиры». Точно так же, если кто-то всерьёз говорит махатрукама, косить трава, топитьбаня, мы не скажем, что он использует разговорный стиль литературного языка, мы скажем, что этот человек говорит на диалекте. О двух заключенных за уголовные преступления лицах, обсуждающих друг с другом бытовые темы, также нельзя сказать, что они используют разговорно-бытовой стиль: они говорят на воровском арго. Следовательно, в систему, называемую нами разговорно-обиходным (разговорио-бытовым) функциональным стилем ни книжные элементы, ни языковые средства из диалектов, жаргонов и арго не входят. В этом и проявляется такое свойство функциональных стилей литературного языка, как их (относительная) замкнутость, селективность. Использование языковых элементов с разговорной окраской, т. е. из системы разговорно-обиходного стиля, характерно, с одной стороны, для разговорной речи, а с другой, — для художественной литературы, где они служат средством стилизации разговорной речи, а также для газетно-публицистических текстов как средство создания экспрессивного эффекта. Но такое стилистически значимое использование единиц с разговорной функционально-стилевой окраской в чуждых контекстах (как способ создания определенного стилистического эффекта) возможно именно потому, что наличие этой разговорной окраски у соответствующих языковых единиц ощущается всеми носителями литературного языка и вне контекста, т. е. владеющие литературной нормой представляют себе место этих единиц в системе литературного языка в целом. Таким образом, в систему языковых средств разговорно-обиходного стиля не будут входить не только общекнижные языковые единицы (типа осуществление, воздействие, являться, весьма), но и такие языковые единицы, которые обладают функционально-стилевой окраской однозначно ориентированной на каждый из книжных стилей, т. е. научная терминология (вакуоль, дифференциал, сернокислый, феодальные и т. п.), единицы с окраской официально-делового стиля (по истечении, договор жилищного найма, истец, розыскные мероприятия), с окраской церковно-религиозного (милостивый, богоугодные, миряне, иноки, паства) или газетно-публицистического стиля (боевики, зачистка территорий, ограниченный контингент, горячие точки, эскалация).
стеме разговорно-обиходного стиля как чужеродные; ср.: * Ты, я вижу, страшно замерзла. Сейчас я осуществлю повышение температуры твоего тела с помощью стаканчика горячего чайку. Такое высказывание можно произнести только в шутку, т. е. использовать вкрапление книжных элементов в речь лишь со специальной стилистической установкой на шутку, иронию. Именно на такой чужеродности книжных элементов (т. е. общекнижных единиц, элементов официально-делового, научного или газетно-публицистического стилей) строится обычно жанр пародии, когда сочетаются разговорные и книжные единицы, что создает комический эффект; например, в пародийной газетной заметке «Как допускается порча хорошего настроения»: «Осуществив возращение домой со службы, я проделал определенную работу по сниманию плаща, шляпы и ботинок, по переодеванию в пижаму и шлепанцы и усаживанию с газетой в кресло. Жена в этот период времени претворяла в жизнь ряд мероприятий, направленных на чистку картофеля, мойку посуды и уборку квартиры». Точно так же, если кто-то всерьёз говорит махатрукама, косить трава, топитьбаня, мы не скажем, что он использует разговорный стиль литературного языка, мы скажем, что этот человек говорит на диалекте. О двух заключенных за уголовные преступления лицах, обсуждающих друг с другом бытовые темы, также нельзя сказать, что они используют разговорно-бытовой стиль: они говорят на воровском арго. Следовательно, в систему, называемую нами разговорно-обиходным (разговорио-бытовым) функциональным стилем ни книжные элементы, ни языковые средства из диалектов, жаргонов и арго не входят. В этом и проявляется такое свойство функциональных стилей литературного языка, как их (относительная) замкнутость, селективность. Использование языковых элементов с разговорной окраской, т. е. из системы разговорно-обиходного стиля, характерно, с одной стороны, для разговорной речи, а с другой, — для художественной литературы, где они служат средством стилизации разговорной речи, а также для газетно-публицистических текстов как средство создания экспрессивного эффекта. Но такое стилистически значимое использование единиц с разговорной функционально-стилевой окраской в чуждых контекстах (как способ создания определенного стилистического эффекта) возможно именно потому, что наличие этой разговорной окраски у соответствующих языковых единиц ощущается всеми носителями литературного языка и вне контекста, т. е. владеющие литературной нормой представляют себе место этих единиц в системе литературного языка в целом. Таким образом, в систему языковых средств разговорно-обиходного стиля не будут входить не только общекнижные языковые единицы (типа осуществление, воздействие, являться, весьма), но и такие языковые единицы, которые обладают функционально-стилевой окраской однозначно ориентированной на каждый из книжных стилей, т. е. научная терминология (вакуоль, дифференциал, сернокислый, феодальные и т. п.), единицы с окраской официально-делового стиля (по истечении, договор жилищного найма, истец, розыскные мероприятия), с окраской церковно-религиозного (милостивый, богоугодные, миряне, иноки, паства) или газетно-публицистического стиля (боевики, зачистка территорий, ограниченный контингент, горячие точки, эскалация).
И тогда становится понятно соотношение разговорно-обиходного стиля литературного языка и «живой» разговорной речи: последняя не ограничена не только тематически, но и формально, т. е. со стороны принадлежащих ей языковых средств, так как в спонтанном неофициальном, непринужденном диалоге или полилоге носителей литературного языка совершенно свободно, не создавая впечатления чужеродности, цитатности, употребляются — в зависимости от темы, коммуникативных целей, а также от индивидуальных особенностей говорящих — все средства национального языка: нейтральные, общекнижные, научные, официально-деловые, церковно-религиозные, разговорные, разговорно-просторечные, просторечные; например: (1) Хватит масло-то ложками жрать! (2) Л ну встань с полу, кому говорят! (3) Знаешь, а вот Явлинский, мне кажется, не врет, и он импонирует мне, знаешь,... своей выдержкой и какой-то ну... интеллигентностью, что ли. (4) Тут вот о стабильности рубля толковали, а инфляцию забыли с ума сойти! (5) Его стихам не хватает звучания, они рассудочные какие-то, мыслительные, это поэзия... такая... содержания, а в настоящей поэзии важна э... э... э... звукопись, слова должны быть... ну особенные, и даже не знаю, как сказать, но вот мы же слышим у Пушкина: «Шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой».
Примечание. Живая разговорная речь является некодифицированной, поэтому знаки препинания при ее письменном воспроизведении ставятся не по правилам литературного языка, а с тем, чтобы по возможности отразить интонацию, в частности, паузы.
Что касается диалектизмов, жаргонизмов и арготизмов, то в соответствии с коммуникативными целями, со стилистическими задачами, ставящимися говорящим, эти средства спорадически так же могут включаться в живую разговорную речь носителей литературного языка, однако их чуждость литературному языку, их источник — диалекты, жаргоны и арго — говорящим отчетливо при этом осознается. Например: (1) Ему бы только на халяву — он сразу тут как тут! (2) Смотри что с интеллигенцией у нас сделали— институты развалили, копейки платят стыдно сказать сколько у нас старший научный получает, — просто опустили, как в тюрьме говорят!
Итак, функционально-стилевая дифференциация современного русского национального языка может быть представлена следующим образом.
Национальный язык с точки зрения состава единиц предстает в виде двух основных функциональных разновидностей: литературного языка и языка разговорного, представленного с одной стороны, просторечием, диалектами, жаргонами, арго, и с другой, — «разговорной речью» носителей литературного языка. Сам литературный язык предстает как система функциональных стилей, среди которых книжные стили противопоставляются разговорно-обиходному на основе форм общественного сознания и соответствующих им сфер общественной деятельности, с одной стороны, и обыденного сознания и соответствующей ему сферы частного, повседневно-бытового общения, — с другой; причем все функциональные стили не разделены непроходимыми перегородками, являясь лишь относительно замкнутыми системами: они включают межстилевые, в том числе нейтральные языковые средства, создавая единый русский литературный язык, а не отдельные языки. Национальный язык с точки зрения выполняемых функций также выступает в двух своих ипостасях: как язык практический, выполняя множество функций, но в качестве основной — коммуникативную, и как язык поэтический, выполняя также ряд функций, основной из которых является эстетическая (по Л.Ю. Максимову — эстетически отраженная коммуникативная функция).
Описание разговорно-обиходного функционального стиля русского литературного языка, как и описание книжных функциональных стилей, приведенное выше, предполагает описание языковых средств, представляющих собой относительно замкнутую систему в пределах литературного языка. Описание же РР предполагает выявление особенностей функционирования всех средств национального языка в условиях устной формы неподготовленного непосредственного неофициального общения, поэтому описание РР будет дано в разделе «Стилистика речи».
§2.
|
|
