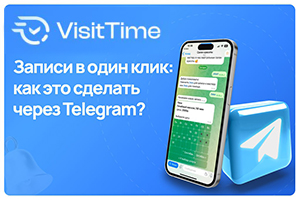Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Т. Г. Огородникова
|
|
директор на фильме " Андрей Рублев"; снималась в фильмах " Андрей Рублев", " Солярис", " Зеркало"
-- Тамара Георгиевна, на каком фильме вы начали работать с Андреем Арсеньевичем?
-- Я была директором картины на " Андрее Рублеве". Позднее, когда он снимал " Солярис", я стала директором объединения, где он работал. Он снимал у нас еще " Зеркало".
-- Но он снял вас в трех фильмах?
-- Да. Тоже начиная с " Рублева".
На " Рублева" я пришла сама. Просто прочитала сценарий -- он был в " Искусстве кино" напечатан. Мне он безумно понравился, и я пришла к Данильянцу -- он был директором объединения, очень маститый. Тогда были директора Анцилович, Биязи, Вакар, Светозаров (на студии Горького) -- профессора своего дела, я считаю; это была профессия. Я спросила: " Скажите, у вас есть директор на " Андрее Рублеве"? Он говорит:
" Вы знаете, не могу найти, картина очень сложная".-- " Умоляю, назначьте меня".
Я не знала тогда Андрея Арсеньевича, не была с ним знакома, так же как с Юсовым: я только видела их.
Данильянц говорит: " Прекрасно, но неужели вы хотите на эту картину, она такая трудная! " -- " Да, очень хочу".-- " Хорошо, я с ним поговорю".
Он поговорил с Юсовым и Андреем, мы познакомились.
-- Но картина действительно была трудная?
-- Вы понимаете, когда мне говорят " трудная", а я начинаю вспоминать, то для меня она была удивительно легкой по ощущению. При
том, что трудности начались с самого первого дня. Картина требовала больших денег, которых у нас не было. Первую смету мы составили на 1 600 000 рублей, потом на 1 400 000, потом сократили еще на 200 000.
-- Куликовская битва выпала по этой причине?
-- Да. Нам сказали, что запустят, если мы откажемся от какого-то эпизода, например от первого. Куликовской битвы. Она как раз стоила -- если грубо -- 200 000. " Если вы согласитесь выбросить ее из сценария, то мы вас запустим". Мы подумали-подумали, поговорили: а что нам оставалось делать? -- и Андрей Арсеньевич согласился. Но согласиться этого мало, нам сказали: " Пишите расписку". И пришлось дать письменную расписку, что мы уложимся в миллион рублей, выбросив Куликовскую битву. И после этого нас запустили.
При защите постановочного проекта (он был очень сложный, у нас был не один художник, а три: основной -- Черняев, еще Новодережкин и Воронков, которые строили объект " Колокольная яма") нам сказали, что запустят, если строительство всех натурных декораций мы возьмем на себя. Мы взяли. И начали съемки с Суздаля и Владимира: это была первая экспедиция. Я помню, что первый съемочный день был начало " Колокольной ямы" (помните, когда приезжают гонцы и ищут мастера?). Эти первые кадры мы снимали 14 и 15 апреля 1965 года между Владимиром и Суздалем: такая маленькая деревенька и там банька; полотнища белого холста всюду лежали. Это был наш первый съемочный день. Потом началось строительство колокольной ямы, которое было очень сложно:
это же целое сооружение! Надо было сделать ее, цемент достать; потом этот бутафорский колокол: вдруг мне художники говорят, что он весит пять тонн! Он был сделан из железобетона. Чтобы можно было перевезти его тремя машинами, пришлось распилить его на три части. Перипетий было множество, тем более рабочих было очень мало: всего два постановщика-профессионала со студии, которые могли руководить строительством, остальные -- случайные какие-то бригады.
И вот, пока строилась колокольная яма, мы снимали разные эпизоды на натуре. Весь эпизод скомороха: он снимался одним куском, 250 метров; декорацию мы построили. Потом была история с полем льна (если вы помните такой эпизод: трое живописцев идут через поле со скирдами). Когда мы ехали на съемки, то выбрали это поле. Потом прошло время, мы его не снимали, не снимали, не снимали, наконец решили завтра снимать. Я думаю, дай-ка поеду проверю. Приезжаю -- все убрано, поля нашего нет. Ну, думаю, далеко они его не могли убрать. Мне все это поле заново поставили, и мы снимали их троих, бегущих к дереву.
В то время, когда снимали колокольную яму, готовили Владимир.
Очень долго Андрей Арсеньевич с Юсовым искали место для " поисков глины". Мы объездили все окрестности Суздаля и Владимира и нигде никакой глины найти не могли. (Это когда Бориска кричит, что глину нашел.) И случайно, уже отсняв колокольную яму, мы увидели:
ручеек бежит, и огромная такая глыба с глиной; уже весна началась, и она обнажилась. У этого места мы эту сцену и снимали.
-- А битва во Владимире?
-- Сложность была в том, что в картине, как вы понимаете, много лошадей, а у нас был всего один конный взвод -- 26 лошадей. На " Мосфильме" есть свое конное подразделение, но нам выделили из него один взвод. Остальных мы брали: часть -- на ипподроме, часть -- это было какое-то спортивное общество " Урожай", и они к нам приезжали из другого города, так что во Владимире у нас было примерно 150 лошадей. А вот нашествие мы снимали во Пскове, и там нужно было 300--350 лошадей. Ипподромовских мы достали 90 и бросили клич всем колхозам
окрестным, они прислали своих лошадей -- конечно, не верховых, а ломовых. Но мы их всех поместили на второй план, поэтому получилось ощущение большого количества лошадей в бою.
-- Что снималось во Пскове?
-- Нашествие татар, битва; натурный эпизод в церкви перед пыткой Патрикея. Потом вблизи Пскова, под Изборском, мы построили вход в храм, который горел; там же была построена стена: огромный макет, а дальше -- все настоящее. Печорский монастырь. Вот эпизод, где гуси летят, -- это уже у стены Печорского монастыря.
Кроме Владимира мы снимали еще в селе Боголюбове, недалеко от Владимира, -- там было начало " Голгофы", а продолжение -- зимой -- снимали у колокольной ямы. Сельцо для эпизода ночи Ивана Купалы мы тоже нашли под Владимиром: маленькая такая деревенька, но очень живописная, через реку, помните, которую Марфа переплывает? Вот, кстати, Марфа, это же не одна актриса, там их три было. Одна -- которая голая, другая -- крупный план лица, а третья реку переплывает (это была жена Солоницына). И никто этого никогда не заметил.
-- Тамара Георгиевна, простите, я перебью: помните, эта сенсационная история, которую какая-то газета напечатала, о том, что Андрей Арсеньевич якобы сжег на съемке живую корову, -- она тогда много крови ему стоила...
-- Помню прекрасно, но дело в том, что она совершенно надуманная; виноваты в ее появлении во многом, я считаю, кинематографисты. В то время как мы снимали один из эпизодов татарского нашествия у Владимирского собора, приехала туда группа с ЦСДФ и попросила у меня разрешения снять наши съемки. Я сдуру разрешила, они сняли как раз этот эпизод с коровой, и с этого все пошло. На самом деле все было элементарно. Нужно было, чтобы по двору металась горящая корова; ее накрыли асбестом, обыкновенным асбестом, а сверху подожгли. Она, естественно, испугалась и стала бегать, что и нужно было. Ну, разумеется, корова не горела -- я присутствовала на съемке, и все это было при мне. Вы же смотрите картины, там не то что корова -- люди горят, но вам не приходит в голову, что их по-настоящему сжигают; это нормальное кино.
Но когда мы сдавали картину, и нам не подписывали акт, -- долго-долго! -- и мы приехали перед самым Новым годом, 25 или 26 декабря 1966 года, в пятницу, в Комитет, к министру тогдашнему Романову, то он, вместо того чтобы подписать, сказал: " Ох, вы знаете, я что-то устал, давайте на понедельник отложим". А в субботу вышла в " Вечерней Москве" статья. И запылала корова. И он нам акт не захотел подписывать:
" Видите, какая у вас жестокость". И потребовал от Андрея Арсеньевича кое-каких поправок, 31 декабря акт подписал.
Что касается Владимирского собора (тоже говорили, что мы его подожгли), то инцидент был. Был! Но, конечно, никто его нарочно не поджигал. Перед тем как снимать, я поехала в главную пожарную организацию -- и, естественно, на съемках все присутствовали, включая начальника, генерала, дежурили пожарные машины. Но пиротехники, которые сидели наверху, жгли черный дым; а у него очень высокая температура, до 1000 градусов. А там между крышей и опалубкой очень маленькое расстояние, и деревянная опалубка загорелась. Естественно, пожарники испугались, пустили струю и все облили. Так что у меня действительно были с этим неприятности. Но это был, конечно, случай.
Должна вам сказать, что Андрей Арсеньевич очень бережно относился ко всем материалам, которые нам давали, с огромной нежностью и любовью буквально к каждой вещи, так что о его кощунстве и говорить нечего.
Он вообще предметам придавал значение. Сейчас, когда прошло время и я посмотрела многие картины Андрея Арсеньевича, я заметила:
вот, например, у него есть дерево, которое проходит через всю его жизнь. Наверное, для него оно что-то значило. Помните дерево в " Ивановом детстве"? И потом в " Жертвоприношении"? А теперь я вспоминаю: на " Рублеве" он мне сказал, что перед колокольной ямой должно быть дерево. И вот мы с Новодережкиным и Воронковым поехали его искать:
спилили огромное дерево, которое по дороге, когда мы его везли (километров 18 до Суздаля), занимало всю дорогу своей кроной. Они поставили его перед колокольной ямой, немножечко обрубили, прочистили, и вдруг Андрей Арсеньевич говорит: " Что это за дерево? Какое маленькое". Я говорю: " Андрей, побойтесь бога, мы его еле доволокли, это же огромное дерево было".-- " Да? " И больше он ничего не сказал. И в итоге он сделал его совершенно обгорелым, только сучья какие-то торчали. Я не говорю о " Жертвоприношении". Но в картине, снятой о Тарковском в ФРГ, есть рисунок, который Андрей Арсеньевич послал автору, и такое дерево, которое он нарисовал, -- то самое. Именно то дерево -- вы понимаете? Мне даже хочется еще раз увидеть, чтобы проверить.
У него вообще были такие свои -- странные, что ли -- восприятия. Например, в " Рублеве", когда Бориска находит корень в земле, -- он тянет его как шнур, -- корень был самый настоящий. И вдруг сверху на него слетает ^маленькое перышко: это Андрей Арсеньевич бросил. Или когда ^ он гусей бросал -- они полетели даже немного, хотя вообще-то они не летают. Или лошади. Он всегда говорил, что существа более красивого, более верного человеку, чем лошадь, он не знает. Она казалась ему олицетворением красоты, грации, верности...
Да, так вот после " Рублева" Андрей Арсеньевич мне книжечку подарил и написал, сейчас покажу: " Дорогой Тамаре Георгиевне в память о страданиях и в надежде на то, что она сумеет остаться такой, какой была, делая этот фильм. Март 1972". Страдания! Значит и для него они были. А я даже никаких особенных трудностей вспомнить не могу, вспоминается что-то совсем другое. Мы все вспоминаем о " трудном" " Рублеве" легко. Потому что Андрей Арсеньевич настолько нас всех объединял и заставлял делать то, что ему нужно, что и потом мы все остались друзьями, как-то само собой. Хотя фильм долго не выходил и у него было несколько премьер -- в старом Доме кино на Воровского и в новом Доме кино, -- но Андрей Арсеньевич не считал это за премьеры. Вот только когда был показ фильма в кинотеатре " Мир" и он вышел на сцену, а вечером мы все собрались, он сказал: " Вот теперь я верю, что картина вышла".
-- Какой Тарковский был режиссер, это все знают, а вот какой он был производственник?
-- Вы понимаете, первое время, когда мы только начали работать, он мог что-то сказать недостаточно точно -- были моменты. Но это скоро прошло. Когда они с Юсовым выходили на съемку, у них все было подготовлено, а ведь это какая махина была! Массовки какие! И мы ни разу не отменили съемку. Нет, один раз все-таки было. Андроников монастырь, если вы помните; там дрова сложены в поленницы. Меня не было; я приезжаю, спрашиваю: почему отменили съемку? Оказывается, дрова привезли не березу, а осину, а им нужна была береза. Ну, я привезла березу, сделали поленницы.
Производственник -- чем это определяется? Вот, к примеру, эти дрова -- какие-то требования были для Андрея Арсеньевича непререкаемы. Когда в павильоне строили собор, для него очень важно было достичь абсолютно белой стены. Это было трудно, мы ее несколько раз пере-
крашивали. Никто не понимал, он нас замучил, и только в картине, когда Рублев бросает на нее черную краску, все поняли.
Но, с другой стороны, он находил какие-то компромиссные решения, понимал, что на самом деле невозможно, и мирился с этим. Это, я считаю, производственник. Может быть, он сделал бы еще более гениальную картину, если бы ему дали условия.
Отношение Андрея Арсеньевича к тому, что люди делали на фильме, было какое-то... благородное. Он с нами всеми считался. С Юсовым, конечно. Он всегда говорил, что Юсов как оператор ему ближе всех. Может быть, по человеческим свойствам они были и разные, но по творческим были очень близки. Я всегда думала: вот современный пейзаж -- как они сделают, чтобы он был из того времени?.. И в картине нет ни одного кадра, чтобы зритель усомнился. Они как-то понимали друг друга. Однажды мы назначили съемку, а погода менялась, пришлось искать другое место, и Юсов мне говорит: " Вот там должна стоять лошадь с телегой".-- " А когда съемка? " -- " В два часа". Это же ужас! Я пошла искать, вижу -- конюшня, там и достала маленькую лошадь, а сама думаю: " Ну кто там увидит эту лошадь вдали? " А в картине -- посмотрела -- она нужна, она играет, эта лошадь!..
-- Вадим Иванович это рассказывал...
-- Но Андрей Арсеньевич считался и с художником, и со мной как с директором. И если что-то делал не так, вину на других не перекладывал. Вот, например, я помню: перед тем как ехать в экспедицию, я все время просила его посмотреть попоны для лошадей, а он не шел и не шел -- времени не было. Приехали мы в экспедицию, и вдруг Андрей Арсеньевич меня вызывает: во дворе нашей гостиницы разложены по кругу попоны, он ходит кругом, кусает ногти. " Что это такое? " Я говорю:
" Это шесть тысяч".-- " Что значит -- шесть тысяч? " -- " Это стоит шесть тысяч. Я просила вас посмотреть при изготовлении, вы не пришли".
Так и снимали эти попоны. Он понимал: раз не сделал, то и поплатился. И он верил нам. Если я говорила: " Это невозможно", -- он понимал. Вот еще пример...
-- Простите, я перебью. Много у вас было натурального реквизита?
-- Порядочно, прялки там всякие и другое. Но как сказать: натурального, но не музейного. В фильме реквизита вообще много. К костюмам Андрей Арсеньевич относился так: они должны быть очень обжиты...
-- Простите, я перебила...
-- Да, так вот, у нас был такой большой эпизод: брошенная деревня. Они поехали на выбор натуры в Кижи и нашли там деревню Воробьи. По ходу работ я говорю: " Андрей, я поеду и посмотрю, могу ли я там организовать съемку".
Поехала. Добиралась три дня -- Онежское озеро как море, -- и когда добралась, оказалось: там ни группу разместить негде, ни технику. Когда я Андрею Арсеньевичу рассказала, он отказался, не от натуры, правда, а от всего эпизода. Как я теперь понимаю, не потому, что это сложно было организовать, а потому, что эпизод был тягучий, тяжелый, не влезал в картину.
Мне кажется, он и Куликовскую битву потом не хотел снимать -- такое у меня было чувство. Вообще-то у нас были костюмы для Куликова поля -- я и художник по костюмам Л. Нови все же думали, а вдруг он снимет?..-- и возили их. И для Девичьего поля, где девушкам рубят косы. Сначала Андрей Арсеньевич очень хотел это снять, и вот я таскала с собой -- представляете? -- восемь фур одних костюмов! Мы приехали со всем этим скарбом во Псков, стали снимать нашествие, а тут выпал снег, и мы вынуждены были прервать экспедицию, вернуться в Москву, строить павильоны.
У нас была консервация -- месяц или два, не помню, -- и вторичная экспедиция. А вторичная экспедиция всегда тянет за собой деньги. Мы сделали перерасход: 1 300 000. Вообще-то для такой картины наш перерасход составлял копейки, но мы получили выговор по Комитету: Андрей Арсеньевич, Юсов и я. К тому же большого перерасхода съемочных дней у нас не было. Так что, я думаю, Андрей Арсеньевич был хороший производственник.
И еще одно: многие режиссеры пользуются услугами директоров картин для каких-то личных целей. За все время ни с одной личной просьбой Андрей Арсеньевич ко мне не обратился. Никогда! И хотя я сделала с ним всего одну картину, мне кажется, что я всю жизнь работала с Андреем Арсеньевичем.
-- Но вы собирались работать с ним дальше?
-- Конечно. Когда мы снимали " Рублева", приехали во Псков, он мне сказал: " Тамара Георгиевна, я вас прошу, читайте Лема. Следующую картину мы будем делать " Солярис".
-- А разве " Зеркало" не раньше было задумано?
-- Я вспоминаю в таком порядке. Когда мы снимали, то Горенштейн уже работал над " Солярисом". А когда мы кончили, то Андрей Арсеньевич принес заявку на " Белый-белый день". Но это он делал с Мишариным;
трудно сказать, что за чем шло. Заявка на " Белый-белый день" была очень большая, чуть не 80 страниц. Там были разные вопросы к матери:
о Китае, о любви, обо всем. Он хотел снимать свою мать скрытой камерой. И когда заявка обсуждалась, то были по этому поводу сомнения:
у Наумова (он тогда руководил объединением), у Хуциева. Им не нравился прием скрытой камеры по отношению к матери в этическом смысле. Потом сам Андрей Арсеньевич от этого отказался.
Но я уже исполняла обязанности директора объединения: Данильянц умер неожиданно, так что дальше у Андрея Арсеньевича были другие директора.
-- Тамара Георгиевна, а откуда пришла идея снять вас в картине?
-- Не знаю. Когда мы должны были снимать Голгофу, он сказал:
" Я хочу вас снять". Я сказала: " Нет, я не буду сниматься".-- " Вы будете сниматься".-- " Нет. К тому же я занята другими делами". На самом деле он уговаривал меня с подготовительного периода сняться в этом эпизоде. Тогда он сказал: " Хорошо", и мы вызвали актрису на съемки, загримировали, одели. Андрей Арсеньевич подошел ко мне и сказал одну фразу:
" И вам не стыдно?.." Только одну фразу -- и я согласилась. Там еще должны были Юсова снимать в роли Пилата, но от этой сцены Андрей Арсеньевич отказался. Актера на Христа нашла я: увидела по телевизору. Он был где-то в Омске, не то Новосибирске. Кстати, я его нашла под свою внешность: Андрей Арсеньевич говорил мне, что, по его мнению, русский человек -- прежний -- должен был иметь такую внешность, как у меня. Потом он предложил мне сниматься в " Солярисе".
-- Кто вы в " Солярисе", как он считал?
-- Ну, он говорил, может быть, тетка или домоправительница -- в общем, женщина, цементирующая семью; та, кто остается на Земле, -- так примерно.
-- А как он работал с вами, ведь вы же не профессиональная актриса?
-- Как со всеми: просто разговаривал, беседовал. Я говорю: " Андрей Арсеньевич, что я должна делать? " -- " Вы все сделаете, что нужно". Понимаете, он никогда не говорил: " Сделайте то-то" и никогда не повышал голос, не кричал. Конечно, камера требует какого-то прохода или какого-то другого действия -- это устанавливалось, но вообще-то он беседовал с актерами, заражал, что ли, своим внутренним чувством, и все
делали то, что ему было надо: ну, Дворжецкий, Солоницын. Он его очень любил... (Я пришла на " Рублева", когда уже был Солоницын, но, говорят, сначала предполагался другой актер.) Но вот когда начинала работать камера, то вы ощущали, что действуете уже не как вы, а так, как он вас просит; между прочим, не только я -- актеры об этом же говорят. Я чувствовала, что иначе просто не могу.
Когда мы потом озвучивали " Зеркало", я тоже озвучивала и как-то сразу " попала", а вот отца на " Зеркале" он заставлял раз десять переписывать одни и те же стихи: что-то ему не подходило, какая-то интонация. Вдруг Андрей Арсеньевич сказал: " Это то, что мне надо" -- и ушел куда-то. А мы с Арсением Александровичем стали слушать. И когда прослушали последнюю запись, он сказал: " Да, если бы мне кто-нибудь сказал, что у меня гениальный сын, я бы не поверил; а вот я сам чувствую: он добился того, что это не похоже ни на один из прежних дублей".
-- Раз уж мы до " Зеркала" добрались: чего Андрей Арсеньевич добивался от вас в этой роли?
-- Он видел в этой женщине даже не интеллигенцию русскую, а какую-то преемственность, что-то давнее, из глубины откуда-то идущее (Мише Ромадину тоже так казалось). Андрей Арсеньевич видел во мне какой-то тип -- красоты не красоты, ну, внешности народной прежних времен -- и который перебрасывается в наше время. Это могло быть дворянство. На " Зеркале" он мне сказал, чтобы я изучала " Идиота": там есть генеральша с двумя дочерьми...
-- Епанчина...
-- Он сказал, что хочет меня снимать в этой роли. А Маргарита Терехова -- ее он представлял как Настасью Филипповну.
Но этот эпизод в " Зеркале", с чтением письма Пушкина, где он меня снял, -- он ведь вначале был гораздо больше, там Игнат много читал из этого письма. Но религиозную часть Андрею Арсеньевичу предложили выбросить, и он выбросил. Согласился.
Вообще-то сокращение, если Андрей Арсеньевич на него соглашался, не нарушало его фильмов. Он что-то и сам сокращал -- это естественно -- и делал только то, что мог. Когда по поводу " Рублева" кто-то вмешивался, говорил ему: " Не делай этого, ты идешь у них на поводу", то не понимал, что Андрей Арсеньевич делал не как они хотели, а только как он хотел. В это сложное время он, может быть, и легче бы справился с ситуацией, если бы не бесконечные советы. Для меня он был творческий человек, выше обычного понимания. Обыкновенный, может быть, но творческий необыкновенно.
И вот вопрос -- мог бы он сделать намного больше фильмов в других обстоятельствах? Я думаю, нет. Он настолько влезал в материал, должен был его пережить, ему так трудно было перекидываться на другое. Задел мог у него быть и был, но все должно было отстояться, он должен был все через себя пропустить, он и на Западе много не снимал. Он мог делать только то, что ему близко. На мой взгляд, (он не был многокартинным режиссером.
-- А каким он был человеком в работе?
-- Интеллигентным прежде всего. И для меня еще удивительно мужественным. Знаю, что он переживает сомнения или боль. Но он ничего не показывал, был очень терпелив.
Вот у нас был такой случай. Мы ехали на съемки во Псков, сразу после Октябрьских праздников. И как раз 5 ноября позвонил в группу директор объединения и сказал, что погиб Евгений Урбанский. Он знал, что у нас сложные съемки -- нашествие, сами понимаете, -- и просил быть очень осторожными. На праздничные дни мы уезжали в Москву, а 9-го
был назначен съемочный день, и мы возвращались в машине: я, звукооператор И. Зеленцова, второй режиссер И. Попов и Андрей Арсеньевич. Проезжаем мимо конюшен, где стояли лошади. Андрей Арсеньевич выходит из машины. Ипподромовских лошадей надо было выгуливать каждый день, а тут несколько дней праздников они стояли невыгулянные. И вдруг я вижу: озеро, камыши (туда татары должны были падать) и едет Андрей Арсеньевич верхом; лошадь красивая, черная. Не успела я оглянуться, как слышу -- топот, лошадь мчится. Андрея Арсеньевича она сбросила, но нога застряла в стремени, и его тащит головой по валунам. И когда она взлетела на пригорок, нога из стремени выскочила и мы все бросились к Андрею, а он: " Ничего, не волнуйтесь: все в порядке". Я говорю:
" Андрей Арсеньевич, умоляю, в машину и в медпункт". Но он встал и пошел на съемочную площадку -- представляете?.. Но через пять минут вернулся бледный, и мы повезли его. И когда в медпункте сняли сапог, оказалось, что икра у него пробита копытом. Дней десять он лежал -- больной, избитый, измученный, но не стонал: даже работал, читал.
-- В одном из вариантов " Зеркала" был эпизод на ипподроме, воспоминание, как лошадь понесла, -- наверное, этот случай?
-- Конечно. Но он сказал: " Я все равно на эту лошадь сяду". И мучил меня этим, но он действительно на нее сел.
И вот этот случай меня поразил: чтобы в человеке, таком маленьком, тщедушном даже, была такая сила и такое терпение!
Конечно, Андрей Арсеньевич не был ровным человеком, у каждого человека есть свои слабости, и у него тоже были, но он был настоящим человеком, уважительным, и не только к тем, с кем работал. Не говоря, как он к сыновьям относился, но возьмите Анну Семеновну, мать Ларисы Павловны. Она очень простой, хороший человек, необыкновенной доброты, и Андрей Арсеньевич к ней удивительно относился, считался очень. Это тоже не всегда бывает, как-никак теща.
-- Тамара Георгиевна, как вы объясните, что Андрей Арсеньевич считал вас одним из своих талисманов?
-- Не могу объяснить. Но он жалел, что меня нет в " Сталкере". Просто он считал, что если я буду у него сниматься, то все будет удачно. А почему -- не знаю.
" Солярис "
" Андрей Рублев" еще не вышел на экран, когда Андрей Тарковский в октябре 1968 года принес на студию заявку на экранизацию научно-фантастического романа известного польского писателя Станислава Лема " Солярис". Если действие " Андрея Рублева" происходило в XV веке и группа была озабочена подлинностью крестьянских рубах и лаптей, старинных кольчуг и рогатых татарских шлемов, то на сей раз действие должно было перенестись в будущее, в условия космической станции в виду таинственной планеты Солярис.
Тем, кто знал и любил Тарковского, это показалось странным: фантастика традиционно причисляется к тем " массовым" жанрам, от которых кинематограф Тарковского был изначально и принципиально далек.
Разумеется, среди фантастов Лем никак не принадлежит к " фабрикаторам романов" и представляет серьезное, философское крыло этой любимой читателем литературы. Но это не мешает действию романа быть увлекательным и тяготеть к еще одному " тривиальному жанру": роману тайн и ужасов.
На космическую станцию, сотрудники которой давно и тщетно пытаются сладить с загадкой планеты Солярис, покрытой Океаном, при-
бывает новый обитатель, психолог Крис Кельвин, чтобы разобраться в странных сообщениях, поступающих со станции, и " закрыть" ее вместе со всей бесплодной " соляристикой". Поначалу ему кажется, что немногие уцелевшие на станции ученые сошли с ума. Потом он и сам становится жертвой жуткого наваждения: ему является его бывшая возлюбленная Хари, некогда на земле покончившая с собой. Он пытается уничтожить " пришельца", но Хари возвращается снова и снова. Постепенно становится очевидно, что " пришельцы", посещающие станцию, -- нейтринные подобия, нечто вроде моделей, " вычитанных" мыслящим Океаном из человеческого подсознания. Они воплощают постыдные соблазны, вожделения, подавленное чувство вины -- все, что мучает людей. --
Лем отказывается от традиционной схемы " борьбы миров": проблема " Соляриса" -- это проблема контакта с гигантским познающим разумом, которым оказывается Океан. " Среди звезд нас ждет " Неизвестное" -- так сформулировал автор идею романа, написанного на пороге космической эры.
Разумеется, даже самый подробный роман дает кинематографу самые разные возможности. Нетрудно себе представить блестящую экранную конструкцию, исполненную холодного функционального пафоса в духе " Одиссеи 2001 года" Стэнли Кубрика, или киноверсию, полную смутного, сгущающегося ужаса в стиле Альфреда Хичкока.
Когда Андрей Тарковский, спустя десять лет по выходе романа в свет, захотел его экранизировать, он без обиняков написал в заявке:
" Зритель от нас ждет хорошего фильма научно-фантастического жанра. Нет необходимости доказывать, что он заинтересован в появлении такого рода фильмов на наших экранах. Сюжет " Соляриса" острый, напряженный, полный неожиданных перипетий и захватывающих коллизий... Мы уверены прежде всего в том, что фильм будет иметь финансовый успех". Едва ли это было просто лицемерием. Легко предположить, что после мытарств с " Рублевым", главной полувысказанной препоной которому был на самом деле раздражающий своею " трудностью" киноязык, режиссер, далекий от намеренного пренебрежения к зрителю, захотел пойти ему навстречу как можно дальше. Он слишком кровно знал, что фильм без зрителя -- как бы хорош он ни был на пленке -- еще не воплотился, попросту не существует.
Знал ли Тарковский в то время, что, обращаясь к массовому, популярному жанру, к одному из лучших его образцов, он отыщет там для себя не остроту сюжетных поворотов, не неожиданность перипетий, а нечто другое: ту желанную Never-neverland, где пустяки личных размолвок, мелочь застольных споров, случайность обиходных предметов--все приобретет бытийственный и важный смысл?
Так или иначе, но Лему был выплачен гонорар за право экранизации, и снова, как во времена " Иванова детства", начались споры между автором романа и автором будущего фильма.
Тарковский с самого начала, как и в " Ивановом детстве", внес в экранизацию радикальное изменение: в романе все происходило на космической станции; в сценарии история начиналась еще на Земле.
В самом первом варианте сюжет претерпел довольно существенную деформацию. Появился новый и важный персонаж -- Мария, жена Криса. Встреча с Хари на станции привела Криса к самопознанию и самоочищению: постепенно он делал ее человеком, повторяя земной цикл. В конце он возвращался на Землю к Марии прощенным и искупленным.
Возможно, Тарковский и сам отказался бы от этого мотива: избыточность сюжета оставляла слишком мало пространства для сути. Но автор вмешался прежде, чем он успел об этом подумать.
Он писал в письме к режиссеру, что сценарий " подменил трагический конфликт прогресса неким видом биологического, циклического начала... и свел вопрос познавательных и этических противоречий к мелодрамату семейных ссор".
Режиссер не стал упираться. Может быть, он и сам уже тяготился сюжетными излишками. А может быть, истосковался по делу: " Скоро студия начнет снимать " Солярис". Вы себе не представляете, пан Станислав, как я рад этому обстоятельству. Наконец-то я буду работать", -- писал он Лему. Поистине вопль души!
Итак, в основном и главном сюжет был возвращен к роману, линия Марии была ликвидирована, но пролог " на Земле" Тарковский отдать не пожелал. Так же, как в " Ивановом детстве", заглянуть " по ту сторону" сюжета было для него не капризом, а настоятельной потребностью. К этой особенности Тарковского мы тоже еще вернемся.
И хотя любого на его месте занимал бы, наверное, больше всего антураж космической станции и мыслящий Океан (химическая лаборатория получила задание изыскать ингредиенты его изобразительного
решения), не меньше сил режиссер потратил на поиски простейшей " натуры".
Снимая " Солярис", Андрей Тарковский впервые встретился с композитором Эдуардом Артемьевым. Самопожертвованно, можно сказать, оставив в стороне обычную киномузыку, он взял в свои руки всю) шумовую партитуру картины, положив ее на " музыку жизни" вместо обычной музыки к фильму.
Это создает ту особую, пульсирующую звукозрительную среду обитания, где необычное, фантастическое не столь наглядно, сколь ощутимо. Не столько созданный в лаборатории Океан, сколько именно звук обозначает его постоянное присутствие на станции.
Место для отчего дома Криса Кельвина было найдено в 63 километрах от Москвы, в районе Звенигорода, вблизи Саввино-Сторожевского монастыря. С таким же тщанием присмотрел режиссер уголок на реке Рузе для первых кадров фильма.
...Подводные длинные травы. Осенние листья на медленной глади воды, бегучий след оранжевой раковины, стремительно ушедшей на дно. Ноги человека среди огромных сырых лопухов. Далекий голос кукушки. Расседланный конь, с цокотом промчавшийся мимо. Дождь, шумно обрушившийся на открытую террасу дачи...
Если XV век " Рублева" начинался " преждевременным" прологом " на небе", то будущее " Соляриса" начинается " запоздалым" прологом " на земле" (иерархия пространства меняется, но вертикаль остается).
Когда фильм вышел, адепты фантастики обрушились на этот " земной довесок". Тарковского упрекали в том, что он не понял романа и не смог отрешиться от привычного " антропоцентризма". Хотел ли он этого отрешения? И может ли искусство вообще отрешиться от врожденного ему " антропоцентризма"? К кому тогда будет оно обращено?
Для " трудного" режиссера Тарковского, которого упрекали -- и еще будут упрекать -- в пренебрежении к зрителю, подобной дилеммы, как мы видели, не было. И не в том дело, разумеется, что он перенес на Землю сюжетную завязку романа: предоставил Крису Кельвину возможность заранее встретиться с живым свидетелем тайн Соляриса пилотом Бертоном. Он вернул ему нечто большее -- физическую полноту земного бытия: шум дождя, утренний голос птицы, текучую темную глубь воды, сырую влажность сада, раскидистую крону дуба, живой огонь костра, сутулость отцовской спины и желтоватую седину на его висках, отчий дом, полный воспоминаний, семейные фотографии. Все то, что не замечается, когда оно есть, и становится мучительно необходимым и важным, когда его нет.
В свое время мне пришлось принять участие в дискуссии о " Солярисе", и я позволю себе процитировать тогдашнюю статью из " Литературной газеты": " Экология -- слово, которое мы и не слыхивали прежде, становится не просто модным, но выражает какую-то насущную потребность человечества. Вода, воздух, трава и листья, о которых мы прежде думать не думали, как не думает прохожий о подорожнике где-нибудь на тропинке, обнаружили вдруг опасную хрупкость, незащищенность, и вся наша Земля, впервые увиденная снаружи, из космоса, уменьшилась от этого, как уменьшается отчий дом для выросшего человека, и получила право на ту стесняющую сердце любовь, которую Тарковский назвал " спасительной горечью ностальгии"...
Можно сказать, что в земных сценах ничего не происходит. В них происходит жизнь...
Так " до сюжета" начиналось военное " Иваново детство" -- с безотчетности сна, с просвеченной летним солнцем идиллии. Так " после сюжета" кончался " Андрей Рублев" -- тихим светом " Троицы".
Эти несюжетные " лирические отступления" кажутся такими длительными еще и оттого, что судьба человеческая между ними не знает длительности покоя.
Заметим себе: прежде говорили -- " переживание", теперь констатируют -- " травма", раньше писали -- " угрызения совести", сейчас определяют -- " стресс". Не то чтобы слова укоротились или люди стали другими. Изменилось что-то в отношениях с окружающей средой. Человек тоже ведь часть " экологической проблемы".
В фильмах Тарковского почти нет места для " переживаний". Его герои стремятся через " травмы" и " стрессы" не к житейскому покою, а к идеальной гармонии. Так прочерчивалась судьба двенадцатилетнего разведчика Ивана на войне. Так Андрей Рублев прорывался к гармонии " Троицы".
Быть может, я делаю ошибку, предположив, что не фантастические пейзажи Соляриса, даже не тайны подсознания, а почти мифологическая ситуация смертей и воскрешений Хари первоначально привлекла Тарковского в романе Лема. Но я не ошибусь, сказав, что эта ситуация уже заранее существовала в его поэтическом воображении. Маленькая Хари вновь и вновь побеждает ужас и смерть " усильем воскресенья" (Пастернак).
Пусть даже -- на уровне документов -- мое предположение не оправдалось (хотя, разумеется, дело вовсе не исчерпывалось для Тарковского ни практическими выгодами научной фантастики, ни даже ее философскими возможностями). Как видно из той же заявки, его особенно инте-
ресовал " идеал нравственной чистоты, которого должны будут придерживаться наши потомки, чтобы достичь победы на пути совершенствования разума, чести и нравственности"...
Вывод таков: " Чтобы творить будущее, нужны чистая совесть и благородство стремлений".
Разумеется, и в романе Станислава Лема кроме интеллектуальной проблемы встречи с Неизвестным было свое " человеческое, слишком человеческое" содержание, очень типичное для начала шестидесятых, когда был написан роман. Иначе быть не может: подлинная литература, даже научно-фантастическая, создается не в реторте, а в обществе. В самом общем виде эту глубокую человеческую ноту романа можно суммировать модным тогда словечком " некоммуникабельность". Нельзя найти контакт с Океаном. Но люди на корабле отделены непониманием не только от планеты Солярис -- они фатально разобщены своими постыдными помыслами и тайными грехами. И любимая женщина, умершая на Земле и возвращенная Крису Кельвину странной игрой природы, оказывается буквально сделана из другой материи -- из нейтрино. Материализация метафоры, которая во множестве сюжетов начала шестидесятых существовала как коллизия психологическая.
Тарковского не волновала она ни прежде, ни теперь. И если для автора героем был Крис Кельвин, от лица которого написана книга, то для автора фильма -- без всяких специальных акцентов, впрочем -- истинной.героиней оказалась Хари. Это она старается понять Криса, заполнить tabula rasa своего " земного опыта", взглянуть снаружи, из космоса,
что же такое человек. Хари материализуется -- сначала лишь как внешняя оболочка -- на заброшенной, но зато обжитой станции, очеловеченной настолько, насколько это удалось ее обитателям. И шорох бумажных полосок, напоминающий космонавтам о шелесте листьев, подобно тому как стенограмма напоминает живую речь, -- формула этой обжитости.
Жизнь человеческого духа всегда протекает у Тарковского в берегах природы и искусства, и космический корабль в фильме заполнен воспоминаниями о Земле, плодами ее культуры, а не только плодами техники -- безупречными механизмами. Вот почему собственно технический антураж фильма не так уж занимал его.
Режиссер не старался особенным образом представить себе людей будущего: ему довольно было и того, что они просто люди и как две капли воды напоминают нас с вами, дорогой читатель.
То же относится и к станции.
Есть в русском языке такое жаргонное, сугубо бюрократическое выражение: " б.у." -- " бывший в употреблении". Главная забота режиссера -- чтобы на космической станции с ее рациональной белой мебелью, серебристой тканью комбинезонов, пультами, датчиками, ракетами все было так же " б.у.", как на монастырском подворье одна тысяча четыреста такого-то года.
Надо отдать справедливость режиссеру: в эпизодах, когда маленькая Хари, запертая Крисом в его каюте, прорывает металлическую дверь и валится замертво, когда она пытается покончить с собой, выпив жидкий
кислород, и потом мучительно и неотвратимо оживает, равно как во всей атмосфере запустения и страха на станции, -- он показал, что ему вполне доступна техника " фильма ужасов". Секрет ее он открыл для себя там же, где секрет исторического фильма: в непререкаемой, почти натуралистической достоверности абсурда. Но показал он другое: как Хари, попав в центр столкновения характеров и точек зрения на станции сначала в качестве " пришельца", постепенно становится человеком.
Нельзя стать человеком, не зная, что такое " любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам". Вместе с Крисом она, родившаяся из ничего, постигает странную подробность зимнего утра, разбросавшегося по выпуклости Земли на картине Брейгеля. Коротенькая пленка, захваченная Крисом на станцию, сохранила то, что интимно и неповторимо, а между тем принадлежит человечеству и о чем не раз уже писали поэты: и " дым костра", и " образ матери склоненный", и " небо -- книгу между книг" (А. Блок).
Но и этой -- спасительной -- горечи ностальгии мало. Хари учится трудному искусству совести.
У Тарковского Крис Кельвин, предоставив Сарториусу довольно банальную и проигранную позицию " чистой науки", делает в " соляристику" единственный вклад, который обещает " конструктивность": он дает пробудиться в себе чувству вины, совести и любви. И это-то самое человеческое свое достояние Крис предоставляет науке: он соглашается подвергнуться эксперименту, и мощное излучение транслирует его душевный мир Океану.
А когда он просыпается, Хари на станции уже нет: она еще раз, и уже навсегда, исчезла, добровольно подвергнувшись аннигиляции. Жертвуя собой, она уже ведет себя как человек.
Значит, Океан отозвался на ту самую особенную черточку, на память сердца, на горечь ностальгии Криса Кельвина, в которых навсегда закодированы мать и любимая, вина и искупление, родной дом и родная Земля, ее шорохи и запахи, и шум дождя, обрушившегося на открытую терраску...
Только дождь идет в доме, а Крис стоит снаружи, в саду, и смотрит сквозь стекло на отца, не замечающего, как тугие струи хлещут его по плечам. Образ неизведанного: родной и странно-зеркальный мир, вызванный из небытия живым Океаном Солярис.
Так кончается фильм. Ожиданный контакт? Сентиментальный happy end? Пограничная встреча " своего" и " чужого" миров? Смерть, может быть? Или все тот же внутренний закон художника, постигающего гармонию " усильем воскресенья"?
Фильм был выпущен на экран 20 марта 1972 года и, как бы в компенсацию за мытарства " Андрея Рублева", сейчас же представлен на Каннский фестиваль.
Впрочем, за десятилетие, протекшее с блистательного дебюта Тарковского в Венеции, идея кинофестивалей успела потускнеть и выдохнуться. От них уже не ждали открытий и потрясений, и если фильмы-лауреаты
начала шестидесятых прямо с фестивального экрана входили в историю, то теперь зачастую это были просто добротные, остроумные, любопытные картины. Названия их мало кто запоминал, имена авторов освещались.коротким блеском удачи, иногда финансового успеха, но не славы.
" Солярис" не произвел той сенсации, которая была уготована " Рублеву", но был встречен серьезно и почтительно. После " Одиссеи" Кубрика, с которой Тарковский открыто спорил, иным показались недостаточно эффектными декорации космической станции. Для фильма тайн и ужасов казались медлительными ритмы; иные считали его просто скучным. Но если не как автора кинематографической сенсации -- понятие, потерпевшее изрядную усушку и утруску, -- то как большого художника, моралиста и гуманиста Тарковского признали все.
И сейчас -- перед тем как перейти к " Зеркалу" -- мне хотелось бы более расширительно, чем в старой рецензии, доформулировать " моралистическую и гуманистическую" мысль, которую возбуждает научно-фантастический фильм Тарковского.
Режиссера часто упрекали за пристрастие к жестокости -- мировое кино давно уже оставило его позади. Однако стоило бы задуматься о природе этого явления.
Физическая боль кажется нам грубым несовершенством, ошибкой, допущенной природой. Но когда медицина нашла наконец средство обезболить лечение зубов, оказалось, что она лишила организм предупредительного сигнала опасности. Боль нужна жизни для целей самосохранения. Отсутствие чувства боли само есть болезнь, иногда смертельная. Поэтому Крис Кельвин у Тарковского вместо того, чтобы обнаружить, подобно Сарториусу, бесстрашие познающего разума, обнаруживает бесстрашие чувства и заново учится страдать.
В нашем искусстве много было героев, проявлявших мужество преодоления страдания, и меньше -- имеющих мужество страдать своей и общей виной, что всегда составляло традицию большой русской литературы. Между тем без этих мучеников совести человечество рисковало бы лишиться предупредительных сигналов опасности. Стараясь быть ближе к Крису, Хари учится не только спасительной горечи ностальгии, но и страданию и состраданию.
И если даже отрешиться на секунду от законного человеческого антропоцентризма и вообразить на минуту, как в романе, что жизнь на нашей маленькой Земле -- всего лишь частный случай, издержки метода проб и ошибок некой бесстрастной Вселенной, то что возьмет себе Вселенная из суммы наших радостей и страданий, заблуждений и прогресса? Не эту ли гейневскую нелогичную зубную боль в сердце, именуе-
мую совестью и стоящую на страже разума, который в своей гордыне способен нечаянно уничтожить самого себя? И не для этой ли черточки, как любил говорить Достоевский, человек -- космосу?
А. Тарковский -- о фильме " Солярис "
1. " Плохи ли, хороши ли мои первые два фильма, но они в конечном счете оба об одном и том же. О крайнем проявлении верности нравственному долгу, борьбе за него, вере в него на уровне конфликта
личности, вооруженной убеждением, личности с собственной судьбой, где катастрофа означает несломленность человеческой души.
И Иван и Андрей все делают вопреки безопасности. Первый -- в физическом, второй -- в нравственном смысле слова. Она -- в поисках нравственного идеального варианта поведения".
" Что же касается " Соляриса" С. Лема, то решение мое экранизировать его вовсе не результат пристрастия к жанру. Главное то, что в " Солярисе" Лем ставит близкую мне проблему. Проблему преодоления, убежденности, нравственного преображения на пути борьбы в рамках собственной судьбы. Глубина и смысл романа С. Лема вообще не имеет никакого отношения к жанру научной фантастики, и полюбить его только за жанр -- недостаточно".
2. " Почему-то во всех научно-фантастических фильмах, которые мне приходилось видеть, авторы заставляют зрителя рассматривать детали материальной структуры будущего. Более того, иногда они (как С. Кубрик) называют свои фильмы предвидениями... Мне бы хотелось так снять " Солярис", чтобы у зрителей не возникало ощущения экзотики. Конечно, экзотики технической.
Например, если снять посадку пассажиров в трамвай, о котором мы, допустим, ничего не знаем и никогда его не видели, то получится то, что мы видим у Кубрика в эпизоде прилунения космического корабля. Если снять то же самое прилунение как трамвайную остановку в современном фильме, то все станет на свои места"., 3. " Я замечал по себе, что если внешний, эмоциональный строй образов /в фильме опирается на авторскую память, на родство впечатлений собственной жизни и ткани картины, то он способен эмоционально воздействовать на зрителя. Если же режиссер следует только внешней литературной основе фильма (сценария или экранизируемого литературного произведения), пусть даже в высшей степени убедительно и добросовестно, то -зритель останется холодным.
То есть коли уж ты неспособен -- объективно неспособен -- воздействовать на зрителя его собственным опытом, как в литературе, в принципе не можешь добиться этого, то следует (речь идет о кино) искренно рассказать о своем".
|
|