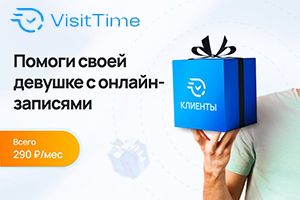Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Илл.28. Есаул П.Р. Дудаков 1 страница
|
|
(«Донская Волна» №9(37) 24 фев. 1919, с.9)
(https://swolkov.narod.ru/foto.htm)
После красных гостей
«Донские ведомости» 1919: I. – №170, 25 июля (7 авг.) с.2-3, II. – №179, 4/17 авг., с.2-3, III. – №181, 8/21 авг. с.2-3 *
I.
Зелено, сочно, пестро и весело, как в мае. Буйные заросли перепутанных некошенных трав, изумрудные атавы, гигантский татарник, лебеда и брица по червонным загонам хлеба, бирюзовые васильки, золотистый подсолнух и дойник... Простор безбрежный. Бездонная синева, и в ней белыми лебедями круглые серебристые облачка.
Родная степь цветет, зреет, щеголяя роскошью, блеском, богатством сокровищ, скрытой мощи. Пестрым нарядом прикрыла обычную пустынность, наготу, свежие раны, язвы и струпья. Зеленая и золотая, кричит о воскресении, о близости жизни возрожденной, светлой, обильной, просторной и радостной.
Но порой в окно вагона потянет тяжелым трупным запахом, и долго провожает он убегающий поезд. Трупы лошадей, трупы быков валяются у дорожной насыпи, вокруг змеистой линии окопов, свежих и поросших травой. И свежие холмики – с убогими деревянными крестиками и без крестов – безыменные свидетели смертного боя братьев единомышленников, связанных единой горестной судьбой, разделенных злым демоном вражды и фатального затмения...
Трупы обгорелых железнодорожных зданий, зияющих пустыми окнами, трупы сожженных паровозов, опрокинутых вагонов. Что-то скорбно выразительное, трогательное и величавое есть в этом зрелище недвижной машины, уткнувшейся в мать-сыру-землю, в ее гигантских колесах, осях, буферах, несокрушимых стальных членах. Все это низринуто, перевернуто, опрокинуто и сейчас бездыханно. Но все еще могуче, твердо и пригодно и словно ждет, когда придет вооруженный силой понимания и любви хозяин, поставит вновь на рельсы, в естественное положение, споткнувшееся стальное тело, и бездыханный механизм оживет, вздохнет, зашумит ритмическим шумом и двинет могучим дыханием десятки сиротливо ожидающих вагонов по чугунным лентам, сейчас проржавевшим и заросшим травой...
Он придет, хозяин. Несомненно придет. И в опрокинутой машине, и заброшенных сиротливых вагонах символ нашей современности – грустной, но не лишенной надежды. Уже звенят рельсы тонким звоном набегающих и уходящих в жемчужный туман поездов, открылись зеленые дали Заволжья, пыхтит буксир, стаскивая с мели беляну с лесом, гудят заводские гудки. Оживает и разминает затекшие от мертвого сна члены опрокинутая и вновь становящаяся на рельсы жизнь.
Немножко есть фантастического в этом долго жданном зрелище величавой русской реки, усеянной сейчас недвижимыми белыми пятнами парусов, в этом замызганном виде пыльного города с запахом нефти и воблы, его тяжелых белых цистерн по высокому берегу, фабричных труб и мелкой панорамы тесовых домишек по ярам и обрывам так называемого «Капказа». Все это было когда-то так знакомо, так близко, и все затянулось мутной пеленой забвения за два года, отделенное таинственной чертой непримиримой вражды двух миров.
Город, на беглый взгляд, по внешности мало изменился. Советское владычество внесло ему свою долю разрушения, загажения, сору и грязи, но иного памятника никакого не оставило, ничего нового не прибавило, кроме, может быть, двух-трех заржавленных вывесок, на которых старое хозяйское имя было затерто и заменено обозначением, гласящим, что это – магазин «трудовой артели приказчиков». В магазине «трудовой артели», как и в других, пыльная пустота, паутина и уныние, кое-где – две-три спящих солдатских фигуры и звонкоголосые рои мух на засиженных окнах. От прежнего обилия, особенно – гастрономического, ничего не осталось, а когда-то по части чревоугодия был город за славой.
И так страшно было слушать тощего, оправляющегося, видимо, от болезни обывателя в войлочных туфлях, говорившего со слезой умиления в голосе:
– Всё есть... Господь дал... всё сейчас: чего хочешь, того просишь... И хлеба ешь – не хочу, горы целые на базаре, и огурцы, и вышни... Мясо есть... Всякая фрухта... Господь-кормилец привел дожить... А не чаяли... Думали: помрем, не евши...
Да. Видно, что предметный урок нового социального строя был жесток до беспощадности. Голод, сыск, устрашение, равнение всех по оголению и разутости здесь, в «красном Вердене» Совдепии[123] должно было оставить особенно яркий и выпуклый след. И так хотелось заглянуть любопытствующим оком внутрь этих ободранных домов и домишек, в душу этих людей, группами собирающихся на панелях, в скверах и на живописном волжском берегу, серою грудою тел заполняющих вокзал и платформы.
Как будто все та же серая толпа. Может быть, посерела больше, оборвалась, обнищала, больше обогатилась коростой и насекомыми и оскудела детворой – мало видать ползающих среди нее детишек, точно помелом их вымело с платформы, уцелели лишь маленькие, бойкие хулиганчики с газетами и папиросами. Но уж, наверное, что-нибудь новое прибавилось к обычному облику этого «трудового» стада без пастыря, углубленного революционным сознанием? За два года, отделившие меня от непосредственного соприкосновения с «младшим братом», российским мужичком, он в моем представлении облекся в таинственный покров интернационального или элементарно-большевистского фасона и стал еще более загадочным сфинксом, чем был во времена тургеневского Базарова.
Я ходил по платформе среди пестрых кучек, с неизменным ароматом «русского духа», сидел рядом с ними по соседству с ужасной уборной, на стенах которой какой-то грамотей изобразил мелом: – «Да здраствует нипобидимая красная армия! Да здраствует товарищ Троцкий!» Приглядывался, прислушивался... Ничего, кроме вопросов брюха, мне не удалось уловить. Никаких парений в высь, никаких экскурсий в область социальных или политических отношений, никакой революционной философии.
– Огурец? Огурец в Арчаде двадцать монет сотня, а тут он семьдесят пять, восемьдесят... Так не прямой ли мне расчет на порожняках доехать да собрать мешка два?..
– Тут в одном месте напал я<: > подошву... семьсот просит... пары три выйдет... первейшая подошва, соковая!..
– У военных дешевле попадает...
– Всевозможно...
–... При большевиках муж получал девятьсот, да я семьсот, а купить нечего было. За Волгой, бывало, через большую силу ухватишь если полмешка – слава Богу, а то и с деньгами голодом сидели... Сейчас – слава Богу – получаем и меньше, а все доступней стало...
В той же демократической среде ехал я в вагоне – современное расстройство транспорта очень способствует самому тесному объединению классов и состояний, всеобщему равнению в смысле претерпения тесноты и неудобств. Если не принимать в расчет единственного офицерского салона, всегда битком набитого, – некоторый отбор представляет публика, едущая на крышах – учащиеся, казаки, солдаты и бабы-спекулянтки, которые полегче и побойчей. Остальной путешествующий мир наливается без разбора и в первый класс и в телячьи вагоны – «до отказа». От Царицына я как раз волею стихий втиснут был в синий вагон, на котором стояла римская цифра I. От прежней роскоши, от мягких пружинных диванов остались только одни воспоминания в виде клочков шерсти по стенам и обрывков клеенки, кишащих клопами. Ни дверей, ни стекол в окнах. Даже пол был взломан в одном месте. В «купэ» со мной рядом сидел на мешке закоптелый батюшка без подрясника, в рубахе и заплатанных штанах.
– Все мое ношу с собой... omnia mea, – пояснил он по-ученому касательно своего костюма: – «товарищи» очистили на совесть, осталась лишь зимняя ряса на лисьем меху... ну, сейчас – не по климату...
Господствующие позиции в нашей клетке заняты были полдюжиной крикливых женщин мещанского типа с корзинками, узлами, мешками, ведрами. В обстановке тесноты, бесприютности, духоты и грязи эти особы чувствовали себя, как в родной стихии, быстро устраивались, объявляли войну, заключали мир, сорили, судачили, спорили, выкладывали сенсационные новости о фронте, о международных отношениях, о ценах, обо всем. Казаки и солдаты, вообще мужской персонал, ехавший в нашем вагоне и, видимо, бывалый, наметавший взгляд, относился к ним с легкой, снисходительной иронией, не очень стеснялся в выражениях, не очень церемонился.
– Спекулярничаете? – спрашивает черноусый унтер-офицер пухлую даму с толстыми золотыми кольцами в ушах, в розовом капоте с глубоким вырезом, открывавшем некоторые женские прелести цвета солдатской голенищи.
– Дядичка! милый! – певучим басом отвечает дама, – пять человек детей, муж калека... А дороговизьма вон какая – семь рублей хунт мяса... Чем я должна?
По-видимому, опыт создал уже некоторый шаблон для мелко спекулянтских формуляров: у каждой такой гражданки муж калека или убит на войне (непременно – германской), полдюжины детей, нужда, беспомощность. Сведущие люди уже знают, что это – выдумка, и лишь приятельски подмигивают бровью.
– И какая жизнь наша! Как собака на обрывке – мечешься туда-сюда, покою не знаешь, полопать путем некогда. Купить – погрузить надо. Отдай пятьдесят. Там – глядишь – стражник: – «чего везешь?» И уже знаешь, чем он, стерва, дышит... Лезешь в карман, достаешь четвертной – не глядит. Опять давай полсотни, а то и всего Ермака...
– А все-таки расчет есть?
– Куды ж денешься? пять человек детей...
– А работать вот никого не дозовешься, – говорит грузный человек с седой щетиной на подбородке, едущий на Кубань.
– Это за шесть-то рублей в день? Покорно вам спасибо, дядичка!
– Зачем за шесть? Я шестьдесят дам – иди, пожалуйста.
– А детей на кого брошу?
– Да, ведь, бросаешь же?
– Я, конечно, бросаю, но сейчас я знаю, что заработаю. Когда заработаю, а когда шиб-прошиб, заряд пропал... Раз на раз не приходится. Да я не жалуюсь. У прошлом месяцу взяла в Торговой водки за триста, завернула в одеяло, вроде как домашние вещи – донюхались треклятые казаки, отобрали... барыш на шею вышел. Ну Господь оглянулся на мои слезы, муки у военных нашла сходно. Привезла в Царицын – полторы тысячи взяла, – вот мне и детям хлеб...
– Пойдет она работать, как же? – желчно говорит из коридора старик в лаптях, со спутанной зеленой бородой, – она привычна, чтобы восемь часов работы... А восемь часов – как? Она из кажного часу с полчаса курит да полчаса с..ть... Ей, может, через два дня потребуется до ветру, а она идет – садится, лишь бы время шло... Заставишь ее работать!
Это желчное замечание, по-видимому, не шокирует никого из наших дам – разговор опять переходит на линию торговых удач и неудач, дороговизны, трудности изворачиваться для простого человека в условиях осложнившейся и запутанной жизни.
– Небось, вздыхаете по большевикам? – говорит высокий урядник-кубанец, едущий в командировку в Харьков.
– А нам усе равно, – отвечает дама с птичьим лицом, в красной кофте и шелковом шарфе, но босоногая.
– Как – все равно?
– А так: что большевики, что ваши – усе равно, – лишь бы нас не трогали.
– «Ваши»? А вы – чьи?
– Мы – нитральные. Ничьи. Где лучше – там и мы. Нам усе равно...
– Значит, придут большевики – «милости просим»?
– Зачем? Нам большевики тоже родня не дай Бог какая... Зимой прислали ко мне старика со старухой: «у вас комната лишняя». Я говорю: как это лишняя? Я всю жизнь билась, собирала, опекурила себе домик, квартирантов пустить, а он, может, старый черт, лодыря слонял, а я отдай ему комнату?.. Вот они какие добродетели нам были, большевики...
– Ну, а когда других-то они грабили – это как?
– Так мы при чем? Мы люди темные. Мы не грабили...
– Да вот вы говорите: «усе равно».
– Ну да... Нам усе равно. Лишь нас не трогай...
– Нуте-с, хорошо, – сказал батюшка, кашлянув в руку, – в том-то и грех нам, что «все равно», в равнодушии. Так нельзя. Укажу примером: вот по одну сторону дороги – большевики, по другую – казаки или кадеты, скажем, а вы – на рельсах... посередине... Куда вы должны податься?
– Никуда не пойду, на месте останусь. Куда я от своего добра пойду? Я, может, всю жизнь билась, нажила домочек... работала, хлопотала... И от своего порога пойду?
– Но поезд надвигается, может раздавить?
– Пущай на месте помру, а от своего добра никуда не пойду!.. – вставила толстомясая.
– Конечно, что нам все равно, моя соседка: как тогда работали, при Николае, так и сейчас отдыху не видим...
В атмосфере этих беглых разговоров и споров постепенно выступали кое-какие черты углубления революционного сознания, которые проведены были в душе народной воспитательным воздействием большевизма. Низменная приспособляемость к жизни, расчет, онемение совести и чувства долга всплывали, как аромат трупного гниения. Но жизнь, неугасимая и неистребимая, рядом с этим давала яркое и трогательное свидетельство героически-стойкого страдания, самоотвержения и истомленного ожидания торжества правды…
II.
Может быть, придет когда-нибудь время – беспристрастный, эпически спокойный повествователь с достаточной полнотой и последовательностью изобразит ту картину, которую сейчас в силах передать лишь сухой протокол, – картину крестных мук Дона Тихого, картину великой скорби, ужасов и унижения, смердящего торжества подлости и продажного предательства, общей испуганной немоты и общего порыва возмущения души народной, очищенной великим страданием.
Может быть волшебной силой художественного слова облекутся в плоть безмолвные обугленные руины хуторов и станиц, горестные братские могилы и одинокие холмики под новыми крестами, в траве белеющие кости... Зазвучит живыми голосами степной простор, поглотивший звуки орудий, гул и лязг, топот копыт и гиканье лавы, песню торжества и стон предсмертный...
Может быть, отойдя на расстояние, в исцеляющую даль времени, будет создано целостное отображение великой туги народной, беды казачьей.
Сейчас это сделать нет сил. Слишком близки, слишком свежи, остро и жгуче болезненны кровавые раны и язвы гвоздиные, зияющие на теле родного края. Слишком изнемогает от животрепещущей близости этой сердце в тисках тошной тоски и стыда горючего, бессильной злобы и горького терзания...
Только протокол, один протокол, сухой и бесстрастный, ныне может воспроизвести по порядку и по форме с суровой скупостью на краски, но обстоятельно, ту эпопею безвестного страстотерпчества, которое скрыто в огромных ямах, ярах и буераках, издающих и сейчас еще тяжелый трупный запах. Может намекнуть на ту потрясающую симфонию младенческого крика, предсмертного хрипения, треска пламени и воплей отчаяния, которые смолкли в этих обгоревших развалинах, – тот ужас надругательств, который застыл в безумных взорах сироток-девочек, без присмотра бродящих ныне по хуторским улицам.
Беспристрастный протокол даст сухие цифры: скажет, что в Усть-Медведице по подсчету самого трибунала 23 дивизии, застрелено свыше трех тысяч контрреволюционеров.
Протокол подведет итоги планомерного опыта тов. Троцкого в Урюпине: около девяти тысяч расстрелянных...
Я пройду пока мимо этого языка действительности, мимо этих потрясающих цифр, этих леденящих ужасов. Бледны и немощны пред ними всякие слова, всякие краски. В беглых, бессистемных впечатлениях я попробую передать только мелкие осколки разбитого зеркала жизни, те черты новой обыденности, которые провело пятимесячное господство большевизма на старом, привычно-знакомом, милом и постылом, во всяком случае родном облике станичного и хуторского быта.
Сперва все шло по-хорошему. 18 января красные обстреляли станицу, выпустили по ней свыше сотни снарядов, убили одного старика, двух коров и разбили цейхауз станичного правления, в котором хранилось, в качестве вещественных доказательств, семь жестяных кубов, отобранных начальником стражи у самогонщиков.
Въехал Миронов на автомобиле, занял под постой дом священника, приказал выбрать комиссара.
Народ собрали к правлению. Сходились туго, робко, с опаской. Какой-то оратор в заячьем треухе уже размахивал руками на майдане, очень часто повторяя:
– Товарищи-и!.. товарищи-и!..
Говорил бойко, шибко, стремительно, как цыган, – и сам на цыгана был похож. Понять можно было только одно: советовал казакам проклясть Краснова, вернуть детей по домам и спокойно заняться своим трудом.
– И самое лучшее! – крикнул Климка Мирошкин среди общего безмолвия.
– Мы бы и давно с удовольствием, – подхватил толстый Василий Григорьевич.
И как будто мешок с картошкой прорвался – глухо загалдел майдан, что давно все готовы сидеть по домам, кабы своя воля была. Долго галдели. Никишка Козел кричал:
– Буде уж аполеты-то офицерам заслуживать! Достаточно... Дослужились до того, что рубахи на пузе нет...
И ему поддакивали пестрые голоса со всех сторон. Заметно было, что смышленые люди сразу поняли, как подладиться и угодить оратору.
Потом цыган говорил, как организовать совет, кого выбирать в комиссары. Рекомендовал в комиссары непременно человека самого неимущего, голыша, по-большевистски называемого пролетария. В комиссары никому не хотелось: по прежнему опыту знали, что из комиссаров в тюрьму дорога самая прямая и самая торная. И ни у кого не было уверенности в прочности успеха красных – Миронов уже в третий раз проходил через станицу и возвращался в первые два раза от Усть-Медведицы очень поспешно и бесславно. Комиссарам первого призыва пришлось поплатиться – правда, не головой, а мягкими частями и кратковременным пребыванием в тюрьме, но и это – удовольствие среднее. Потому придумать комиссара было не легко.
– Сергей Миколаевич, ты человек писучий… – стали просить моего школьного товарища и полчанина, старика с кирпичным лицом и огненно-рыжей бородой.
– Ась?..
Сергей притворился глухим – в нужные минуты он умел это делать с большим искусством.
– Потрудись для общества... покомиссарь.
– Кого?..
– Комиссаром тебя назначить хотим! Чуешь? Жалованье приличное... Слышь, что-ль? Статуй глухой! Вылупил бельмы-то... ишь, а ведь слышит, черт! Придурился, рыжий кобель....
Сергея забраковал цыган, когда узнал, что у него дом под железом, есть лошади, коровы, хозяйство. Не пролетарий.
– Да давайте Левона косолапого назначим, – закричал Никишка Козел, человек торговый, плутоватый, изобретательный, – Левон – куды уж еще голей... Занятие у него самое перлетарское: наденет через плечо набедренник, стоит на паперти, кусочки собирает... Дадим обчественный кусок....
За Левона вступилась жена – сам он человек был смирный и безответный... Жена с негодованием закричала:
– Это еще чего выдумали! для смеху он вам дался?
– Да ведь для обчества, Апрося, обчество желает, – приложив руку к животу, начал, было, увещательным тоном Никишка.
Но Апрося не дала ему кончить, резко и пронзительно крикнула:
– Нитнюдь!.. Левон, ты гляди у меня! – прибавила она грозно в адрес супруга: – ты этой жмудии не поддавайся... гляди!.. Куда придешь ночевать, ежели чего... мотри!..
Левон снял шапку, поклонился обществу и смиренно сказал:
– Господа старики! я нутрем нездоров, живот у меня выходит и ногами неправ...
Майдан загалдел. Озорные, насмешливые голоса послышались из углов:
– Ты на бабу не гляди!.. Ты подумай: жалованье, какое будешь загребать, – пятьсот в месяц!.. Народный человек будешь... А баба ночевать не пустит, – ночуй в управленьи, в атаманской канцелярии... Можешь спокоен быть – даже как летом в санях... Найдем и бабу, коль того... коммуническую...
– Ногами я не прав...
– Не честь станице будет, – кричала Апроська, – комиссара косолапого выбрали... Сам по дороге идет, а ж... целиком едет... Какой это комиссар!
– Не беда! Тут – писать, а не по горнице плясать требуется...
Провозгласили Левона Косолапого комиссаром, заставили идти к Миронову – ума зачерпнуть. Левон поплелся, снял шапку еще не входя во двор к батюшке, а когда его допустили пред светлые очи Филиппа Кузьмича, помолился на образа и, кланяясь, сказал заплетающимся от страха языком:
– К вашей милости, ваше высокоблагородие...
Миронов пыхнул, закричал, ногами затопал – был выпивши:
– Что это за «высокоблаговодие»? Что это за чучело такое?
Длинный, несуразный Левон в бабьем ватном пальто, с костылем в руке, с вывернутой ногой, и впрямь немного напоминал солидное чучело на бахче. От страха он онемел и зажмурился, с фатальным смирением приготовившись к оплеухе. Товарищ Миронов кричал что-то о холопских навыках, о Краснове, о белых погонах – ничего не удержалось в испуганном соображении Левона. Понял только одно – ясно и облегченно, – когда Миронов крикнул:
– Пошел вон!
Опять не забыл помолиться на образа, поклонился и поплелся «на общество» дать отчет о высокой аудиенции.
– Ослобоните, господа старики, нутрем я не здоров и напужан, живот у меня выходит, – повторял он в заключение своего доклада.
На митинге орудовали уже новые лица – свои станичные большевики, уходившие с Мироновым семь месяцев назад, – Филька Думчев, Васька Донсков, Семка Мантул. Держались они уверенно, развязно, с бахвальством. Кое-кого приласкали, кое-кому пригрозили. Видно было, что все вышли в люди, были при деньгах, занимали видные посты: Филька Думчев был командиром сотни, а раньше – в станице – промышлял самогоном, сбывал краденое, тем и кормился кое-как. Не малой шишкой был и Васька Донсков, из старых стражников, – комиссаром по продовольствию.
– Вам же было сказано, – говорил он высокомерным тоном, распахнув дубленый тулуп, – вам же собчали не раз, что как только ваш Бог помостит мосты, придем в гости... Ну, вот и пришли... Хотите – примайте, хотите – нет, а мы пришли и завтрашнего числа будем иметь об вас конгресс... кому чего... кто чего заслужил.
Левона Васька освободил пренебрежительным мановением руки:
– Ступай, старик... Чижол для этого дела, не годишься. Корпус в ceбе, конечно, ты имеешь, но – кубышка не та... Ступай...
Левон даже засмеялся от радости. Потом он шепотком уверял, что нарочно так сделал, чтобы его прогнали, подхитрился и нашел, чем досадить Миронову.
Заместитель Левону нашелся сам собой: пришел из Усть-Медведицкой тюрьмы Филипп Кизлян, подметало с мельницы. Сама судьба послала его станице.
– Филипп Игнатьич! вы в курсе этого дела... – сказал Рыжухин, солдат, выгнанный за воровство с мельницы.
– Я – что же... я – с удовольствием, – готовно отвечал Кизлян.
– Поднимайте руки! – скомандовал старикам Васька Донсков.
Рукава – дубленые и нагольные, новые, обтрепанные, засусленные – дружно поднялись вверх.
– Единогласно! – сказал Васька Донсков.
Кизлян откашлялся, втянул подбородок и обвел собрание торжественным взглядом:
– Господа старики... то есть... товарищи, – поправился он: – триста лет ждали мы, когда взойдет солнце... да... жили, можно сказать, в роде каких-нибудь дикарей, эскимосов, которые обитают на мысе Доброй Надежды... или там где-нибудь... в Бабель-Мандепском проливе, извините за выражение, и питаются сырым paком... Жили мы, товарищи, как жуки в навозе копались, хребтину гнули, на других работали... Я двадцать лет страдал! Двадцать лет!..
Кизлян выкрикнул это грозно и со слезой и как будто тут и споткнулся – оборвалась нить красноречия.
Помолчал, поглядел растерянно вокруг и прибавил:
– Двадцать лет... и никто этого не знает, на своей груде я все перенес...
Дальнейшее строительство станичной власти на этом остановилось – впредь до особых указаний. Миронову, видимо, было не до реформ. Впереди предстояла Усть-Медведица, его родная станица. В третий раз он вел на нее красных – товарищей. Семь месяцев назад он едва унес ноги из этих самых мест, к которым его сердце было прикреплено многими нитями и жаждой отмщения, и честолюбием, и обычной тоской усталого человека, познавшего цену окружавшему его товариществу. Усиленно распространялись о нем слухи – приятелей и сочувствующих у него было немало по хуторам и станицам, – что он собирается принести покаяние, искупить свою вину эффектным предательством своих советских владык, но сомневается:
– Краснов, может, и простит, да бабы усть-медведицкие не простят... разорвут...
Теперь он в своих листках призывал казаков бросить оружие, вернуться по домам и заняться мирным трудом. А клевреты его устно добавляли:
– Возьмем Черкасск, сделаем деда Миронова атаманом, а потом на коммуну пойдем... Выбьем коммуну – заживем спокойно... довольно уж навоевались…
И многим станичникам эта упрощенная схема упорядочения взбудораженной жизни очень понравилась.
Вечером Миронов вызвал к себе батюшку, которому оставили в доме лишь крошечную спаленку. Из нее батюшка и наблюдал потихоньку, как начдив ходил по залу из угла в угол в глубоком раздумье, а свита на цыпочках подкрадывалась к дверям, прислушивалась и снова удалялась в кухню.
– Вот что, отец, – сказал Миронов, остановившись перед батюшкой и изучая его испытующим взглядом, – вы мне нужны…
Батюшка поклонился и сказал:
– Рад служить… чем могу, конечно…
– Нужны вы мне вот для чего… – Миронов сделал паузу, поглядел на часы, подумал. – Вот для чего… Нужно мне послать литературу в Усть-Медведицу… Человека такого… подходящего… нет… Так вот – вы…
Батюшка похолодел от страха и поспешно сказал:
– Я больной человек, Филипп Кузьмич.
– Ну?
– Не могу… право.. увольте ради Господа…
Миронов нервно дернул усом.
– Не можете… та-ак.
– Я напорчу, право слово напорчу… Где мне… растеряюсь… Тут нужен опыт…
– Так, так… Вот все вы таковы… жрецы по чину Мельхиседека… Дурачить народ, держать его в сетях суеверия, возбуждать против нового откровения истины, правды… свободы, братства… вы – сколько угодно... да… Зачем вы тут торчите? Почему вы не бежали?
Миронов, чем дальше, тем больше горячился, входил в негодующую и устрашительную роль, но похоже было, что всерьез не сердился, а хотел лишь покуражиться. И, может быть, долго куражился бы над испуганным иереем, если бы неожиданно не раздался набат. Грозный начдив вдруг сам побледнел и бросился к револьверу. Заметался и весь его штаб по дому, по двору – все, видимо, необычайно перепугались чего-то.
Тревога оказалась преувеличенной. Ничего особенного не случилось. Лишь где-то на окраине станицы загорелось гумно, а ребята, увидавшие зарево, забрались на колокольню и с большим азартом начали звонить в колокола.
Ребятам дали плетей. И затем последовало распоряжение Миронова – запретить колокольный звон совершенно.
III.
Было нечто фантастическое в том преображении обыденной станичной сцены и распределении ролей, которые последовали с приходом красных гостей и с их вмешательством в бытовой распорядок станичной жизни.
Сказочно-чудесный, фантастический элемент чувствовался и самими новыми хозяевами, и строителями. Комиссар Войхович, курчавый брюнет, уже на третий день по въезде в станицу, после ревизии казацких сундуков, нарядившийся в широкие шаровары с лампасами, смеясь, спрашивал у товарищей:
– Абрам, что ты себе скажешь после этого? Можно было этому поверить месяц назад – Абрам Кацман в казацком... как это... беш... бешмоте с казацкой нагайкой... шпоры... Абрам Кацман! Кацман!.. Это звучит гордо...
– Яша, иначе это не могло быть, – закуривая цыгарку, за неимением папирос, с твердой убежденностью сказал тов. Абрам, юркий и развязный молодой человек с синим подбородком: – ми должны были поить своих коней в волнах Дона... ми обязаны были быть среди казаков и... над казаками...
– Абрам Кацман... Оська Соловейчик, Рубинштейн Исай Исаич... кто бы этому поверил?.. Мы им будем строить... Абрам, мы будем строить им новую жизнь! Что ты себе думаешь?
– Вещь серьезная!
Фантастическое чувствовалось и местными людьми – не говоря уже о тех, кто попал в угнетение, но и торжествующими. Гаврила Гулевой, печник, по паспорту гражданин Шацкого уезда, а по воле судьбы родившийся, выросший и созревший в недрах земли донской, оказался комиссаром милиции. Ходил, озирался и сам себе не верил, что он – комиссар. Еще так свежо было у него в памяти, как, бывало, заседатель Пастушков (царство ему небесное) отрезвлял его своим пухлым, но сокрушительным кулаком. Этот метод вразумления перешел у Пастушкова из старого режима и в новый, когда объявлена была свобода и когда Степан Алексеевич вместо заседателя стал именоваться начальником милиции.
Очень хорошо помнил Гаврила Гулевой, как, уповая на «слово свободы», он в присутствии Пастушкова, конфисковавшего у Василия Говорухина четверть ржавого, еще не усовершенствованного, но уже издававшего дразнящий аромат напитка, позволил себе со вздохом, как бы в сторону выразить легкий протест:
– Правду сказал Тургенев: «эх», говорит, «Россия, Россия!.. Жаль, говорить, мне тебя, Россия!»
И Пастушков, застыв на один момент от изумления, вдруг развернулся и дал... Удар, по обыкновению, был искросыпительный. Голова у Гаврилы мотнулась на сторону, как зрелый подсолнух, а Степан Алексеевич без особого гнева, почти ласково, сказал:
– Тургенев мог такие слова к своему месту сказать. Но ты, с-н сын, рылом не вышел критику наводить!
– Да я нечаянно, вашбродь, – смиренно пробормотал Гаврила, утирая ладонью сильно увлажнившийся нос.
А теперь?
Теперь Гаврила был одним из виднейших представителей «народной власти» и стоял на такой линии, что сам безвозбранно мог развернуться и дать любому бородатому хозяйственному станичнику, как заведомо неблагонадежному в товарищеском смысле, затаенному врагу нового порядка. Как его когда-то отправляли для вытрезвления в станичную тягулевку, так ныне он мог без лишних слов погнать в станичный «ревок» священника, учительниц, любого старика....
|
|