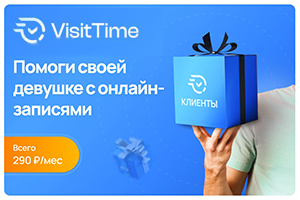Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Баратынский в ответ согласен: «Нимало не сержусь на то, что ты порицаешь род, мною избранный. Я сам о нем то же думаю, и хочу его оставить» (515).
|
|
Оставляя этот род и отказываясь от экстенсивного пути, от большого жанра, поэт находит свой, интенсивный путь укрупнения творчества. Он «углубляется в себе» и на этом «эгоистическом» пути, не покидая тесной рамы своей лирической формы, своей самобытной элегии, необычайно ее изнутри содержательно расширяет. И когда уже в 1837 г. Шевырев заметит по поводу «Осени», что «эти формы как будто тесны для широких дум поэта»[60], то это уже теснота иная, и составляющая силу новой поэзии Баратынского, происходящая от насыщенности «широкой мыслью», которая бьется «в словесных теснинах»[61].Совершается то, что тогда же описано Мельгуновым: возведение личной грусти в общее значение и перерастание в элегию современного человечества. Как это происходит, можно рассмотреть на лучших стихотворениях зрелого Баратынского. «Болящий дух врачует песнопенье...» (1834) — вглядевшись в этот известный стих, мы различаем нечто уже знакомое по «Разуверению» и прочим ранним элегиям. Там — врачеванье больной души; но как теперь — до неузнаваемости — преобразовалась эта «протоситуация» лирики Баратынского; каково различие основных понятий — «больная душа» и «болящий дух», — и врачует его не женщина, а «песнопенье»: таковы герои новой поэзии Баратынского. Живая ситуация любовного общения преобразуется в чистую мысль, притом «широкую»: «болящий дух» — категория эпохальная, характеризующая «современное человечество», век (ср. «Наш век» Тютчева, вышецитированный). Но «испарившаяся» душевная конкретность и драматичность скрыто присутствует в новой духовной ситуации, и чистая мысль не перестает быть поэтической. «Поэт имел дело с самыми туманными задачами», — писал уже в конце столетия (1888) в статье, положившей начало возобновленному после долгого невнимания обращению к Баратынскому нового поколения поэтов и мыслителей, С. Андреевский — «и остался поэтом»[62].Это духовное укрупнение изначальных лирических тем поэта просматривается и в философско-исторических притчах «Сумерек».
Ведущую тему ранних элегий мы называли «выше — неудавшееся любовное общение, раз-общение, раз-миновение, раз-уверение. Но она же, тема эта, проступает из глубины зрелой лирики поэта, которую мы называем философской. Особенно важно суметь ее рассмотреть в тех стихотворениях «Сумерек», где дана поэтически-утопическая картина хода истории, где речь идет о человеке, поэте, природе, прогрессе, науке, промышленном веке.
Приметы» (1839) легко свести к одному их стиху: «Но чувство презрев, он доверил уму...» Эта антитеза чаще всего из стихотворения и извлекается.
Белинский сурово писал о «Приметах»: «Коротко и ясно: все наука виновата! Без нее мы жили бы не хуже ирокезов»[63]. Однако вчитаемся, вникнем: так ли «коротко и ясно»? «Покуда природу любил он, она Любовью ему отвечала, О нем дружелюбной заботы полна, Язык для него обретала.Так было, Пока человек естества не пытал Горнилом, весами и мерой...»Эти культурные изобретения человечества являются как орудия пытки. Вот в чем дело, вот в чем живое событие стихотворения, несводимое к голому противопоставлению чувства уму и науке. Ибо самая антитеза эта уже вторична по отношению к коллизии более глубокой: сочувственного, истинного общения человека с природой, которая для него, в порядке ответной любви, обретала язык, и иного к ней отношения — «чуждого», односторонне-активного и насильственного, не предполагающего за ней своего языка.«И сердце природы закрылось ему, И нет на земле прорицаний».Это глубинная лирическая тема поэта — нарушенное общение, — а не его ретроградная философия. Ведь так же и Муза закрылась от «невнимательного света». Тема поэта рождает в его языке отмеченные, лейтмотивные, ключевые слова. У Баратынского в 30-е годы такое слово — отзыв.«И в звучных, глубоких отзывах сполна Все дольное долу отдавший...»(«На смерть Гете»)Но не найдет отзыва тот глагол, Что страстное земное перешел. («Осень»)Одна с божественным порывом Миришь его твоим отзывом... («Рифма»)Кто в отзыв гибели твоей Стесненной грудию восстонет?..(Когда твой голос, о Поэт...»)В последних строфах «Осени» (на которых, как сообщал поэт Вяземскому, застало его известие о смерти Пушкина) дан грандиозный образ глухого космоса, безотзывного мира: «далекой вой» падения небесной звезды (традиционный символ гибели поэта) не поражает «ухо мира». Силу этого смелого образа, по-видимому, породила сила «отзыва» на гибель Пушкина. Ухо мира! Одна из самых резких метафор позднего Баратынского, «отдаленно предсказывающая»[64] экспрессивную поэтику будущего, XX века. Олицетворение мира — но какое? Мироздание с ухом — чисто метафорическим ухом! (О подобных свойствах метафоры Баратынского у нас еще будет речь впереди.) Резкостью этой метафоры резко подчеркнута тема поэта. Нам с силой дано понять, что в мире острее всего переживал Баратынский. Мир видится существом, внимающим человеку либо глухим к нему. До вселенской метафоры укрупняется драма человеческого общения. Ключевым является мотив «отзыва» в стихотворении «Рифма» (1840); им заключаются «Сумерки» — а в продуманной композиции этой книги роль заключительного стихотворения важна и не случайна. Отзывом жив мир. А в мире свойство отзывчивости специально принадлежит поэту. Отзывом, как таковым, и является средство поэта — рифма. На самом своем исходе «Сумерки» просветляются гимном рифме, уподобляемой библейскому голубю, приносившую «живую ветвь», благую весть о спасении. Рифма становится знаком спасения именно как воплощенный в материи языка и в стихиях мира отзвук, отзыв. Но то, что происходит между поэтом и рифмой, — это уже заключительное звено стихотворения; большая часть его — о том, что происходит между поэтом и миром. Баратынский был убежден, что «в мире нет ничего дельнее поэзии»[65], и поэтому рифма поднята у него на такую высоту как знак поэтического дела. Но преданность рифме может вести к поэтической изоляции: к этой позиции сам Баратынский нередко склоняется, рисуя образ поэта, который, «невнимаемый, довольно награжден За звуки звуками» («Финляндия»), который «Поет один, подобный в этом Пчеле, которая со цветом Не делит меда своего» («Лиде», 1827). Но успокоиться на этом удовлетворении поэт не может, и об этом свидетельствует именно стихотворение, посвященное рифме. Мотив «отзыва» здесь развернут в широкое историческое сопоставление. Поэту нужен народный форум, народный «отзыв», народный суд — без него поэт не знает, «кто он», не знает меры своих сил и своего настоящего достоинства. «Сам судия и подсудимый» — это положение поэта в современном мире чревато болезненным и безысходным противоречием; так «Рифма» оспаривает упоминавшийся пушкинский сонет «Поэту»: «Ты сам свой высший суд»[66]. Баратынский в «Рифме» дорожит любовию народной, но, отчаявшись в ней, уединяется с рифмой и «объясняется ей в любви»[67]. Этот итог просветляет «Сумерки», однако не разрешает противоречия. Очень выразительно в стихотворении это изменение кругозора и тока: от исторического простора и гражданского пафоса мы вместе с поэтом отходим в интимный мир «одинокого упоенья» («Ты, Рифма! радуешь одна» — и трижды с акцентом повторено это «одна»). Мы замечали выше, как пушкинское «Ты царь: живи один» сближается с пушкинскими же характеристиками Баратынского. Как же на исходе своего пути ответил на пушкинский императив поэт, поставленный Пушкиным на такую царственную высоту? Он от нее отказался как недостойный; в итоге стихотворения «Рифма» и книги «Сумерки» оказалось, что одинокое царство поэта есть его отчаянно-утешительное одинокое упоенье с рифмой. «Одинокое упоенье» — из другого стихотворения «Сумерек» — «Бокал» (1835). Здесь одинокое упоенье не метафорическое, а буквальное — человека с бокалом; но «Рифме» с ее широкой картиной судьбы поэта в истории человечества это стихотворение параллельно. И «Бокал» вызывает тоже воспоминание из Пушкина — «19 октября». Ситуация, кажется, та же: «Я пью один...» Но у Пушкина — я несчастен от этого и воображением преодолеваю эту ситуацию — как недолжную, ненормальную; воображение вызывает друзей и населяет стихотворение их живыми образами. Баратынский, напротив, эту ситуацию патетически утверждает, создает как будто апофеозу одинокого упоенья, сочетая парадоксально традиционно «легкую», эпикурейскую тему «бокала» с высокой темой «пророка». «И один я пью отныне! Не в людском шуму, пророк В немотствующей пустыне Обретает свет высок!»Не похоже ли это на пушкинский поэтически-царственный императив?
Однако прислушаемся к восклицательной интонации Баратынского — не подозрительна ли она, не парадоксальна ли сама по себе? — апофеоза явственно отдает отчаянием (подобно тому как это было и в оде «Смерть»). А в «Осени» одинокий пир оборачивается тризной. То, что для Пушкина — царственный императив, для Баратынского — катастрофическая реальность. Так это и в «Бокале», и в «Осени», и в «Рифме» — стихотворениях «Сумерек», связанных мотивом одинокого пира.Но возвратимся к началу «Рифмы», ее исходному пафосу: поэт владеет ведь и другими тонами, и негромкий голос его становится громок, когда повествует о недоступном ему счастье поэта прежних времен, певшего среди народных «валов».«В нем вера полная в сочувствие жила; Свободным и широким метром, Как жатва, зыблемая ветром, Его гармония текла». Великолепные строки эти всем строем своим выражают то, о чем рассказывают; но стихи такого широкого и свободного дыхания у Баратынского нечасты. Один из мотивов лирики Баратынского — тоска по естественной легкости выражения, вольному вздоху, сердечному и «согласному» поэтическому излиянию: «В день ненастный, час гнетучий Грудь подымет вздох могучий; Вольной песнью разольется: Скорбь-невзгода распоется!»«Разольется», «распоется» — необычные звуки у Баратынского, как необычно это стихотворение-песня («Были бури, непогоды...», 1839). Стих его не льется и не поется, но чаще всего сосредоточенно произносится.
«Направление, которое принимает его Муза, должно обратить на себя внимание критики. Редки бывают ее произведения; но всякое из них тяжко глубокою мыслию, отвечающею на важные вопросы века», — писал в 1837 г. в цитированной уже ранее нами статье по поводу «Осени» С. Шевырев. Очевидно, что специфической этой «тяжестью» самобытна поэзия Баратынского. Ему, однако, была тяжела эта тяжесть собственного стиха — и именно эта отягощенность «легкого дара» поэзии, поэтического дыханья грузом и гнетом мысли.«Освобожусь воображеньем, И крылья духа подыму, И пробужденным вдохновеньем Природу снова обниму?»Вскоре после смерти поэта Киреевский писал в статье его памяти: «такие люди смотрят на жизнь не шутя, разумеют ее высокую тайну, понимают важность своего назначения и вместе неотступно чувствуют бедность земного бытия»[68]. Такой характер взгляда на жизнь и отпечатлелся его «тяжелой лирой», если отнести к Баратынскому выражение поэта XX века, для которого традиция Баратынского имела особенное значение. Это свойство своей лиры он с сокрушением переживал как известную безблагодатность, отяжеленность поэзии «смутным» состоянием мира (вспомним: «Условье смутных наших дней»), которое она выражает. «Художник, искренний в каждом звуке», по слову Киреевского[69], в послании Вяземскому (1834) приносил ему песнопенья, «Где отразилась жизнь моя: Исполнена тоски глубокой, Противоречий, слепоты, И между тем любви высокой, Любви добра и красоты».И когда мы еще раз прочитываем: «Мой дар убог и голос мой не громок...» — мы чувствуем, что и тут он искренен в каждом звуке. Это не те условные признания скромности и слабости своего дара, которые были так обычны в поэзии времени. Это сказано трезво и чисто. «Скромность» Баратынского (то «выражение лица» его поэзии, которое столь многим говорившим о ней естественно захотелось назвать этим словом) — органическая и сложная, двойственная: это крепкая внутренняя сосредоточенность, «сомкнутость в собственном бытии», составляющая особенное достоинство и даже гордость этой поэзии, и это сокрушенное сознание неполноты и бедности сил, происходящее от взгляда на жизнь не шутя, то сознание, что способно было породить восклицание странного лирического героя поэта — его Недоноска: «Как мне быть? я мал и плох...»Умопостигаемая метафора, какую собой представляет этот единственный в своем роде лирический персонаж — выразительнейший пример интеллектуальной поэтики Баратынского. Присмотримся к ней поближе.5Выше мы говорили о философской прививке, воспринятой Баратынским в атмосфере московского любомудрия, и о том, что при этом на пути своей поэзии мысли он остался «один и независим». Пушкин сдержанно одобрял опыты философской поэзии «молодых поэтов немецкой школы»[70], однако их игнорировал в своем известном суждении о Баратынском: «Он у нас оригинален — ибо мыслит».
Продолжение характеристики говорит о том, что для Пушкина, видимо, отличало Баратынского от поэтов-любомудров: «Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко»[71]. Сам Баратынский в одном из писем Киреевскому, своему духовному руководителю (никогда, однако, не посягнувшему на подчинение его творчества отвлеченным умственным задачам), высказался всего яснее о том, что есть философия в поэзии и философия поэзии: «Всякий писатель мыслит, следственно, всякий писатель, даже без собственного сознания — философ. Пусть же в его творчестве отразится собственная его философия, а не чужая. Мы родились в век эклектический: ежели мы будем верны нашему чувству, эклектическая философия должна отразиться в наших творениях...»[72] Последнее заявление равносильно отказу от руководительства определенной философской системой (шеллингианской) в пользу руководительства состоянием мира, «века», с непримиренным («эклектическим») многоразличием и борьбой начал (в это же время, теоретически размышляя о романе как роде литературы, он развивает идею «эклектического романа», также соответствующего состоянию века).Два стихотворения 1831-1832 гг. выделяются исследователями как наиболее обоснованные руководящей философией, наиболее «шеллингианские» — «В дни безграничных увлечений...» и «На смерть Гете». Их, действительно, отличают несвойственные Баратынскому программность и философский оптимизм (характерный для русских последователей Шеллинга, мысливших недраматически и исходивших из предпосылки будущего синтеза современных противоречий, по формуле Веневитинова, примирения мысли с миром[73]). Можно, пожалуй, сказать, что это у Баратынского «поэзия веры». Нотой веры в способность поэзии внести гармоническое «согласье» в тревожную жизнь заключается первое стихотворение: «И поэтического мираОгромный очерк я узрел, И жизни даровать, о лира! Твое согласье захотел».В параллель этому поэтическому тезису можно привести теоретический тезис Киреевского: «Нам необходима философия; все развитие нашего ума требует ее. Ею одною живет и дышит наша поэзия;...и самая жизнь наша, может быть, займет от нее изящество стройности»[74]. Философии в этой утопии доверено то же эстетическое действие, что поэзии в стихотворении Баратынского; философия и поэзия у того и другого здесь действуют заодно. Почти такова же у Киреевского характеристика свойств поэзии Баратынского («мерность изящная»[75]); всячески вообще акцентировано единство в его поэзии мысли и красоты. То «изящество» поэтического выражения, которое, например, Шевыревым в отзыве на сборник 1827 г. рассматривалось как внешнее и формальное и прямо препятствующее задачам «поэзии мысли», для Киреевского представляет залог того духовно-эстетического преображения жизни, которое она должна «занять» от философии. Свойства, воспитанные в жуковско-батюшковско-пушкинской школе «гармонической точности», в согласии с целями философской гармонизации мира. В стихотворении памяти Гете дан образ гармонически завершенной жизни («Почил безмятежно, зане совершил В пределе земном все земное», «И в звучных, глубоких отзывах сполна Все дольное долу отдавший»). Гете достиг совершенного равновесия «мысли с миром» («Крылатою мыслью он мир облетел, В одном беспредельном нашел ей предел»), «утоленного разуменья». Однако последние две строфы обнаруживают, что этого отнюдь не достиг автор стихотворения, Баратынский. Рассматриваются на равных правах два варианта ответа на вопрос о бессмертии, без конечного решения («И ежели жизнью земною Творец ограничил летучий наш век...», «И если загробная жизнь нам дана...»), поднимается и проблема теодицеи, здесь пока гармонически разрешаемая примером Гете, одно явление которого оправдает Творца, даже если нас «За миром явлений не ждет ничего — Творца оправдает могила его»[76]. Тем не менее агностическое незнание остается последним словом стихотворения. Открывается трещина между «поэзией мысли», глубокомысленнейший образец которой нам является, и «поэзией веры».Эти последние две строфы обнаруживают, что Баратынский-поэт — не Гете, каков он в стихотворении Баратынского. В знаменитой его четвертой строфе прославлено пантеистическое единение Гете с природой и космосом. Близкий мотив — в «Весне» Баратынского (1834): «Что с нею, что с моей душой? С ручьем она ручей...» Пантеистическое чувство достижимо, однако, ценой «забвенья мысли» — совсем не так, как у Гете. Душа «забвенье мысли» пьет на пире стихий — но такого «забвенья нет», как твердо знает и говорит в другом стихотворении поэт, и в глубине пантеистического ликования диссонансом звучит отчаяние. (Стоит сравнить, чтобы почувствовать качество лирики мысли Баратынского рядом с прямо-философской поэзией любомудров, «Весну» с тематически подобным «Желанием» Хомякова, 1827 г. — «Хотел бы я разлиться в мире...», где этот мотив патетически развит без противоречия, «противочувствия»[77]). Пантеизм Баратынского подобен его же эпикуреизму в ранних стихах, это словно «бегство от несчастия»[78], он столь же нестоек, и философского разрешенья и «утоленного разуменья», как Гете, он не приносит. Почти одновременно с гимном Гете и как могучая реплика на него написано стихотворение «К чему невольнику мечтания свободы?» (1833). Здесь разрушен пантеистический образ одушевленного космоса — природный миропорядок предстает подчиненным неукоснительной механической закономерности и проникнутым сплошной «неволей» — и природе самым острым образом противостоит человек, с его «страстями», «желаньем счастия» и «мечтаниями свободы». Нигде, вероятно, у Баратынского внутренний драматизм и конфликтность его поэтического мира не вскрываются так активно и ярко, как в этом самом диалогическом у поэта стихотворении. Звучат два голоса в остром споре, но очевидно, что эти два голоса не чужды друг другу, больше того — принадлежат одному сознанию и ведут в нем внутренний спор. Первый голос приглашает: «Взгляни» — и развертывает картину космической несвободы, предлагая и человеку «разумно» ей подчиниться. Когда мы читаем: «Небесные светила Назначенным путем неведомая сила Влечет. Бродячий ветр не волен, и законЕго летучему дыханью положен, —»у нас сверкает в памяти пушкинское (созданное одновременно со стихотворением Баратынского) «Зачем крутится ветр в овраге?»: «Зачем арапа своего Младая любит Дездемона, Как месяц любит ночи мглу? Затем, что ветру и орлу И сердцу девы нет закона. Гордись: таков и ты, поэт, И для тебя условий нет».Две картины мира, словно полемизирующие одна с другой. Вероятно, они были бы и несопоставимы, если бы не общий элемент — этот «ветр», полемический элемент (полемический непредумышленно у того и другого поэта, но тем более глубоко) обеих картин. У Пушкина это картина абсолютной свободы-воли, насквозь проникающей все бытие — космос, природу, сердце девы и творчество. «Ветр» — первое звено этой цепи, «поэт» — заключительное звено. Уподобление независимости поэта свободе ветра у Пушкина постоянно («Как ветер, песнь его свободна»; «Минута — и стихи свободно потекут» — с последующим сравнением: «и паруса надулись, ветра полны»); тому и другому придан у Пушкина царственный статус — каждому в его царстве[79]. Но ветр — не только сравнение из природного мира; это образ свободной силы, «неподвластной форме» (Г.П. Федотов), единящей миры природы и творчества, образ пушкинской творческой пневматологии, образ порыва и вдохновенья, овеянности свободного творчества духом (ср. как родственно пушкинское утверждение царственного произвола поэта и ветра древнему: «Дух дышит, где хочет»). «Зачем крутится ветр в овраге?» Логика этих пушкинских вопросов напоминает нам про библейскую «Книгу Иова», а именно — речь верховного собеседника, которую Иов слышит «из бури» (из стихии, из ветра); эта речь состоит из вопросов, а в них мятежному человеку демонстрируется свободное великолепие мироздания, не дающее человеку отчета, превосходящее человеческое представление и недоступное человеческому суду. Один из вопросов, в частности — о дожде, проливающемся «не на разгороженные поля людей, где он нужен..., а на безбрежную и безлюдную степь»[80]. Дождю этому так же «нет закона», как пушкинскому ветру, бесцельно крутящемуся в овраге, когда его дыханья жадно ждет корабль в недвижной влаге. Речь Бога к Иову была излюбленной темой переложений русских поэтов, и Пушкин неоднократно ее вспоминал, для стихотворения же о поэте и черни выписал в рукописи эпиграф из этой части «Иова»[81] — для того самого стихотворения, где чернь уподобила песнь поэта равно свободному и бесплодному ветру.
Связь пушкинского «Зачем крутится ветр...» с парадоксами библейской книги этим фактом устанавливается бесспорно; логика этих пушкинских вопрошаний-утверждений есть парадокс, аргументы этой свободы-воли пушкинской, здесь утверждаемой, бытие проникающей, — парадоксальны (а в другом стихотворении пушкинском сказано: гений, т. е. свободная творческая сила, есть «парадоксов друг»). И этому духу творческого и вольного парадокса выразительно разноречит, можно сказать, железная логика аргументов «раба разумного» в стихотворении Баратынского. У Баратынского еще в «Эде» дул «ветр, бессмысленно свистящий». В разбираемом стихотворении «бродячий ветр» подчеркнуто подчинен космическому регламенту, детерминизму природного миропорядка столь же всепроникающему, сколь всепроникающ у Пушкина его свободно-вольный аспект мироздания в знаменитых строках. Абсолютная «разумная неволя» мира претендует у Баратынского и на всего человека; речь «раба разумного» — первый голос стихотворения — приходит к безнадежно-успокоенному равновесию: «И будет счастлива, спокойна наша доля».В том же году, когда, вероятно, возникло стихотворение, поэт писал Киреевскому, что видит «счастие в покое», а не в «пламенной деятельности» (523). Может быть, стихотворение иллюстрирует эту жизненно выстраданную поэтом-истину? Но нет — ибо эта истина в стихотворении принадлежит лишь первому голосу, смолкающему на ней, притом смолкающему на «повисшей в воздухе рифме»[82], что лишает достигнутую истину окончательности и завершающей силы. Здесь и вступает новый, противоречащий голос — человек перебивает себя же, поэт восстает на свою же мысль и на собственное созерцание мира (ибо видеть мир под знаком его несвободы, подчиненности всепроникающему «закону» было свойственно Баратынскому).«Безумец! не она ль, не вышняя ли воля Дарует страсти нам? и не ее ли глас В их гласе слышим мы? О, тягостна для пас Жизнь, в сердце бьющая могучею волною И в грани узкие втесненная судьбою».Этот взрыв, «мятеж» приводит стихотворение к сложному и драматическому итогу. Мятежные человеческие страсти непокорны «общему закону» — однако сами они законны, они «высоко рождены»; они — от той Прометеевой «искры небесной» («Но в искре небесной прияли мы жизнь. Нам памятно небо родное» — «Дельвигу», 1821), которая есть в человеке сознание и творческое стремление, порыв и тревога, «желанье счастия» и «мечтания свободы»; она и обретает «глас» в мощных заключительных строках нашего стихотворения. Глубокое, неискоренимое противоречие двух равно могучих сил в человеке становится драматическим его итогом. «Жизнь» восстает на «судьбу» (та же самая детерминирующая сила в человеческом мире, какая царствует абсолютно в мире природном), но последняя держит ее в узких гранях. Это мощное биение и это властное стеснение прямо физически ощущаются в двух последних стихах. От философски окрашенного примиренного пантеизма камня на камне не остается в стихотворении «К чему невольнику мечтания свободы?». Репликой же на программно-философскую «веру» в гармоническое назначение творчества, «поэтического мира», дарующего «согласье» жизни («В дни безграничных увлечений», «Болящий дух...»), звучит в другом, более позднем стихотворении, в антологических гекзаметрах 1840 г. («Мудрецу»): «Нам, из ничтожества вызванным творчества словом тревожным, Жизнь для волненья дана: жизнь и волненье одно.Тревожным названо слово высшего творчества, мир тревожен в своей основе».6Высшего выражения «противочувствия» эти достигли в «Сумерках». Эта последняя книга поэта характером отличалась не только от его собраний стихотворений 1827 и 1835 гг.; в русской поэзии вообще она явилась по самому типу новой. Новыми были и степень и форма лирического единства, сообщавшего книге (вместе с метафорически-выразительным заглавием, непривычным также еще тогда в поэтических сборниках) «характер замкнутого цикла философских стихотворений, по своему внутреннему единству приближавшегося к философской поэме»[83]. Тем не менее это единство не есть единство философской идеи или программы; ее, как не раз указывалось, из «Сумерек» не извлечь. Напротив, их характеризует «противоречие ответов»[84] в разных стихотворениях, заключенных в продуманную композицию. Драматизация лирического мира поэта составляет структуру «Сумерек». В литературе о Баратынском описаны ее признаки: преобладание объективных лирических форм, сюжетных стихотворений-притч, построенных в ряде важнейших стихотворений на широком сопоставлении современности и утопической древности, почти полное устранение прямого лирического «я» (заменяемого обобщенными категориями «мы», «человек», или даже «ты» к себе самому: «А ты, когда вступаешь в осень дней, Оратай жизненного поля...», «Художник бедный слова! О жрец ее! тебе забвенья нет»; очевидное «я» лирическое тем самым объективируется), в целом — преобладание косвенных (в разной форме и степени) способов выражения лирической позиции автора. Можно легко усмотреть «программу» в стихотворениях «Последний Поэт» и «Приметы». Как программу поэта их и судил Белинский с позиций своей программы социально-исторического прогресса. Однако самая безнадежность представленной в этих стихотворениях ситуации исключает возможность превращения их настроения в программу. В значительно большей степени можно считать программным стихотворение «Благословен святое возвестивший!», однако программа эта (нравственное оправдание бесстрашного исследования) разноречит пафосу «Примет». В свою очередь, концепции этого методологического стихотворения разноречит настроение стихотворения «Все мысль да мысль!», где это же свойство поэзии (мысль, обнажающая «правду без покрова») предстает с другой, безотрадной для поэта стороны — что не означает тождества точки зрения автора в этом стихотворении и позиции «последнего поэта». Безотрадному знанию противопоставлена поэтическая вера, но с выразительными эпитетами: «Но детски вещаньям природы внимал, Ловил ее знаменья с верой», «Исчезнули при свете просвещенья Поэзии ребяческие сны», «Воспевает, простодушный, Он любовь и красоту...» А в «Ахилле» утверждается «живая вера» как единственное спасение для современного человека. Но эта вера не может быть «детской». Баратынский, жаждавший и искавший ее (ср. уже после «Сумерек» созданные в начале 40-х годов «Молитву», «Когда, дитя и страсти и сомненья...»), когда бы ее обрел, вероятно, мог бы сказать, как впоследствии Достоевский: «не как мальчик же я верую...»[85]. «Противоречие ответов» запечатлевает коллизию сознания современного поэта и шире — «бойца духовного» — в «борьбе верховной» его эпохи, которой он «обречен» («Ахилл»). Диалог «художника бедного слова» и бестрепетного исследователя («Благословен святое возвестивший!») в этом смысле — наиболее выразительный фокус-противоречие «Сумерек», «Осень» же, представляющая раскрытое сознание современного человека, — их духовный центр. Поистине о философской поэзии позднего Баратынского можно сказать, что в ней отразилась «собственная его философия, а не чужая». «Сумерки» как «поэма мысли» не есть поэма определенной философской мысли («чужой»), но скорее, по самобытному слову поэта, «вихревращенье» чувств и дум, «отвечающих на важные вопросы века» (Шевырев), — философски незамкнутое, открытое, каким оно представлено в «Осени»; в 11-13-й строфах ее воспроизводится вновь вариантная агностическая конструкция завершающих строф «На смерть Гете», но борьба двух тезисов окончательно лишена исхода и перекрыта ситуацией экзистенциального одиночества, невыразимости, несообщимости «земному звуку» и другому человеческому существу даже достигнутой веры и «утоленного разуменья»: «Какое же потом в груди твоейНи водворится озаренье, Чем дум и чувств ни разрешится в ней.
Последнее вихревращенье...»Поэзия, мысль, «живая вера» — три силы, образующие «вихревращенье», конфликтную философскую ситуацию «Сумерек». Поэзия между мыслью и верой, поэт — между поэзией мысли и поэзией веры. Беспроблемно и прими-ренно слиться та и другая не могут (трещина же между ними открылась еще тогда, когда было сказано: «Уж я не верую в любовь...» — и тем началась лирическая рефлексия Баратынского). Мысль и поэзия, мысль в поэзии — в лирическом сюжете «Сумерек» ведущая тема. И больше, чем тема: можно мысль назвать героиней поэзии Баратынского 30-х годов; она и действует прямо как героиня в ряде стихотворений — «О мысль! тебе удел цветка...», «Сначала мысль, воплощена...», «Все мысль да мысль!».
Последнее — классическое для поэзии мысли Баратынского, обращенной здесь на самое себя, исследующей самое себя. Мысль — героиня стихотворения — является в устрашающих уподоблениях-символах карающей справедливости и безжалостного света истины: «Но пред тобой, как пред нагим мечом, Мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная».Последний мотив — очевидно, гамлетовский («так врожденный цвет решимости покрывается болезненно-бледным оттенком мысли»[86]); в цепи же образных соответствий поэзии Баратынского это действие мысли подобно действию смерти в стихотворении 1828 г. («И краски жизни беспокойной, С их невоздержной пестротой, Вдруг заменяются пристойной, Однообразной белизной»). Так само по себе явление поэзии мысли в глазах поэта мысли предстает заключающим в себе суровый конфликт: поэзия, в которой «бледнеет жизнь», испаряющаяся в мысль, поэзия, как бы сама себя отрицающая и выводящая из круга «чувственных», полнокровных, звучащих, зримых, красочных, осязаемых, «счастливых» искусств, несчастная поэзия, «художник бедный слова».«Резец, орган, кисть! счастлив, кто влеком К ним чувственным, за грань их не ступая! Есть хмель ему на празднике мирском!»Последним эпитетом конфликту сообщается религиозно-аскетическая интерпретация, художник бедный слова облекается в монашеский образ (а рядом в «Сумерках» — яркострастная эротическая концепция творчества в стихотворении о скульпторе). Такова современная поэзия и таков современный поэт («простодушный» «последний поэт» противостоит ему в общем плане «Сумерек» как внеисторическая утопия), таков его трудный подвиг, таков Баратынский сам. Пушкинское «оригинален — ибо мыслит» так или иначе было затем повторено о Баратынском всеми. Однако с оригинальностью этой связалось и представление об известной неполноценности, даже ущербности его поэзии как поэзии. «Он мыслил стихами, если можно так выразиться, не будучи собственно ни поэтом в смысле художника, ни сухим мыслителем» — это суждение Белинского (1844)[87], в сущности, будет повторено И.С. Аксаковым в его биографии Ф.И. Тютчева (1874): Баратынский-поэт здесь поставлен между Хомяковым, стихи которого — «это как бы отрывки целой, глубоко обдуманной, исторически-философской или нравственно-богословской системы»[88], и Тютчевым, которому «элемент мысли» не мешал быть непосредственным, «чистейшим»[89]поэтом, «поэтом в смысле художника» (по Белинскому).
Подобное отграничение проводил и И.С. Тургенев (в письме С.Т. Аксакову 1854 г.): «Баратынский не поэт в единственно истинном, в пушкинском смысле... Ума, вкуса и проницательности у него было много, может быть, слишком много — каждое слово его носит след не только резца — подпилка, стих его никогда не стремится, даже не льется»[90]. Тогда же Тургенев писал о стихах Тютчева, что «они все кажутся написанными на известный случай, как того хотел Гете», и оттого их мысль «никогда не является нагою и отвлеченною, но всегда сливается с образом, взятым из мира души или природы...»[91]. Итак, в сравнении с Тютчевым усматривалась определенная межеумочность и поэтическая недостаточность Баратынского. Этот взгляд на поэта был обычным в ближайшем потомстве, на протяжении XIX столетия (приведенные отклики характерно охватывают разные его периоды).
Баратынский редко бывал, как Тютчев, поэтом «на случай», и его «широкие думы» чаще всего лишены действительно тютчевской непосредственной порожденности лирическим моментом[92] или картиной природы; у Баратынского обратная связь природы и мысли: если в порядке текста монументальная, «державинская» картина осени вызывает к размышлению осень человека и человечества («современного человечества»), то, по существу, конечно, порядок картины и мысли иной, и звучно-красочное описание времени года оказывается — уже в итоге — интеллектуальной метафорой. Так «бледнеет жизнь» в стихе Баратынского, обращаясь в мысль, но последняя в этой исключительной для русской поэзии прошлого века (в том числе и в сравнении с Тютчевым) умозрительно-разреженной атмосфере заживает действенной, драматической; поэтической жизнью. Киреевский после смерти поэта скажет, словно оспаривая не только недооценку современников, но и собственное его аскетическое самоопределение («Все мысль да мысль!»), о его «музыкальных мыслях», «сердечной мысли»[93].Поздний Баратынский создал свою трудную поэтику, свою необычную пластику выражения отвлеченного содержания и духовных событий, свою метафору, полностью выходящую из круга традиционного поэтического языка. Как образуется эта поэтика, можно разглядеть на одном примере из «Сумерек». В «Ахилле» первое пятистишие рисует древнего героя, в бою уязвимого «лишь в пяту». За этим следует историческое сопоставление: «Обречен борьбе верховной, Ты ли долею своей Равен с ним, боец духовный, Сын купели новых дней? Омовен ее водою, Знай, страданью над собою Волю полную ты дал, И одной пятой своею Невредим ты, если ею На живую веру стал».Краткое стихотворение вмещает «широкую думу», обнимающую и связующую оба конца истории. Происходит при этом полная дематериализация и одухотворение исторического движения и борьбы: «борьба верховная» наших дней совершается вся в духовной сфере, так что ее Ахилл — современный «боец духовный» — представлен как своего рода негатив древнего героя. Соответственно все материальные атрибуты древней истории — купель, вода и пята — обращаются в пластические знаки, метафоры идеального содержания «новых дней». И само содержание это «негативно» по отношению к содержанию древней борьбы, и знаки полностью перевернуты. В итоге — обширное обобщение в зримом пластическом образе, резко и странно (почти гротескно) наглядном, однако наглядном чисто метафорически, символически.
Тема стихотворения — переключение исторической событийности из физической сферы в духовную — порождает свою поэтику, обретает образ. Поэт как бы в самом деле видит это умозрительное событие. Без этой пятки на вере была бы и вправду «голая мысль» (таково же и «ухо мира», о котором была у нас речь, — того же типа и резкости образ). Такова умопостигаемая метафора Баратынского.«Ахилл» — метафора исторического содержания, «Недоносок» — метафизического. Единственный раз в своей лирике Баратынский в этом стихотворении передал голос другому «я», удивительному персонажу, которого наделил самостоятельным, хоть и метафорическим, бытием: это его характеризует «необычная для авторской интонации Баратынского щемящая наивность, инфантильность интонации»[94]. В то же время эта «чужая речь» — чистая и проникновенная лирика Баратынского.«Я» стихотворения — существо неопределенной природы, некий человекодух, чей образ и даже характер (в стихотворении создан его характер!) складывается из непредставимого совмещения признаков. «Недоносок» ни на что не похож и в лирике Баратынского, и во всей русской поэзии. Никак иначе не назовешь природу этого лирического героя, как метафорической, ибо это только метафора — но метафора олицетворенная, ставшая персонажем, лицом, существом. Это, как верно замечено, «не человек в маске, в роли духа, но действительно особое существо»[95]. Не человек, а дух, олицетворенный «крылатый вздох» — однако вдруг обретающий черты физического тела, которое бьет древесный лист, удушает прах летучий, и самая нематериальная легкость «вздоха» оборачивается лишь крайней физической слабостью: «Вьет, крутит меня как пух». Не человек, а дух, но высказывающий свое состояние на языке человеческих чувств, исполненный человеческой психологии, очень душевный дух, привязанный к человеку всем своим внутренним строем. Но все же — не человек, а особое существо — метафора, не поддающаяся простой расшифровке.
Метафора человеческого сознания, той Прометеевой искры, над которой не переставал всю жизнь размышлять Баратынский и которая здесь предстала столь слабой и неочищенной человеческой духовностью.«Недоносок» также отчасти реплика на стихотворение памяти Гете.«И если загробная жизнь нам дана, Он, здешней вполне отдышавший, И в звучных, глубоких отзывах сполна Все дольное долу отдавший, К Предвечному легкой душой возлетит, И в небе земное его не смутит».Как обычно у Баратынского, очень «необщее» и очевидно неортодоксальное понимание посмертного бытия души. Это легкое бытие тогда, когда человек на земле вполне изжил свою земную природу и этим вполне очистил от ее тяжести и от смешенья с земным, «смущенья» земным, от памяти о земном освобождающуюся душу. Но для этого надо при жизни не воспарять духом к небу, но, напротив, вполне отдышать здешней жизнью, отдать все дольное долу: концепция, очевидно, отвечающая жизненной философии самого Гете.Но как Баратынский-поэт никак не Гете как идеальный образ его поэзии, так Недоносок по всем статьям отличен от легкой души идеального человека-поэта. Недоносок — это реализованная метафора как раз неочищенного смешения в человеческом духе небесного и земного, легкого и тяжелого. Оттого этот дух так душевен и психологичен и так гротескно невесомо-материален. Стремящееся, духовное, легкое в человеке оказывается тяжелым для неба: «И едва до облаков Возлетев, паду слабея».Ритму этого маятникова движения, ограниченного полета, качания «меж землей и небесами» соответствует легкий хорей «Недоноска». Он слишком тяжел для неба, «крылатый вздох», и слишком легок и слаб пред стихиями промежуточного пространства, и в ритмической пляске стиха непосредственно выражаются неуправляемые метания этого существа «в полях небесных».Стихотворение названо «Недоносок» — это его основная загадка. Собственно, о недоноске речь идет в последних строках — о недоноске, которого на земле, очевидно, на миг «оживил», дал ему душу наш «бедный дух». «Отбыл он без бытия: роковая скоротечность!» Можно понять этого земного недоноска как мертворожденного, но, может быть, здесь говорится о роковой скоротечности человеческой жизни. Так или иначе, но несомненно, что название недоноска метафорически переносится с земного человека на самого бессмертного духа и становится символическим сгустком значений этого странного образа. Он остался невоплощенным и неприкаянным в «бессмысленной вечности», ущербным и жалким, подобно реальному недоноску: в метафорическом расширении этого слова важнее предметного его значения становится значение экспрессивное, внушающее представление о неполноценности и ущербности. Эта экспрессия и реализуется метафорически. «Недоносок» — стихотворение об ограниченной человеческой духовности и «бедности земного бытия» (еще раз вспомним слова Киреевского, приведенные выше).7Путь Баратынского заключился двумя стихотворениями, решительно отделившимися от всей его прежней поэзии.
Предшествовало же этому в начале 40-х годов сгущение тяжести противоречий и искание выхода. В стихотворении уже последнего года жизни «Когда, дитя и страсти и сомненья...» (первое из трех его последних стихотворений, написанных за границей), посвященном жене, страшным словом назван внутренний мир поэта: «Ты, смелая и кроткая, со мною В мой дикий ад сошла рука с рукою...» За этим словом то состояние открытого противоречия голосов и сил бытия, в котором поэт видел свою поэзию, тот внутренний спор, который ведут в ней ее «тревожные» и «мятежные» и ее же «смиряющие», гармонизирующие голоса, та борьба без исхода, на которой кончалось «К чему невольнику мечтания свободы?»[96]. Поэт ждет помощи от любви; она — спасение (сошествие во ад!) «Рай зрела в нем чудесная любовь». Баратынский знает в конце пути, «где стерегут нас ад и рай», и мир его поляризуется в этих категориях. Тех же поздних лет «Молитва» — об успокоении «болезненного духа».«И на строгий твой райСилы сердцу подай».Какого трудного усилия исполнены эти строки, какай скрывается в них не покоренная до конца мятежность! И не радостный, светлый, но «строгий рай» доступен преодолевшему «дикий ад». И на этом фоне загадкой и чудом поэзии Баратынского возникает венчающий ее удивительный «Пироскаф». Ибо это последнее стихотворение тоном своим отлично от всей поэзии Баратынского: единственное беспримесно-бодрое, уверенно устремленное в будущее стихотворение. При этом и постоянные отличительные черты своей поэзии здесь не забыты — поэт о них говорит; но они уверенно отнесены в прошлое, очень определенно звучит мотив подведения итога.«Много земель я оставил за мною; Вынес я много смятенной душою Радостей ложных, истинных зол; Много мятежных решил я вопросов, Прежде чем руки Марсельских матросов Подняли якорь, надежды символ!»Удивительное для Баратынского слово — решил; никогда не говорил он так прежде. Что оно означает? Означает ли «утоленное разуменье» и выход к «поэзии веры»? Можно только гадать о том, чем могло стать для поэзии Баратынского это стихотворение, в котором с необычной для него ясностью проведена черта, разделяющая прошедшее («смятенное» и «мятежное») и будущее, берег, оставленный позади («С брегом набрежное скрылось, ушло!»), и новый берег впереди.«Нужды нет, близко ль, далеко ль до брега! В сердце к нему приготовлена нега».«Брегу» этому было предвестие у поэта — плавание к берегу веры, оправдания Промысла и утоленного разуменья в 12-й строфе «Осени». «Иль, отряхнув видения земли Порывом скорби животворной, Ее предел завидя невдали, Цветущий брег за мглою черной...»Не к этому ли берегу сейчас направляется пироскаф?
Биографически-географически он плывет из Марселя в Италию, а поэтически, символически? «Завтра увижу я башни Ливурны, Завтра увижу Элизий земной!» Такая уверенная надежда — тоже новая нота. И близящийся Элизий земной, к которому приготовлена нега — это не напряженный и аскетический «строгий рай». Комментаторы пробуют объяснять настроение «Пироскафа» приливом общественных надежд, в особенности парижским общением с молодыми русскими эмигрантами-радикалами, друзьями Герцена, с которыми поэт вел речи об уничтожении крепостного права. Действительно, необычный для него подъем общественной заинтересованности и патриотического чувства засвидетельствован не только мемуаристами, но и его заграничными письмами (ранее мы цитировали из новогоднего письма на 1844 г.). Это, хотя и слабо выражено, но родственно той общественной «вере», о которой поэт писал, откликаясь на политическую поэзию Барбье. Тем не менее мы мало что можем сказать о переменах в мировоззрении Баратынского в его заграничный год.
Вероятно, зрели «новые сердечные убеждения», говоря его словами из того же письма о Барбье, и общественно-патриотические надежды входили сюда элементом. Главным свидетельством о сокровенном мире поэта — свидетельством о чуде — остается для нас пафос и тон его последнего стихотворения. Эти пафос и тон недавно были объяснены «предчувствием ожидавшей его в Италии смерти, навстречу которой он плыл». Так почувствованное, это плавание к блаженному и «цветущему» («за мглою черной») новому берегу (до которого «нужды нет», близко ли, далеко ли) обращается в «плавание из времени в вечность»[97]. Интуиция эта, кажется, подкрепляется и совсем последним стихотворением — «Дядьке-Итальянцу», о котором почти всегда забывают исследователи: между тем оно вместе с «Пироскафом» являет новые звуки поэзии Баратынского. В стихотворении этом сливаются итальянско-райские и смертные мотивы; поэт вспоминает, сколько «сердец мятежных» в протекшей истории искало отдохновения здесь, в садах Неаполя. «И кто, бесчувственный среди твоих красот, Не жаждал в их раю обресть навес иль грот, Где б скрылся, не на час, как эти полубоги, Здесь Лету пившие, чтоб крепнуть для тревоги, Но чтоб незримо слить в безмыслии златом Сон неги сладостной с последним, вечным сном».«Дядьке-Итальянцу» ново для Баратынского героем, материалом, взглядом на историю. Жизнь человека совсем простого, состоящая из густого быта. Однако дана эта жизнь на фоне большой истории и слита с глубокими экзистенциальными темами.
|
|