
Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Глава I письмо как система знаков
|
|
СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ МЫСЛЕЙ
Двумя наиболее важными проявлениями человеческого поведения являются самовыражение и коммуникация. Первое относится к тому, что мы могли бы назвать личным поведением, второе — к социальному поведению. Человек имеет много средств, как естественных, так и искусственных, для выражения своих мыслей и чувств. Он может дать естественный выход своей радости, смеясь или напевая, а также своему горю, плача или стеная. Он может выражать себя и при помощи искусственных средств, то есть написанного им стихотворения, картины или какого-либо другого произведения искусства. Человек может пытаться передать свои чувства, мысли или понятия, применяя условные и общепринятые образы. Какова же связь между самовыражением и коммуникацией? Существуют ли самовыражение или коммуникация в чистом виде? Не обстоит ли, скорее, дело так, что человек как социальное существо <...> ζ ώ ο ν π ο λ ι τ ι κ ό ν Аристотеля всегда находится или думает, что находится, в таких условиях, в которых он может выразить себя исключительно при помощи коммуникации? И наоборот, не являются ли великие шедевры искусства или поэзии формами коммуникации, возникшими в результате самовыражения индивидуумов? Мне кажется, что цели самовыражения и коммуникации так тесно сплетены во всех формах человеческого поведения, что обычно бывает невозможно говорить об одной из них, не будучи вынужденным в то же время касаться и другой.
* Гельб И.Е. Опыт изучения письма: Основы грамматологии/Перевод с англ. М., 1982. С. 13-33.
Для того чтобы сообщать мысли и чувства, должна существовать общепонятная система условных знаков или символов, которые, будучи применены одними лицами, оказываются понятны другим, воспринимающим эти знаки или символы. Коммуникация при обычных обстоятельствах предусматривает присутствие двух (или более) лиц, из которых одно (одни) передает (передают), а другое (другие) принимает (принимают) данное сообщение.
— Регулярная проверка качества ссылок по более чем 100 показателям и ежедневный пересчет показателей качества проекта.
— Все известные форматы ссылок: арендные ссылки, вечные ссылки, публикации (упоминания, мнения, отзывы, статьи, пресс-релизы).
— SeoHammer покажет, где рост или падение, а также запросы, на которые нужно обратить внимание.
SeoHammer еще предоставляет технологию Буст, она ускоряет продвижение в десятки раз, а первые результаты появляются уже в течение первых 7 дней. Зарегистрироваться и Начать продвижение
Процесс коммуникации состоит из двух частей: передачи и приема. Так как средства передачи сообщения слишком разнообразны и многочисленны, чтобы их можно было подвергнуть какой-либо систематической классификации, нам приходится начинать с рассмотрения приема сообщения. Прием сообщения осуществляется при помощи наших чувств, из которых зрение, слух и осязание играют наиболее важную роль. Теоретически могли бы учитываться и другие чувства, такие, как обоняние и вкус, но практически их роль чрезвычайно ограничена, и полностью развитой системы знаков на их основе не возникает.
Зрительная коммуникация может осуществляться посредством жестов и мимики. Они являются частыми спутниками речи, хотя интенсивность их употребления находится в зависимости от индивидуальных свойств говорящего, от социального слоя или этнической группы. Употребление жестов и мимики для достижения ораторского эффекта или вследствие природного импульса бывает свойственно одним людям больше, другим меньше. В нашем обществе считается дурным тоном «разговаривать руками». Общеизвестно, что в Европе южане, например итальянцы, употребляют как жестикуляцию, так и мимику в значительно большей мере, чем, например, скандинавы или англичане. Сочетание языка и жеста повсеместно играло важную роль в ритуальных действиях. Ограничения, налагавшиеся на употребление устной речи условиями как естественного, так и искусственного характера, привели к возникновению и развитию систем коммуникации, опирающихся на жесты и мимику. Таковы системы, созданные для глухонемых, лишенных природной способности пользоваться естественным языком. Сюда же относится и язык жестов монахов-траппистов, которые из-за данного ими обета молчания были вынуждены создать систему, заменяющую речь. Различные системы языка жестов часто употребляются среда аборигенов Австралии, например вдовами, которым нельзя произносить ни слова в период траура. Наконец, система языка жестов, употребляемая индейцами прерий, была введена, когда возросла потребность общения между их племенами, говорящими на различных, взаимно непонятных языках.
Среди других средств коммуникации, обращенных к глазу, следует упомянуть оптические сигналы, подаваемые при помощи огня, дыма, света, семафоров и т.д.
— Разгрузит мастера, специалиста или компанию;
— Позволит гибко управлять расписанием и загрузкой;
— Разошлет оповещения о новых услугах или акциях;
— Позволит принять оплату на карту/кошелек/счет;
— Позволит записываться на групповые и персональные посещения;
— Поможет получить от клиента отзывы о визите к вам;
— Включает в себя сервис чаевых.
Для новых пользователей первый месяц бесплатно. Зарегистрироваться в сервисе
Одной из простейших форм слуховой коммуникации может, например, считаться свист с целью окликнуть кого-либо. Свист и аплодисменты в театре являются другими простыми примерами такого рода коммуникации. Иногда для подачи акустических сигналов используются искусственные средства, такие, как барабаны, свистки и трубы.
Наиболее важной системой слухового общения является разговорный язык, обращенный к уху человека, получающего сообщение. Язык универсален. На протяжении времени, доступного нашему знанию, никогда не существовало такого человеческого сообщества, которое не обладало бы полностью развитым языком.
Простейшими способами передачи чувств при помощи осязания являются, например, рукопожатие, похлопывание по спине, любовное поглаживание. Полностью развитая система коммуникации посредством знаков, подаваемых касанием рук, употребляется слепоглухонемыми. <...>
Средства коммуникации, упомянутые выше, имеют две общие черты: 1) все они обладают мгновенной длительностью и, следовательно, ограничены во времени: едва слово произнесено или едва сделан жест, как их уже нет, и их нельзя восстановить иначе, как путем повторения; 2) они могут употребляться только при общении между людьми, находящимися на более или менее близком расстоянии друг от друга, и, таким образом, эти средства коммуникации ограничены в пространстве.
Потребность найти пути передачи мыслей и чувств в формах, не ограниченных временем и пространством, привела к развитию способов коммуникации при помощи 1) предметов и 2) меток на предметах или на каком-либо прочном материале.
Число зрительных средств коммуникации при помощи предметов неограниченно. Когда человек кладет на могилу груду камней или ставит каменный памятник, он хочет выразить свои чувства к покойному и сохранить память о нем в грядущем. Крест, символизирующий веру, или якорь, символизирующий надежду, представляют собой примеры такого же рода. Другим современным пережитком коммуникации при помощи предметов являются также четки, каждая бусина которых в зависимости от ее местоположения и размера как бы воскрешает в памяти определенную молитву. Мы можем еще упомянуть здесь так называемые «языки цветов и камней», в которых каждый цветок или камень якобы способен передать определенное чувство.
Системы мнемонических знаков для ведения счета при помощи предметов известны по всему миру. Простейшими и наиболее распространенными из них являются так называемые «счетные палочки» для учета скота: это обыкновенные деревянные палочки с зарубками, соответствующими количеству голов скота, находящегося на попечении пастуха. Другим простым способом является учет скота при помощи камешков в мешке. Более сложная мнемоническая система имела хождение у перуанских инков. Это так называемое «письмо кипу», в котором данные, касающиеся числа предметов или живых существ, передаются посредством шнуров и узлов различной длины и разного цвета. Все сообщения о предполагаемом употреблении кипу для передачи хроник и исторических событий — чистейшая фантазия. Ни перуанское письмо, ни современные узелковые письменности Южной Америки и японских островов Рюкю не имели и не имеют никакого иного назначения, кроме записи простейших данных учетного характера.
Здесь мы должны также упомянуть индейские вампумы, состоящие из шнуров с нанизанными на них морскими раковинами; эти шнуры часто бывают сплетены в пояса. Вампумы служили деньгами, украшением, а также средством коммуникации. Совсем простые по форме разноцветные вампумы -шнуры употреблялись для передачи сообщений; при этом следовали принятым у индейцев условным цветам <...>: белые раковины обозначали мир, багровые или фиолетовые — войну и т.д. <...>
Предметы употребляются как помощники памяти для передачи поговорок и песен у негров эве, причем по форме эти мнемонические средства ничем не отличаются от более поздних письменных символов тех же эве <...>. Карл Мейнхоф рассказывает, что один миссионер нашел в туземной хижине веревку, к которой было привязано много предметов: перо, камень и т.д. В ответ на его вопрос о назначении шнура с привязанными предметами ему было сказано, что каждый предмет подразумевает определенную поговорку. Мэри X. Кингсли рассказывает о другом обычае, распространенном в Западной Африке среди местных певцов: они носят повсюду с собой сетку с различными предметами — трубками, перьями, шкурками, птичьими головами, костями и т.п., — каждый из которых служит напоминанием о какой-либо песне. Исполнение этих песен сопровождается пантомимой. Слушатели выбирают какой-либо определенный предмет и перед исполнением рядятся о цене, которая должна быть уплачена певцу. Таким образом, сетка певца может рассматриваться как репертуар его песен.
Раковины каури часто употребляются для целей коммуникации. Так, у африканского народа йоруба одна раковина каури означает «вызывающее поведение и раздор», две раковины рядом означают «тесные отношения и встреча», две раковины отдельно одна от другой — «разлука и вражда» и т.д. Поразительно, что здесь развивается фонетический принцип <...>, проявляющийся в следующих ниже примерах. Шесть раковин каури означают «привлекательный», потому что слово efa в языке йоруба имеет значения «шесть» и «привлекательный». Соответственно послание, представляющее собой шнур с шестью раковинами, будучи передано молодым человеком девушке, означает: «я нахожу тебя привлекательной, я люблю тебя»; а так как слово еуо имеет значение «восемь» и «согласен», то ответ девушки молодому человеку, состоящий из шнура с восемью раковинами, означает: «согласна, я чувствую то же, что и ты».
Современным примером употребления предметов для целей коммуникации может служить эпизод в рассказе писателя Йокаи, в котором один человек посылает другому коробку кофе, чтобы предупредить его об опасности, угрожающей ему со стороны полиции. Эпизод может быть понят, если учитывать действие фонетического принципа: по-венгерски кофе — ká vé, что похоже по звучанию на латинское cave, что значит «берегись!».
Сообщают о случае, чрезвычайно интересном со сравнительной точки зрения. Он засвидетельствован в той самой стране народа йоруба, где для коммуникативных посланий так часто используются раковины каури. При нападении царя Дагомеи на их город один из туземцев-йоруба был взят в плен. Поспешив известить жену о своей беде, он послал ей камень, кусок угля, перец, зерно и лохмотья с целью передать ей следующее сообщение: камень означал «здоровье» — в том смысле, что, «как камень тверд, так твердо и сильно мое тело»; уголь значил «мрак» — «как черен уголь, так темно и мрачно мое будущее»; перец указывал на «жжение», что означало: «как жжет перец, так жжет и у меня внутри из-за мрачного будущего»; зерно означало «иссохший», и под этим подразумевалось следующее: «как зерно иссохло при сушке, так и мое тело иссохло, опаленное жаром моего горя и моих страданий»; и, наконец лохмотья означали «изношенный», что надо было понимать так: «каковы эти лохмотья, такова и моя одежда, изношенная и превратившаяся в рвань». Совершенно аналогичное послание описывается у Геродота (IV, 131 и cл.): «Скифские цари... отправили к Дарию глашатая с дарами, послав ему птицу, мышь, лягушку и пять стрел. Персы спросили посланца, что означают эти дары, но тот ответил, что ему приказано только вручить дары и как можно скорее возвращаться. По его словам, если персы достаточно умны, [то они] должны сами понять значение этих даров. Услышав это, персы собрали совет. Дарий полагал, что скифы отдают себя в его власть и приносят ему [в знак покорности] землю и воду, так как де мышь живет в земле, питаясь, как и человек, ее плодами, лягушка обитает в воде, птица же больше всего похожа [по быстроте] на коня, а стрелы означают, что скифы отказываются от сопротивления. Такое мнение высказал Дарий. Против этого выступил Гобрий (один из семи мужей, которые низвергли мага). Он объяснил смысл даров так: «Если вы, персы, как птицы не улетите в небо, или как мыши не зароетесь в землю, или как лягушки не поскачете в болото, то не вернетесь назад, пораженные этими стрелами». Так персы стремились разгадать значение даров».* Тем современным историкам культуры, которые захотят возразить против некоторых из моих реконструкций, опирающихся на сравнение древних народов и современных примитивных обществ <...>, нелегко будет пренебречь значением приведенных здесь обычаев, засвидетельствованных параллельно как в древности, так и в Новое время.
* Русский перевод приводится по кн.: Геродот. История в девяти книгах/Перев. и прим. Г. А. Стратановского. Л., 1972. С. 219-220. — Прим. перев.
Еще одна параллель к двум приведенным выше эпизодам обнаружена в Средней Азии. Речь идет о любовной записке, посланной местной девушкой молодому человеку, в которого она влюбилась. Ее любовное письмецо представляло собой мешочек с различными предметами, которые означали следующее: комочек спрессованного чая — «я больше не могу пить чай»; соломинка — «потому что я пожелтела от любви к тебе»; красный плод — «меня бросает в краску, когда я думаю о тебе»; сушеный абрикос — «я сохну»; кусок древесного угля — «мое сердце сгорает от любви»; цветок — «ты прекрасен»; кусок сахару — «ты сладостен»; камешек — «разве твое сердце — камень?»; перо сокола — «если бы у меня были крылья, я бы полетела к тебе»; ядро грецкого ореха — «я отдаюсь тебе».
Все средства коммуникации такого рода по-немецки иногда называются Sachschrift или Gegenstandsschrift, то есть «предметное письмо», на что нет совершенно никаких оснований, так как они не имеют ничего общего с письмом в обычном понимании. Неудобство использования предметов помешало развитию сколько-нибудь полной системы и привело к географической ограниченности способов предметной коммуникации.
Письмо осуществляется не посредством самих предметов, а при помощи меток на них или на любом другом материале. Письменные знаки обычно выполняются двигательными действиями руки, которая либо чертит, либо рисует кистью, либо выцарапывает, либо вырезает. Это нашло отражение в значении и этимологии слова «писать» во многих языках мира. Английское слово to write «писать» соответствует древнескандинавскому rī ta «вырезать (руны)» и современному немецкому reissen, einritzen «разрывать, вырезать, выцарапывать». Греческое слово γ ρ ά φ ε ι ν «писать» (ср. интернациональное заимствование «графика», «фонография» и т.д.) значит также «высекать»; ср. нем. kerben. Латинское scribere, немецкое schreiben, английское scribe, inscribe и т.п. первоначально значили «вырезать» <...>. И наконец, славянское писати «писать» тоже первоначально было связано с рисованием кистью (ср. русское живопись), что подтверждается связью с латинским pingere «рисовать кистью». <...>
Рассмотренные здесь выражения не только раскрывают механику процесса письма, но и указывают на весьма тесную связь между рисунком и письмом. Так оно и должно быть, поскольку наиболее естественным образом передача мыслей посредством зримых меток достигается при помощи рисунка. Именно рисунок, хотя и весьма несовершенным образом, обеспечивал те нужды первобытных людей, которые в Новое время удовлетворяются письмом. В дальнейшем рисунок развивался в двух направления: 1) как изобразительное искусство, в котором рисунок (или картина) продолжает воспроизводить более или менее добросовестно предметы и события окружающего мира в форме, не зависящей от языка, и 2) как письмо, в котором знаки, независимо от того, сохраняется их рисуночная форма или нет, превращаются в конце концов во вторичные символы для передачи понятий, выраженных языковыми средствами.
Все случаи устойчивой коммуникации, достигнутой путем осязательного восприятия (например, по системе Брайля) или восприятия слухового (например, при слушании граммофонных пластинок), представляют собой вторичные переносы <...>, развившиеся из систем, созданных на основе зрительного восприятия.
Рис. 1 в виде таблицы показывает некоторые средства коммуникации, доступные человеку.
Рассматривая различные системы взаимной коммуникации людей, не следует упускать из виду необходимости дифференцировать системы первичные и вторичные. Это различие может быть наилучшим образом проиллюстрировано следующим примером. Когда отец подзывает сына свистом, он без использования каких бы то ни было языковых форм выражает свое желание, чтобы мальчик оказался в определенном месте. Его мысль или ощущение прямо и сразу передаются свистом. Это первичный способ коммуникации. Но когда отец пытается позвать сына, высвистывая буквы азбуки Морзе так, чтобы получилось с-ы-н, он пользуется языковым переносом. Его желание, чтобы мальчик оказался в определенном месте, передается свистом не непосредственно, а при помощи языковых средств. Это и есть то, что мы называем вторичным средством коммуникации.
| Мгновенная коммуникация | Стабильная коммуникация | |
| Для зрительного восприятия | Жест; мимика; выражение лица, глаз; чтение по губам; мимический танец; подача сигналов огнем, дымом, светом, семафором. | (а) Предметы: крест и якорь; язык цветов или камней; счетные палочки; камешки; кипу; раковины каури (б) Начертания на предметах: рисунок или скульптура; письмо. |
| Для слухового восприятия | Свист; пение и напевание; аплодисменты и одобрительный свист; речь; подача сигналов барабанами, свистками, фанфарами. | Граммофонные пластинки или диктофонные цилиндры. |
| Для осязатель-ного восприятия | Рукопожатие, похлопывание по спине, поглаживание; знаки, подаваемые прикосновением у слепоглухонемых. | Чтение пальцами рельефных или выгравированных надписей; система Брайля. |
Рис. 1. Способы коммуникации идей.
Границ вторичным переносам нет. Например, произнесенное слово сын является первичным речевым знаком. В написанном слове сын перед нами письменный знак, использованный для речевого знака. Если затем это написанное слово с-ы-н передать световыми сигналами, то вспышки света будут знаками письменных знаков, которые являются знаками речевых знаков, то есть будут знаками знаков, которые в свою очередь являются знаками знаков. И так до бесконечности. <...>
Что лежит в основе взаимной коммуникации? Что мы подразумеваем, когда говорим, что сообщаем свои идеи, мысли или чувства? Возьмем три конкретных примера из повседневной жизни: что именно сообщается жестом оратора, призывающего к тишине, или звоном будильника, или уличным знаком «стоп»? Для лингвистов бихевиористской школы ответ ясен и прост: все, что мы сообщаем, — язык. С их точки зрения, язык — единственное средство, при помощи которого люди общаются друг с другом, а все прочие способы взаимной коммуникации не более как вторичные заменители языка. Даже сам процесс мышления для них не что иное, как «безмолвный разговор», который, как они считают, всегда сопровождается «беззвучными движениями голосовых органов, заменяющими речевые движения, но незаметными для других людей». Однако как раз в этом пункте хотелось бы отойти от принципиальной догмы лингвистов, принадлежащих к бихевиористской школе. Конечно, безмолвный разговор играет важную роль во всех формах мышления, в особенности в случаях напряженных размышлений. Например, обдумываемая ситуация, в которой вы намерены сказать другому человеку: «Выйди вон!», — легко может сопровождаться заметным движением губ, иногда даже озвученным. Но с другой стороны, известно из опыта, подтвержденного специальными психологическими экспериментами, что мы можем думать и при отсутствии беззвучного потока слов, а также понимать назначение предметов, слов для которых мы не знаем. Наконец, глухонемые от рождения вполне способны общаться друг с другом без какого бы то ни было голосового фона, и если у них напряженные размышления подчас сопровождаются более или менее заметными движениями рук и лица, то такие рефлексы должны рассматриваться как вторичные и как стоящие в одном ряду с заметными движениями губ в случаях «беззвучной речи» у людей, способных говорить нормальным образом. Немало других примеров приема коммуникации без языкового фона можно найти в нашей повседневной жизни. Когда я вскакиваю с постели поутру на звук будильника или останавливаюсь по дорожному сигналу «стоп», то реакция моя бывает мгновенной и лишенной вмешательства каких-либо языковых форм: звон будильника или вид дорожного сигнала обращены к моему сознанию непосредственно.
Между процессом передачи и процессом приема сообщения часто бывает огромная разница. В то время как процесс медленного письма может сопровождаться беззвучными движениями голосовых органов, эти движения трудно, если не невозможно, выявить у лиц, которые могут читать про себя в два или три раза быстрее, чем вслух. Установлено, что многие люди могут читать глазами без промежуточного потока речевых знаков.
Конечно, почти все системы знаков могут быть превращены в какую-либо языковую форму, но это может происходить именно потому, что речь является наиболее полной и развитой из всех знаковых систем; однако делать отсюда вывод, что речевые формы представляют собой необходимый фон для любой взаимной коммуникации людей, было бы заблуждением. Ведь никто не станет утверждать, что все в мире — деньги, только лишь потому, что все в мире может быть (теоретически) обращено в деньги. <...>
Только после того, как письмо развилось в собственно фонетическую систему, воспроизводящую элементы речи, появляется возможность говорить о практическом совпадении письма с речью, а также об эпиграфике и палеографии как разделах лингвистики.
Эта колоссальная разница между семасиографической ступенью письма (выражающей значения и представления, лишь слабо связанные с речью) и его фонографической ступенью (выражающей речь) должна нами тщательно учитываться, в особенности ввиду полемики, которая постоянно возникает по вопросам, связанным с определением письма. Те специалисты по общему языкознанию, которые определяют письмо как способ передачи речи при помощи зримых знаков и принимают письменный язык за эквивалент его устного двойника, которому он следует пункт за пунктом, недооценивают историческое развитие письма и неспособны видеть, что такое определение неприменимо к ранним ступеням письма, на которых последнее лишь слабо отражает устную форму языка. С другой стороны, филологи, которые полагают, что письмо даже после его фонетизации употреблялось для записи или передачи как идей, так и звучания, неспособны понять того, что, как только человек открыл способ выражения точных форм речи посредством письменных знаков, письмо утратило свой независимый характер и стало по преимуществу письменным заменителем своего устного двойника.
ДЕФИНИЦИЯ ПИСЬМА
Если неискушенного человека попросить дать определение письма, он, скорее всего, ответит примерно так: «Да нет ничего проще. Всякий ребенок знает, что это один из трех предметов, которым учат с первого класса, а выражение «азбучная истина» обозначает элементарнейшие познания по любому вопросу». Однако дело обстоит не так просто.
Письмо восходит к тем временам, когда человек учился передавать свои мысли и чувства при помощи зримых знаков, понятных не только ему самому, но также и другим людям, более или менее осведомленным о той конкретной системе, в которую входят эти знаки. Первоначально рисунки служили в качестве зримого выражения мыслей человека, причем эта рисуночная форма была в значительной мере независима от речи, выражавшей мысли в слышимой форме. Связь между письмом и речью была на ранних ступенях письма весьма слабой <...>. Всякое послание имело только один смысл и могло быть интерпретировано читателем только одним определенным образом, но «прочесть», то есть выразить его словами, можно было по-разному и даже на разных языках.
В дальнейшем систематическое осуществление так называемой «фонетизации» дало человеку возможность выражать свои мысли в формах, которые соответствовали определенным категориям речи. С этого момента письмо постепенно утрачивает характер независимого средства выражения мыслей и превращается в инструмент речи, в средство, при помощи которого определенные формы речи могли быть запечатлены в устойчивом виде. <...>
Если мы согласны считать, что паровая машина началась с Уатта, то должны быть готовы допустить, что и письмо началось лишь тогда, когда человек научился с его помощью передавать понятия в языковом выражении. А потому мы готовы были бы признать, что письмо, как и полагают некоторые лингвисты, является именно приемом фиксации речи и что все ступени, на которых письмо не служит этой цели, не что иное, как подходы к письму, а не письмо в подлинном смысле слова. Однако такого рода ограничение, вводимое в определение письма, не может считаться приемлемым, так как оно не учитывает того факта, что обе ступени имеют одну общую цель: служить средством взаимной коммуникации людей при помощи зримых условных знаков. Далее, совершенно невозможно сваливать в одну кучу все древние или примитивные письменности и рассматривать их как находящиеся на одинаково низком уровне развития. Хотя все древние письменности непригодны для адекватной передачи речи, некоторые из них, как, например, письменности майя и ацтеков, достигли такого уровня систематизации и такой степени условности, которые в какой-то мере позволяют сравнивать их со вполне развитыми письменностями, такими, как шумерская и египетская.
Так все же, что такое письмо? Письмо — это система взаимной коммуникации людей при помощи условно применяемых зримых знаков. Однако из сказанного выше совершенно очевидно, что первобытные люди понимали под письмом совершенно не то, что понимаем мы. Вопрос о том, что лежит в основе письма — слова или понятия, — тот же, что и вопрос, который лежит в основе проблемы взаимной коммуникации людей вообще <...>.
У первобытных индоевропейцев, семитов и индейцев потребность в письме удовлетворялась простым рисунком или рядом рисунков, которые обычно не имели отчетливой связи с каким-либо языковым формообразованием. Так как рисунки понятны сами по себе, нет необходимости, чтобы они соответствовали какому-либо знаку разговорного языка. Это и есть то, что мы называем примитивной семасиографией.
Для нас, кто бы мы ни были — дилетанты или ученые, — письмо является письменным языком. Спросите прохожего на улице, и он ответит вам так не колеблясь. <...> В своем мнении они могут опираться на авторитет Аристотеля, который много веков тому назад в первой главе трактата «Об истолковании» сказал: «Итак, то, что в звукосочетаниях, — это знаки представлений в душе, а письмена — знаки того, что в звукосочетаниях».*
* Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1978. Т. 2. С. 93. — Прим. сост.
Я целиком согласен с лингвистами, которые полагают, что собственно письмо превратилось в способ выражения языковых элементов при помощи зримых знаков. Возьмем, например, следующее предложение: «Mr. Theodore Foxe, age 70, died to-day at the Grand Xing Station». «Мистер Теодор Фокс, семидесяти лет, скончался сегодня в госпитале Гранд-Кроссинг». Хотя английское письмо, подобно латинскому, считается алфавитным, совершенно очевидно, что запись приведенного предложения чисто алфавитной не является. Помимо таких букв, как е, о, d, выражающих соответствующие им отдельные звуки, мы имеем здесь диграмму th для спиранта θ, букву х для двух согласных ks, словесный знак 70 для слова «семьдесят» и, наконец, символ ребусного типа Х в сочетании с алфавитным написанием ing для слова Crossing. Хотя письмо в данном случае представляется несистематичным, тем не менее каждый знак или сочетание знаков имеет здесь свое звуковое соответствие в устной речи. Абсурдно рассматривать написание «70» в отличие от фонографического написания «died» как идеограмму, хотя филологи обычно делают это, исходя лишь из того, что такое написание содержит столь разные значения, как «семь, ноль, семьдесят, семидесятый» и т.д. На самом деле оба написания и «70», и «died», в равной мере ассоциируются с соответствующими им словами «seventy» и «died» и вызывают представление соответственно о числе и о смерти. Тот факт, что написание «70»— логографическое, а «died»—алфавитное, представляет собой случайный выбор одной из возможностей письма и не должен удивлять нас больше, чем встречающиеся различия в написании других слов, например «Mister» или «Mr.», «compare» или «cf.», «and» или «&». Во всех приведенных случаях в равной мере наблюдается условное употребление определенных знаков для определенных форм речи.
Если под «языковыми элементами» понимать отрезки предложения, слова, слоги, отдельные звуки и просодические признаки, то окажется, что предложение, рассмотренное выше, содержит исключительно знаки для слов, отдельных звуков и просодических признаков. Фразеограммы, или знаки для отрезков предложений, в обычных письменностях встречаются редко, но они составляют существенную часть всех стенографических систем. Слоговые знаки, само собой разумеется, характерны для слоговых письменностей. Из числа просодических признаков, таких, как количество (или долгота), акцент (или ударение), тон и паузы, только последние отчасти бывают выражены словоделением, а также знаками препинания в виде запятых. Обычно письмо не передает сколько-нибудь адекватно просодические признаки. Например, в таком предложении, как «Вы идете домой?», вопрос выражен при помощи вопросительного знака, однако определение того, к какому слову этот вопрос относится, к первому, второму или третьему — оставляется на усмотрение читателя. В отличие от этого в научной транслитерации для передачи просодических признаков часто применяются специальные знаки. Таковы различные диакритические значки или цифровые индексы. Например, в написании dē mos (греч.) обозначены количество и ударение, а в написании ku3 (шумерск.) обозначен тон. Исчерпывающим образом тон и его повышение и понижение фиксируются только в системе нотной записи. На рис. 2 приводятся в виде таблицы различные способы написания языковых элементов. <...>
Письмо никогда не может рассматриваться как точный эквивалент устной формы языка. Такое идеальное соответствие, при котором одна речевая единица выражалась бы одним знаком, а один знак выражал бы только одну речевую единицу, так и не смогло быть достигнуто письмом. Даже алфавитное письмо, наиболее развитая из всех форма письма, изобилует проявлениями непоследовательности в передаче отношений между знаком и звуком. <...>
| Письменный знак | Система знаков | |
| Отдельный звук (фонема) | Буква, или алфавитный знак | Алфавит, или алфавитное письмо, или буквенное письмо |
| Слог | Силлабограмма, или силлабический знак, или слоговой знак | Силлабография, или силла бическое письмо, или слоговое письмо |
| Слово | Логограмма, или словесный знак | Логография, или словесное письмо |
| [Фраза | Фразеограмма, или фразовый знак | Фразеография, или фразо вое письмо] |
| [Просодический признак | Просодический знак | Просодическое письмо] |
Рис. 2. Способы написания языковых элементов.
При всем при том общая констатация того факта, что собственно письмо выражает речь, не означает, что оно не выражает ничего, кроме речи. Любое письмо, даже наиболее развитое фонетическое письмо, изобилует формами, которые, будучи прочитаны вслух, двусмысленны и легко могут быть поняты неправильно. Существование так называемых «визуальных морфем», то есть форм, которые передают значение только на письме, показывает, что письмо может иногда функционировать в качестве средства коммуникации отдельно от речи и в дополнение к ней. Из множества примеров визуальных морфем в английском приведем следующие <...> случаи такого различения значений, выраженного написанием слов: check-cheque («препятствие» — «чек»), controller— comptroller («контроллер; контрольный механизм» — «финансовый контролер; инспектор»), compliment— complement («комплимент» — «комплемент»). <...>
В современном употреблении иногда встречаются знаки, не имеющие точных общепринятых речевых соответствий. Например, стрелка, использованная в качестве символа, может иметь разные значения, зависящие от ситуации. В качестве придорожного знака она может значить «следуйте в направлении, указываемом стрелкой», а у входа в погреб означает «вход здесь». Примеры такой символики имеют множество параллелей на семасиографической ступени письма, когда знаки подразумевают именно значения, а не слова или звуки. Символика такого рода находится за пределами нормальной системы письма. Как часть фонетической системы письма знак стрелки с течением времени должен приобрести одно или два недвусмысленных речевых значения вроде «идти (туда-то), следовать» и т.п. <...>
За пределами нашей фонетической системы знаков находятся также условные обозначения, употребляемые в математике, логике и некоторых других науках. Хотя в написании такой математической формулы, как
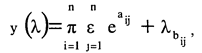
каждый знак имеет или может иметь точное соответствие в речи, значение здесь передается суммой знаков, порядок и форма которых не следуют принятым нормам обычного фонетического письма.
Значение может иногда передаваться на письме не только при помощи условной формы знаков, но также и посредством различных вспомогательных способов, опирающихся на описательные приемы, цвет, позицию и контекст ситуации.
Наиболее древние восточные системы письма, а именно месопотамская, египетская и др., будучи полностью фонетическими, употребляют условные знаки с определенным словесным или слоговым значением. Однако даже в некоторых из подобных полностью фонетических письменностей значение выражается иногда не условными знаками, а изображениями сцен, выполненными при помощи описательно-изобразительного приема. <...> Так, в египетском тексте, описывающем победы Рамзеса II над вражескими странами, почетный титул фараона «Тот, кто подчиняет чужие народы» не выписан отдельными иероглифами, а дан в виде сцены, изображающей фараона, который связывает чужеземного царя веревками. В другом тексте формула «жертвоприношение, которое приносит царь» выражена рисунком, изображающим царя, который держит циновку с лежащим на ней караваем хлеба. Значение этих двух сцен передается в форме, хорошо известной нам по раннему периоду египетского письма <...>.
Роль цвета в нашем современном письме как будто несущественна, хотя разные цвета и употребляются иногда с целью более отчетливой дифференциации значений, например в таблицах; все же как в печати, так и в письме от руки нормальным является преобладание черного или темного цвета. В прежние времена, когда все писалось от руки, дифференциация цветов встречалась чаще. Как в древних мексиканских рукописях, так и в более поздних рукописях индейцев часто встречается окраска знаков. У индейцев чероки белый цвет употребляется для обозначения мира или счастья, черный — для обозначения смерти, красный — успеха и торжества, синий — поражения и беды. Следует еще упомянуть Полихромную Библию, в которой при помощи цвета обозначены разные источники текста, а также современные пазиграфические системы* <...>, использующие цвет для дифференциации значения. За пределами письма разные цвета используются на картах и при татуировке. И система кипу пользовалась при передаче данных учетного характера вывязыванием узлов на шнурах разного цвета. Именно различия в цвете чаще всего лежат в основе использования цветов и камней для передачи определенного рода сообщений.
* Пазиграфия — универсальное символическое письмо: выражение мысли знаками, понятными многим народам (например, музыкальные ноты, арабские цифры). — Прим. сост.
Значение может иногда передаваться приемом, в основе которого лежит так называемый «принцип позиции», или «принцип позиционного значения». Известно, насколько этот принцип важен в математике, например в написаниях «32» и «32». В то время как сами по себе приведенные цифры значат «три» и «два», подразумеваемое значение выражено здесь постановкой знаков в определенную условную позицию по отношению друг к другу. <...>
Рука об руку с принципом позиции действует принцип контекста ситуаций, если воспользоваться термином, который употребляет Б. Малиновский в своей работе, посвященной изучению проблемы значения в примитивных языках. Так, вопрос «Где перо?» обычно бывает вполне понятен слушателю, несмотря на то, что слово «перо» может иметь такие разные значения, как «орудие письма», «птичье перо» и—в воровском жаргоне — даже «нож»; происходит это по той простой причине, что вопрос задается в определенных условиях, которые обеспечивают однозначность понимания. Таким же образом из контекста без труда выясняется, что сокращение PG в работе, посвященной германской армии, значит Panzergrenadier «рядовой мотопехоты», в университетском употреблении — postgraduate «аспирант». Принцип контекста ситуации находит применение также и в других знаковых системах, например в системах, связанных с жестами: так, изображение человека, указывающего пальцем на дверь, может в одних ситуациях значить «выход!», а в других просто «там» или «в этом направлении». Значение контекста ситуации хорошо прослеживается в современных карикатурах: политическая карикатура, опубликованная каких-нибудь пятьдесят лет тому назад, почти недоступна пониманию молодого человека, незнакомого с ситуацией и условиями, которые послужили поводом для ее создания.
ИСТОЧНИКИ СВЕДЕНИЙ О ПИСЬМЕ
При попытке реконструировать ранние ступени нашей культуры мы опираемся главным образом на источники, относящиеся к Древнему Востоку. Это касается истории письма, может быть, даже в большей степени, чем какого бы то ни было другого важного культурного достижения. Именно там, в странах шумеров, вавилонян, ассирийцев, хеттов, ханаанеев, египтян и китайцев, лопата археолога добыла в течение последнего века тысячи документов, которые невероятно обогатили наши знания и открыли совершенно новые перспективы для исследований. Абсолютно немыслимо пытаться хотя бы примерно представить себе историю письма без учета письменных источников Древнего Востока. Однако в наших знаниях еще немало пробелов. Чем дальше мы уходим в глубь времен, тем меньше источников оказывается в нашем распоряжении. Чрезвычайно интересная проблема «происхождения» письма скрыта во мраке веков, и решить ее так же трудно, как проблему «происхождения» таких важных аспектов нашей культуры, как искусство, архитектура, религия и социальные институты.
Так как древние времена не дают нам ключа к пониманию некоторых существенных моментов развития письма, мы вынуждены искать данные, которые помогли бы пролить свет на интересующий нас предмет, в другом месте. Приходится пользоваться тем обстоятельством, что еще до сих пор существуют или существовали в недавние века примитивные общества, культурный уровень которых в ряде отношений схож с уровнем давно исчезнувших древних культур. Письменное наследие таких примитивных народов, как американские индейцы, африканские бушмены или аборигены Австралии, сколь далеко оно ни отстоит от того, что мы называем письмом сегодня, тем не менее дает ценную основу, позволяющую понять, каким путем люди научились общаться друг с другом при помощи зримых меток. В наших изысканиях мы не должны пренебрегать искусственными письменностями, созданными аборигенным населением под влиянием европейцев, чаще всего миссионеров. История этих письменностей, самыми интересными из которых являются системы эскимосов Аляски, африканского племени бамум и индейцев чероки, позволяет увидеть разные ступени, через которые они прошли, прежде чем достигли своего окончательного вида. Последовательность этих ступеней во многом сходна с той, которая наблюдается в истории письма при его естественном развитии.
Другой весьма плодотворный метод изучения может быть подсказан исследованием детской психологии. Не раз наблюдалось, что существует сходство между складом мышления младенцев и детей и складом мышления целых обществ, стоявших на самых примитивных ступенях развития. Одним из наиболее важных моментов этого сходства является тенденция к конкретности. Подобно тому как ребенок рисует вертикальную линию и объясняет, что это дерево, которое растет перед домом, так и примитивный человек часто ассоциировал свои рисунки с конкретными предметами и событиями окружающего мира. Эта тенденция, проявляющаяся в письме и рисунке, проистекает из самого характера языка первобытных людей, которому была свойственна склонность к чрезвычайно конкретным и узким обозначениям. Наблюдения над такими примитивными языками, в которых, например, не употребляются слова «рука» или «глаз», а только «моя рука» или «мой глаз» (в зависимости от ситуации) и в которых нет общего слова «дерево», а есть лишь конкретные слова «дуб», «вяз» и т.п., можно в значительной мере заменить изучением речи детей, едва научившихся говорить. Другая интересная точка соприкосновения может быть выявлена путем изучения направления и ориентации знаков в детских рисунках и в примитивных письменностях. Замечено, что дети изображают предметы, искажая существующие между ними пропорции, не соблюдая какого-либо порядка и не проявляя сколько-нибудь заметного чувства направления. Даже ребенок, которого уже учат письму, часто изображает буквы то слева направо, то справа налево, не отдавая себе отчета в существовании какой-либо разницы между обоими направлениями. Подобное отношение к направлению и к ориентации знаков наблюдается почти во всех примитивных письменностях.
Тенденция к конкретности и детализации, отмеченная у детей и у первобытных народов, недавно выявлена также и у взрослых, страдающих умственной неполноценностью, проявляющейся по типу амнестической афазии. Наблюдения показали, что эти лица обычно избегают общих выражений, таких, например, как «нож», употребляя вместо них конкретные обозначения типа «хлебный нож», «кривой нож» или «перочинный нож». Путь, по которому такие лица заново учат язык, подобен пути естественного языкового развития детей. Таким образом, детальное изучение больных амнестической афазией может способствовать изучению происхождения языка и письма.
ИЗУЧЕНИЕ ПИСЬМА
Исследование письма с точки зрения формы является прежде всего поприщем эпиграфистов и палеографов. Обе специальности часто смешивают, хотя в точном словоупотреблении их следовало бы строго различать. Эпиграфист интересуется главным образом надписями, высеченными острым орудием на твердом материале — на камне, дереве, металле, высушенной глине и т.п., тогда как палеограф изучает прежде всего рукописи, выполненные на коже, папирусе или бумаге пером или кисточкой. Эпиграфика чаще занимается более древними периодами истории письменностей, а палеография — рукописями более поздней поры.
По сути дела, эпиграфика и палеография как всеобщие научные дисциплины не существуют. Ни в одной из этих двух областей нет работ, которые рассматривали бы предмет с общей, теоретической точки зрения. Мне, к примеру, не известно исследование, которое представило бы читателю развитие формы знаков от рисуночного состояния до линейного или от округлого начертания до угловатого с учетом всех письменностей мира. Вместо этого мы располагаем исследованиями сравнительно узких областей, например семитской эпиграфики, арабской палеографии, греческой и латинской эпиграфики и палеографии, китайской палеографии, папирологии и т.д., ограниченных определенными периодами времени или географическими ареалами. Все эти относительно узкие области исследования представляют собой разделы более обширных, но специфических областей, таких, как семитская или арабская филология, классическая филология, ассириология, китаеведение и египтология.
Подобно тому как нет всеобщей эпиграфики или палеографии, так нет и всеобщей науки о письме. Тому, кто помнит десятки разнообразных книг, трактующих о письме вообще, такое утверждение может показаться нелепым. Однако следует отметить, что для всех этих книг характерен историко-описательный подход. А такой чисто повествовательный подход к предмету не создает науки. Не рассмотрение гносеологических вопросов «что? когда? где?», а рассмотрение вопроса «как?» и еще прежде «почему?» является основным в создании теоретических основ науки. За вычетом немногих исключений, касающихся отдельных письменностей, названные вопросы если когда-либо и ставились в области письма, то крайне редко. Однако наибольшим недостатком всех работ, посвященных письму, является полное отсутствие систематической типологии. Нельзя сказать, что по отдельным письменностям, таким, как египетская иероглифика или греческий алфавит, нет хороших работ. Но нам недостает теоретической и сравнительной оценки разных типов письма, то есть сопоставительного рассмотрения различных типов силлабариев, алфавитов, словесных знаков и словесно-слоговых письменностей. Существующая ныне путаница в области типологической классификации письменностей может быть проиллюстрирована употреблением термина «переходные» по отношению к столь важным письменностям, как месопотамская клинопись или египетская иероглифика, которые просуществовали около трех тысяч лет и чье точное место в классификации письма может быть установлено без большого труда.
Цель данной книги заложить фундамент подлинной науки о письме, которую еще предстоит создать. Эту новую науку можно было бы назвать «грамматологией». <...>
Й. Вахек К проблеме письменного языка*
В те годы, когда в науке о языке почетное место принадлежало фонетике, письмо не пользовалось благосклонным вниманием лингвистов. Оно казалось не более чем оболочкой, скрывающей истинные свойства языка, и в качестве единственной функции письма выдвигалась задача служить изображением (устного) языка. К этому взгляду, наиболее отчетливо сформулированному Ф. де Соссюром, можно отнестись с полным пониманием, рассматривая его как реакцию на более ранние периоды развития лингвистической мысли, когда языковеды лишь с большим трудом могли освободиться от гипноза графики, переходя от оптических знаков — букв к акустическим — звукам; однако этот взгляд не соответствует сегодняшнему уровню лингвистического знания.
* Пражский лингвистический кружок М., 1967. С. 524—534.
Заслугой покойного украинского лингвиста проф. Агенора Артимовича является то, что в своих исследованиях <...> он показал, «что письмо каждого так называемого литературного языка формирует особую автономную систему, частично независимую от собственно устного языка». Однако, хотя работы Артимовича содержат немало подтверждений этого тезиса, в них не получила достаточного развития его общетеоретическая и принципиальная сторона.
Прежде всего следует подчеркнуть, что Артимович недостаточно четко показал различие между «письменным языком» и отдельными письменными высказываниями. Между тем это различие в высшей степени важно. Под письменным языком мы понимаем норму, или лучше — систему графических (соответственно типографских) средств, признаваемых за норму внутри определенного коллектива. Письменные высказывания представляют собой, напротив, отдельные конкретные реализации названной нормы. В каждодневной практической жизни мы сталкиваемся с письменными высказываниями — только по ним и можно судить об особенностях письменного языка как системы. Тем не менее нельзя подвергать сомнению его специфическое существование хотя бы уже в силу его нормативного характера. В особенности следует остерегаться смешения письменного языка с «графикой» [«Schrift»] или с «орфографией». Графика — это всего лишь terminus technicus, обозначающий инвентарь письменных знаков, необходимых для изложения устных высказываний [Sprechä uß erungen]. Орфография же — это своеобразный мостик между двумя языковыми системами — письменным и устным языком, набор соответствий между отдельными элементами обеих систем.
Из развиваемых здесь соображений следует, что между письменным языком и письменными высказываниями существует отношение, подобное тому, которое было установлено Ф. де Соссюром для языка (langue) и речи (parole). Различие состоит лишь в том, что тогда как письменный язык может служить аналогом «языка», конкретным письменным высказываниям могут соответствовать лишь конкретные устные высказывания, но не абстрактная «речь».
Таким образом, мы подходим к вопросу о том, что, собственно, соответствует «речи» в действительной жизни языка. Если задуматься над этой проблемой, то придется признать, что содержание понятия «parole» далеко не так ясно и безупречно, как содержание понятия «langue». Нелишне заметить, что сам Ф. де Соссюр создал действительно богатую плодотворными идеями «лингвистику языка», но не «лингвистику речи». Что вообще вкладывал женевский лингвист в понятие «parole»? <...> Мы находим в его «Курсе» следующее предложение: «Она (речь) — сумма всего, что говорят люди, и включает: а) индивидуальные комбинации, зависящие от воли творящих, б) акты говорения, равным образом произвольные, необходимые для выполнения этих комбинаций». Рассматривая это определение более пристально, можно констатировать, что здесь Соссюр объединил в рамках «речи» две разнородные группы фактов. К первой группе относятся индивидуальные сочетания языковых элементов — такие сочетания должны быть даны, однако, уже в «языке», поскольку они также должны следовать определенной норме и не могут быть чисто субъективными. Тем самым первая часть соссюровского определения неудовлетворительна, и соответствующие факты принадлежат «языку», а не «речи». Как обстоит дело со второй половиной приведенного выше определения? Упомянутые де Соссюром акты говорения следует, несомненно, отождествить с тем, что мы называем здесь «устными высказываниями», так как они индивидуальны и конкретны. Таким образом, и они не покрываются понятием «речи».
Из сказанного следует, что понятие «речи» — по крайней мере, в том смысле, какой вкладывал в него Соссюр, — является излишним. Мы видим, кроме того, что оказывается оправданной предложенная выше аналогия между соотношением письменного языка и письменных высказываний, с одной стороны, и «языка» и устных высказываний — с другой.
Таким образом, последовательное проведение нашего противопоставления письменного языка письменным высказываниям приводит нас к заслуживающей внимания поправке одного немаловажного пункта лингвистической теории. Мы могли бы теперь задаться вопросом, каким образом де Соссюр вообще пришел к выдвижению понятия «речи». Ответ на этот вопрос, очевидно, находится в связи с тем обстоятельством, что для женевского языковеда понятие «языка», как это было уже показано Р. Якобсоном, <...> является по существу статическим. А так как де Соссюр далеко не в полной мере учитывал внутреннюю динамику языка, всегда существующее стремление к равновесию системы, никогда полностью не достигаемому, то ему не оставалось ничего другого, как объяснять проявляющуюся в течение времени и языкового развития динамику извне. Именно поэтому женевский исследователь постулировал наличие особого фактора — «parole», который должен был играть роль своеобразного посредника между двумя языковыми состояниями, рассматриваемыми в статике. По нашему же мнению, принятие посредствующего абстрактного фактора является излишним, изменения языковой системы происходят внутри самой языковой системы и вызываются вновь стремлением к восстановлению равновесия в системе. Речевые высказывания [Sprechä uß erungen] играют при этом известную роль, но роль не динамического посредника, а лаборатории, в которой язык испытывает различные средства к восстановлению своего равновесия. Другими словами, различные носители данного языка ощущают несовершенство его равновесия; они преобразуют языковую систему в той или иной точке, делая это часто непроизвольно и бессознательно. При этом, естественно, различные носители языка изменяют не одни и те же, а разные точки системы. Эти индивидуальные системы, несколько сдвинутые в различных направлениях, реализуются затем говорящими в их высказываниях. Тем самым эти индивидуальные сдвиги, как в лаборатории, подвергаются испытанию с точки зрения их целесообразности — одни из них признаются языковым коллективом как более, другие — как менее подходящие для восстановления равновесия. Наиболее подходящие средства включаются затем, причем окончательно, в «язык».
Итак, мы склонны сделать вывод, что письменный язык и «langue» представляют собой рядоположные [koordinierte] понятия, которым подчинены письменные и соответственно устные высказывания в качестве понятий субординированных. Таким образом мы подходим к новой проблеме, которая принадлежит к числу важнейших в лингвистической теории. Противоположение «langue» письменному языку наталкивает на мысль, что «langue» представляет собой нечто, имеющее акустическую характеристику. Однако это противоречит одному из самых фундаментальных положений Ф. де Соссюра, а именно тому, что «langue» является формой, а не субстанцией. Существенное в «langue» представлено, по де Соссюру, лишь его знаковым характером, а не материальной стороной. Иначе говоря, если, например, фонемы какого-либо языка будут выражаться не посредством звуков, а посредством красок и жестов, мы будем иметь дело с тем же самым языком, поскольку взаимные отношения знаков, несмотря на различные способы их реализации, останутся прежними. Это положение делает для нас понятным и отношение де Соссюра к письму: раз единственная характеристика «языка» — это только знаки и их взаимные отношения и раз материальный способ их реализации несуществен, тогда письмо — это действительно лишь оболочка, затемняющая истинную природу языка. В самом деле, если знаки и их соотношения представляют единственную ценность, они должны получать единообразное выражение в любом материале, в том числе, следовательно, и в письменных, соответственно буквенных знаках. А так как многие (если не все) письменные языки не удовлетворяют этому требованию, они вполне заслуживают соссюровской оценки — в той мере, в какой является правильным приведенный выше тезис женевского ученого.
Однако в противовес этому следует указать на то обстоятельство, что письменные высказывания — по крайней мере у культурных языковых коллективов — обнаруживают известную независимость по отношению к устным высказываниям, что было доказано работами проф. Артимовича. В этом мы не увидим ничего странного, если будем иметь в виду различие в функциях письменных и устных высказываний. Задача устного высказывания состоит в том, чтобы как можно более непосредственно реагировать на тот или иной факт; письменное же высказывание фиксирует определенное отношение к той или иной ситуации на возможно более длительный срок. Определенная независимость письменных высказываний предполагает и определенную независимость соответствующей нормы, то есть письменного языка. Однако безусловно оптический характер этой нормы с необходимостью ведет к признанию акустического характера сопряженной с ней устной нормы [der koordinierten Sprechnorm], то есть «языка» («langue»). Как разрешается это противоречие?
Здесь нам в какой-то мере могут помочь некоторые соображения, касающиеся взаимоотношений обеих названных норм. Хорошо известно, что члены языкового коллектива (по крайней мере цивилизованного) имеют в своем распоряжении две языковые нормы — одну для устных, другую — для письменных высказываний, хотя возможно, что они не владеют обеими этими нормами с одинаковой степенью совершенства. Любой из членов языкового коллектива отдает себе отчет в том, что обе нормы дополняют друг друга [komplementä r sind], поскольку каждая из них обладает специфической функцией, в которой одна не всегда успешно может заменить другую. Возникает вопрос, ограничивается ли взаимосвязь обеих норм лишь комплементарностью, или же существует высшая, универсальная норма, к которой следует сводить обе эти нормы и которой, таким образом, обе эти нормы подчинены.
Идея такой универсальной нормы, несомненно, весьма заманчива: ее абстрактная природа и отсутствие прикрепленности как к оптической, так и к акустической форме выражения прекрасно бы согласовались с формальной, несубстанциональной природой соссюровского «langue». В этом случае мы пришли бы к следующей схеме:

Является ли существование такой универсальной нормы вероятным или хотя бы возможным? Чтобы быть в состоянии ответить на этот вопрос, мы должны вновь обратиться к нашим соображениям, которые касаются отношений внутри цивилизованных языков.
Наличие двух языковых норм в цивилизованных языках не подлежит сомнению. С синхронической точки зрения неправомерно вместе с де Соссюром пытаться решить вопрос о том, какая из этих двух норм является первичной во временном плане и какая вторичной. Обе нормы суть просто лингвистические феномены, и каждая из них выполняет свойственную лишь ей функцию. Переход от одной нормы к другой называется правописанием и соответственно — произношением, и именно в согласии с ними устная норма транспонируется в письменную и обратно. Этот переход от одной нормы к другой в одних языковых коллективах оказывается более легким, в других — более трудным, однако он всегда остается фактом, который нельзя оспаривать.Чем легче осуществляется такой переход, тем ближе друг к другу обе нормы — устная и письменная — и тем вероятнее представляется наличие некой универсальной нормы.
Впрочем, невозможность найти такой языковой коллектив, в котором обе нормы обнаружили бы настолько аналогичную структуру, что можно было бы без долгих размышлений признать существование подчиняющей их себе абстрактной нормы — хотя бы только для данного языкового коллектива, доказывается весьма простым соображением. А именно, необходимо иметь в виду следующий важный момент: если даже и можно найти такой язык, в котором каждой фонеме последовательно соответствовала бы одна особая буква, этого еще далеко не достаточно для того, чтобы доказать аналогичность структуры письменной и устной нормы. Если бы обе нормы обладали полностью аналогичной структурой, то каждый функционально значимый акустический элемент должен был бы иметь свой графический эквивалент в письменной норме, и наоборот. Однако практически это совершенно невозможно. Хорошо известно, что огромному богатству акустических средств устной нормы противостоит ограниченное количество оптических средств, которыми обладает письменная норма. Там, где в распоряжении устной нормы имеется разнообразная шкала мелодических, экспираторных и др. элементов, письменная норма должна довольствоваться скудным инвентарем пунктуационных и различительных средств (таких, например, как разрядка, курсив и т.п.). Как далеко отстоят друг от друга обе нормы, видно хотя бы из того, насколько часто письменная норма должна прибегать к вторичным средствам там, где устная норма пользуется первичными средствами. В романах и вообще в беллетристике можно найти огромное количество подобных средств выражения. Интонация, например, должна передаваться следующим образом: он говорил отрывистыми фразами;...спросил он сонным голосом;...ответил он резко и т.п. Иногда приходится прибегать к помощи целых предложений, например: В его словах сквозила большая доброта. Энергия и вообще интенсивность также выражаются вторичными средствами: ...крикнул он громко;...сказал он вполголоса;...прошептал он и т.д.
Эти наблюдения никоим образом не позволяют заключить, что письменный язык представляет собой менее совершенную структуру, чем устный. Его структура не является менее совершенной, это просто иная структура. Ведь и письменная норма — хотя об этом очень часто забывают — располагает определенными средствами, чуждыми устной норме, которая должна прибегать в этом случае к вторичным средствам выражения. С самой природой письменных высказываний связано то, что средства, о которых идет речь, служат скорее интеллектуальным, чем эмоциональным и другим потребностям. Здесь следует прежде всего упомянуть о разделении сравнительно длинных письменных высказываний на абзацы, которые сигнализируют читателю о том, что речь идет также и о новом отрезке содержания. В устном высказывании в таких случаях приходится прибегать к вторичным средствам (например: Таким образом, мы покончили с проблемой А и теперь переходим к проблеме Б). Хорошо известно также, как крохотный знак двоеточия устанавливает связь между частями запутанного фразового периода и таким образом дает возможность сделать его понятным. В устном высказывании, не допускающем таких сложных периодов, последние разлагаются на более мелкие предложения. Функция двоеточия выражается при этом опять-таки вторичным образом (например, словами: это было вызвано тем, что...; случилось так, что... и т.п.).
Итак, мы обнаружили, что ни в одном языковом коллективе письменная и устная нормы не обладают полностью аналогичной структурой. Отсюда вытекает естественный вывод, что следует отвергнуть возможность существования абстрактной универсальной нормы, подчиняющей себе письменную и устную нормы, для какого бы то ни было из существующих языков. Ведь если нельзя говорить о наличии такой нормы даже для таких языков, в которых подобному допущению благоприятствует фонологический принцип, лежащий в основе алфавита, то тем менее можно предполагать ее существование в тех языках, где отсутствует упомянутая предпосылка, то есть в таких языках, которые либо значительно отклонились от фонологического принципа при создании своих письменных норм, либо избрали совсем другой принцип (ср., например, индийский с его слоговым письмом или китайский с его идеографическим письмом и т.д.). Следовательно, письменная и устная нормы должны рассматриваться как рядоположные величины, которые не подчинены какой бы то ни было высшей норме и связь между которыми объясняется лишь тем обстоятельством, что они выполняют комплементарные функции в использующем их языковом коллективе. Как было сказано выше, это функция непосредственной реакции, с одной стороны, и функция продолжительной реакции — с другой.
Из только что сказанного вытекают некоторые важные общетеоретические следствия.
Прежде всего оказывается безусловно необходимым различать «письменный язык» («la langue ecrite») и «устный язык» («la langue parlé e») как две особые системы норм. Прежнее понятие «язык» («la langue») в связи с этим не упраздняется, а лишь меняет свое содержание. Это наименование должно обозначать не абстрактную универсальную норму, но сумму обеих рассмотренных выше норм. которые связаны друг с другом тем, что они обеспечивают данному языковому коллективу возможность реагировать любым образом на любую ситуацию.
Установленное различие обеих норм вновь возвращает нас к вопросу о том, является ли язык формой или субстанцией. Мы хотели бы ответить на этот вопрос следующим образом. Вообще говоря, не подлежит сомнению, что наиболее существенное в каждом языке определяется взаимными отношениями его элементов. Однако, с другой стороны, эти отношения повисают в воздухе, если они не обнаруживаются в определенной субстанции. Можно без колебаний признать, что до т
|
|
