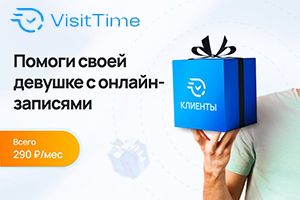Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Глава одиннадцатая. о «пращах и стрелах яростной судьбы» – «Гамлет», акт III, сц
|
|
…о «пращах и стрелах яростной судьбы»… – «Гамлет», акт III, сц. 1.
…принимать себя за «мух в руках мальчишек»? – «Мы для богов – что мухи для мальчишек: / Им наша смерть – забава» («Король Лир», акт IV, сц. I; пер. Т. Щепкиной-Куперник).
«Ты будто потерял ближайшего друга», – заявил Достопочтенный, увидев Aли в темном свадебном наряде… – Из воспоминаний Хобхауза о бракосочетании Байрона (2 января 1815 г.):
«Во время церемонии мисс Милбэнк полностью сохраняла присутствие духа и, не спуская глаз с Байрона, громко и внятно повторяла вслед за священником брачный обет.
Байрон, произнося: " Я, Джордж Гордон…" запнулся, а при словах " делить с ней богатство и бедность" взглянул на меня и усмехнулся.
Вскоре после окончания церемонии она спустилась в гостиную, одетая в дорожное платье, и молча села. Байрон был спокоен и выглядел как обычно. У меня было чувство, будто я только что похоронил друга.
Около двенадцати я помог леди Байрон спуститься к карете. В глубокой печали я простился с моим дорогим другом. Он не хотел отпускать мою руку, да и я держал его, протянутую в окно, до тех пор, пока карета не тронулась».
…«зашевелились, как бы живые». – «А было время, чувства леденели / При полуночном крике, волоса / От страшного рассказа шевелились, / Как бы живые» («Макбет», акт V, сц. 5; пер. М. Лозинского).
…по окончании паточного месяца… – Так Байрон назвал свой медовый месяц в письме Муру от 2 февраля 1815 г.
…ему доведется питаться Воздухом… – «Живу на хамелеоновой пище, питаюсь воздухом, пичкаюсь обещаниями; так не откармливают и каплунов». – «Гамлет», акт III, сц. 2 (пер. М.Лозинского).
Минос – судья царства мертвых; у Вергилия решает судьбы «тех, кто погиб от лживых наветов» («Энеида», VI, 430; пер. С. Ошерова), у Данте распределяет грешников по девяти кругам преисподней («Ад», V, 4-24). Судебный пристав действительно ночевал в доме Байрона в октябре 1815 г. «Можете судить, что у нас творится… – писала после этого леди Байрон Августе. – Одному богу известно, что я выстрадала вчера и как продолжаю страдать от этих ужасных приступов бешенства».
…почувствовал себя… отчаявшимся… – Из воспоминаний Хобхауза:
«К концу ноября [1815 г.] лорд Байрон начал заговаривать с одним из друзей [самим Хобхаузом] об абсолютной необходимости расстаться с леди Байрон. На другой день после рождения дочери, 11 декабря, его светлость вновь вернулся к этой теме и признался: его финансовые затруднения таковы, что доводят его до безумия. Он говорил, что " не придавал бы им такого значения, не будь он женат" – и что хотел бы " уехать за границу". Он повторил это раза два, но вскоре заговорил о переезде за город. Он говорил, что " никто и знать не может, через что он прошел"; что ни один мужчина не должен жениться – все его злосчастья удвоятся, а радости уменьшатся. " Моя жена, – добавлял он всегда, – само совершенство – лучшее из живых существ; но все-таки – не женитесь". Так он говорил с одним из друзей – и только с одним».
…«дышать тяжелым воздухом земли»… – немного измененная строка из «Гамлета», акт V, сц. 2 (пер. Б. Пастернака).
…среди погибельных смятений… – «Скрываясь от мирских погибельных смятений» («Сельское кладбище» Томаса Грея, пер. В. Жуковского).
«Любезный», – услышал Али за ужином расслабленный томный голос… – Этот анекдот из тех времен, когда щеголи еще не назывались «денди», Байрон с удовольствием занес в дневник («Разрозненные мысли», № 49).
Пойнс и Бардольф – приспешники Фальстафа в «Генрихе IV».
Тильбюри – легкий открытый двухколесный рессорный экипаж; в него запрягалась одна лошадь, которой управлял пассажир.
«Сент-Джеймс» – анахронизм: клуб основан в 1857 г.
Иды – день в середине месяца: 15 марта, мая, июля и октября; 13-е число в остальные месяцы.
Разве не я – потомок злодеев и безумцев? -
«Однажды [в 1815 г.] Байрон был захвачен врасплох врачом и адвокатом, которые одновременно и чуть не насильно ворвались к нему в кабинет. " Только впоследствии мне выяснилась истинная цель их посещения. Их вопросы показались мне странными, дерзкими, а иногда и неудобными, чтобы не сказать – нахальными; но что подумал бы я, если бы догадался, что эти люди были присланы затем, чтобы собрать доказательства моего сумасшествия? "» («Разговоры лорда Байрона» Томаса Медвина).
Итак, утром состоялся отъезд… – В приложении к «Жизни Байрона» Мура опубликовано свидетельство леди Байрон:
«Факты таковы: Я выехала из Лондона в Киркби-Мэллори, местопребывание моих родителей, 15 января 1816 г. Лорд Байрон уведомил меня в письменном виде (9 янв.) о своем твердом желании, чтобы я покинула Лондон так скоро, как это будет для меня удобно. Подвергаться всем неудобствам путешествия прежде 15-го числа для меня было небезопасно. Еще до моего отбытия я была совершенно убеждена в том, что лорд Байрон страдает умопомешательством. Это мнение в значительной степени основывалось на общении с его близкими родичами и личным слугой, у которых в последние недели моего пребывания в Лондоне было больше возможностей наблюдать за ним, нежели у меня. Я узнала, помимо прочего, что он находился на грани самоубийства. По согласованию с семьей я попросила у д-ра Бельи дружеский совет касательно предполагаемой болезни мужа (8 янв.). Ознакомившись с состоянием дел и с высказанным желанием лорда Байрона, д-р Бельи предположил, что мое отсутствие может возыметь положительные последствия, если принять помешательство как факт; однако, не осмотрев лорда Байрона лично, он не мог прийти к окончательным выводам. Он предписал также, чтобы в переписке с лордом Байроном я придерживалась исключительно легких и успокоительных тем. Я покинула Лондон, твердо намереваясь придерживаться этих советов. Какой бы ни была причина того, как лорд Байрон вел себя по отношению ко мне со дня свадьбы, – но, принимая во внимание его предположительное умопомешательство, я никоим образом не могла выразить в ту минуту, насколько он меня ранил. В день отъезда и по прибытии в Киркби 16 янв. я написала лорду Байрону в жизнерадостном тоне, соответственно с полученными медицинскими рекомендациями».
Пиведем для полноты картины эти письма:
«15января 1816 г. Мой дорогой Байрон, девочка чувствует себя прекрасно и путешествует отлично. Надеюсь, что вы будете осторожны и не забудете о моих просьбах насчет обращения к докторам. Не предавайтесь без памяти ужасному ремеслу стихоплетства, бренди, а также никому и ничему, что было бы незаконно и неблагоразумно. Несмотря на то, что я ослушалась вас и пишу, проявите мне ваше послушание в Киркби. Привет от Ады и меня».
«16января 1816 г. Мой дорогой Утенок, мы благополучно приехали сюда вчера вечером; нас провели в кухню вместо гостиной, ошибка довольно приятная для изголодавшихся людей. Папа собирается написать вам забавный рассказ об этом случае. И он и мама очень хотели бы поскорей увидеть все наше семейство в сборе… Если бы мне не недоставало всегда Б___________, то деревенский воздух очень бы помог. Мисс находит, что ее кормилица должна кормить ее гораздо больше, и толстеет. Хорошо еще, что она не понимает всех комплиментов, которые отпускаются по ее адресу. " Маленький ангелочек" … и уж я не знаю, что еще… Привет милой Гусочке, а также и вам от всех, кто здесь.
Всегда твоя, бесконечно любящая
Пиппин… Пип… Ип» [120] .
Бичер-Стоу (см. прим. к с. 328) приводит со слов леди Байрон совершенно неправдоподобный рассказ о расставании:
«В день отъезда она подошла к двери его комнаты и остановилась, чтобы погладить его любимого спаниеля; позднее она призналась в том, что ощутила минутную слабость: ей хотелось умалиться подобно щенку, лишь бы остаться и присматривать за мужем. Она вошла в комнату, где сидели Байрон и его распутный друг, и, протянув руку, сказала: " Байрон, я пришла проститься".
Спрятав руку за спину, лорд Байрон отошел к камину и, саркастически оглядев стоявших перед ним, произнес: " Когда мы встретимся втроем? " [121] – " Верно, на небесах", – отозвалась леди Байрон. И это было последнее, что он услышал от нее на земле».
Ибо «тут буря началась в его душе»… – измененная строка из «Ричарда III», акт I, сц. 4 (пер. А. Радловой).
Катарина не собирается возвращаться в их дом, а намерена расстаться с Али и жить отдельно. – О таком же решении Аннабеллы Байрону сообщил в письме его тесть Ральф Ноэль. Байрон отвечал в тот же день, 2 февраля 1816 г.:
Сэр – Я получил Ваше письмо. – На туманное и неясное обвинение, содержащееся в нем, я, естественно, не знаю, что ответить, – ограничусь поэтому более конкретным фактом, который Вам угодно приводить в качестве одной из причин Вашего предложения. – Я не выпроводил леди Байрон из дому в том смысле, какой Вы придаете этому слову, – она уехала из Лондона по совету врача – когда мы прощались, между нами царило видимое – а с моей стороны искреннее – согласие; хотя именно в ту пору я отпускал ее неохотно и просил подождать, чтобы самому сопровождать ее, но моему отъезду помешали неотложные дела. – Правда, несколько раньше я высказывал мнение, что ей лучше было бы временно поселиться в родительском доме: – причина этому очень простая и может быть указана в немногих словах – а именно – мои стесненные обстоятельства и невозможность содержать дом. – Если Вы хотите удостовериться в правде моих слов, проще всего спросить об этом леди Б.; она – воплощенная Правдивость; если она станет отрицать – пусть будет так – я не скажу более ничего. – Мое намерение ехать за границу было вызвано все теми же печальными обстоятельствами – а отложено из-за того, что, видимо, не отвечало ее желаниям. – Весь прошедший год мне пришлось бороться с грозившими Вам лишениями – и одновременно с недугом: – о первых мне нечего сказать – разве только то, что я пытался устранить их всеми возможными жертвами с моей стороны; – о последнем я не стал бы говорить, если бы не знал от врачей, что моя болезнь – хотя она и мало сказывается на мне внешне – вызывает болезненную раздражительность – которая – и без внешних поводов – делает меня почти столь же невыносимым для других, как для себя самого. – Однако, насколько я могу судить, дочь Ваша не подвергалась дурному обращению: – я мог быть при ней мрачен – иногда вспылить – но ей слишком хорошо известны причины, чтобы относить это к себе – или даже ко мне – если судить по всей справедливости. – А теперь, сэр, – не ради Вашего удовлетворения – ибо я не считаю себя обязанным доставить его Вам – но ради моего собственного – и чтобы воздать должное леди Байрон – я считаю своим долгом сказать, что в ее поведении – нраве – талантах – и склонностях – нет ничего, что я желал бы изменить к лучшему, – я не могу вспомнить с ее стороны никакой, хотя бы самой пустяшной вины – ни в словах, ни в делах – ни в помыслах (насколько их можно прочесть). – Она всегда казалась мне одним из лучших созданий на земле – более близким к совершенству, чем можно, по-моему, ожидать от Человека в его нынешнем состоянии. – Высказав все это – хотя мне удалось выразить словами отнюдь не всю суть – я возвращаюсь к делу – но вынужден отложить на несколько дней свой окончательный ответ. – Постараюсь не задержать его дольше, чем необходимо – поскольку это важный шаг для Вашей семьи, как и для моей, – и шаг непоправимый – Вы не припишете мою медлительность желанию огорчить Вас или Ваших: – хотя должен заметить – в Вашем письме есть строки, где Вы присваиваете себе больше прав, чем сейчас имеете, – ибо сейчас, во всяком случае, – дочь Ваша является моей женой: – и матерью моего ребенка – и пока Ваши действия не получат ее ясно выраженного одобрения, я позволю себе сомневаться в уместности Вашего вмешательства. – Это скоро выяснится – и тогда я сообщу Вам свое решение – которое в очень большой степени будет зависеть от решения моей жены. – Имею честь быть Вашим покорным слугой
Байрон
3 февраля 1815 г., к леди Байрон:
Я получил письмо от твоего отца с предложением развода между нами – на которое я не могу дать ответ, прежде чем лучше узнаю твои мысли и желания – от тебя самой: – на смутные и общие обвинения и напыщенные заявления других людей я отвечать не могу: – гляжу на тебя одну – и лишь с тобой могу говорить об этом – и когда я позволю родственникам вмешаться – это будет жест вежливости – а не признание прав. – Не знаю даже, как обращаться к тебе, – ведь я пребываю в неведении, одобрено ли тобою то письмо, которое я получил – и в нынешних обстоятельствах все, что я напишу, может быть превратно истолковано – и я в самом деле не понимаю, о чем пишет сэр Ральф – может быть, ты растолкуешь?
– Заканчиваю. – Я в конце концов приму любое твое решение – но прошу тебя со всей серьезностью: хорошо взвесь возможные последствия – и повремени перед оглашением приговора. – Что бы нас ни ждало – но будет только справедливо сказать, что ты не виновна ни в чем – и ни сейчас, ни в будущем я не брошу на тебя тень и ни в чем не обвиню. – Не могу подписать иначе, нежели всегда любящий тебя
БН
5 февраля 1815 г., к ней же:
Милая Белл – Все еще не имею от тебя ответа – но это, быть может, и к лучшему – помни только, что на карту поставлено все – настоящее – будущее – и даже память о прошлом: – Мои ошибки – которые ты можешь, если хочешь, назвать и более сурово – ты знаешь – но я тебя любил – и не расстанусь с тобой, пока не получу твоего ясно выраженного и окончательного отказа вернуться ко мне или принять меня. – Скажи только – что в сердце своем ты еще моя – и тогда «Не бойся, Кэт, тебя никто не тронет – я отобью, хоть будь их миллион»[122] – всегда твой, дорогая,
Б.
7 февраля 1816 г., к Ральфу Ноэлю:
Сэр! С большим удивлением и превеликой печалью прочел я письмо леди Байрон, полученное от Вас миссис Ли. Покидая Лондон, леди Байрон ни единым намеком не обнаружила подобных чувств или намерений, ничего подобного не промелькнуло ни в письмах ее с дороги, ни затем, по прибытии в Керкби. Тон ее писем ко мне, игриво-доверчивый, ласковый и оживленный, скорее мог говорить о привязанности, чем о каком ином внушающем тревогу отношении, письма ее о дочери – письма матери, обращенные к супругу. Это наталкивает меня на грустные мысли: либо ей свойственно двуличие, что, как я считал, весьма не вяжется с ее характером, либо это результат чьего-то влияния последних дней, следование коему в свое время было весьма похвально и достойно, теперь же удивительно после ее клятв пред алтарем.
Пока есть у меня дом, он открыт для нее, как всегда открыто для нее сердце мое, даже если из всех приютов останется только эта обитель. Я не могу заподозрить леди Байрон в том, что причина этого решения, предлог для расторжения нашего брака – желание отделаться от банкрота-мужа, хотя и выбранный для этого момент, и сама манера, в которой сделано сие предложение – без вопросов, без жалоб, без всяких колебаний, без попытки к примирению, – не может не внушать подозрения. Если Вы сочтете, сэр, что тон моего письма к Вам дерзок, знайте, я все же сдерживаю себя из уважения, сообразного родственным обязанностям моим, коих Вы собираетесь меня лишить, и прошу резкость выражений моих, вызванную не зависящими от меня обстоятельствами, оценивать, исходя из оных. Я не унижусь, как жалкий проситель, до мольбы о возвращении нелюбящей супруги, но поступиться правами супруга и отца я не желаю. Предлагаю леди Байрон вернуться, готов отправиться к ней, если она того пожелает, но любые попытки – настоящие и будущие – разлучить нас я воспринимаю с возмущением.
Имею честь оставаться, сэр, в глубочайшем уважении.
Ваш вернейший и преданнейший слуга
Байрон
8 февраля 1816 г., к леди Байрон:
Все, что я говорю, кажется бесполезным – все, что я мог бы сказать, – может оказаться столь же тщетным – но я еще держусь за обломки своих надежд – пока они навеки не погрузились в пучину. – Разве вы никогда не были со мной счастливы? – разве ни разу не говорили об этом? – разве мы не высказывали друг другу самую горячую взаимную любовь? – проходил ли хоть день, чтобы мы не давали друг другу, или хотя бы один из нас другому, доказательств этой любви? – поймите меня правильно – я не отрицаю своего душевного состояния – но ведь вам известны его причины – и разве мои вспышки не сопровождались раскаянием и признанием вины? – в особенности последняя? – и разве я – разве мы – вплоть до самого дня нашей разлуки не были уверены, что любим друг друга – и что увидимся вновь – разве вы не писали мне ласковых писем? – разве я не признавался во всех своих ошибках и безумствах – и не заверял вас, что некоторые из них не повторятся – и не могут повториться? – я не требую, чтобы на эти вопросы вы ответили мне – ответьте своему сердцу. – Накануне получения письма вашего отца – я уже назначил день своего приезда к вам – если я в последнее время не писал – это делала за меня Августа – мне случалось переписываться с ней через вас – почему бы ей теперь не служить посредницей между мной и вами? – Что касается вашего сегодняшнего письма – то из некоторых его выражений можно заключить о таком обращении с вами, на какое я неспособен – и какое вы неспособны мне приписывать – если понимаете все значение своих слов – и все, что из них может быть выведено. – Это несправедливо – но я не намерен упрекать – и не хочу искать к этому повода. – Можно мне увидеться с вами? – когда и где угодно – и в чьем угодно присутствии: – это свидание ни к чему вас не обязывает – и я ничего не скажу и не сделаю, что могло бы нас взволновать. – Такая переписка – мученье; нам надо сказать и обсудить вещи, которые написать нельзя. – Вы говорите, что мне не свойственно ценить то, что я имею, – но разве это относится к вам? – разве я говорил вам – или другим о вас – что-либо подобное? – Вы, должно быть, сильно переменились за эти двадцать дней, иначе не стали бы так отравлять свои лучшие чувства – и так топтать мои.
Неизменно верный вам и любящий вас
Б.
13 февраля 1816 г., леди Байрон – к лорду Байрону:
Перечитывая ваше последнее письмо ко мне и второе – к моему отцу, я отметила несколько пунктов, на которые никто, кроме меня, ответить не может, поскольку мои собственноручные объяснения вызовут у вас меньшее раздражение.
Мои письма от 15 и 16 января. Может быть вполне ясно и четко показано, что я оставила ваш дом в уверенности, что вы страдаете от недуга столь тяжкого, что любое волнение может привести к роковому кризису. Мои просьбы перед отъездом, чтобы вы получили медицинскую помощь, повторенные в письме от 15 янв., должны убедить вас в том, что я именно так и полагала. Мое отсутствие, даже если бы к нему не побуждали иные причины, было рекомендовано с медицинской точки зрения на том основании, что из поля зрения исчезал объект вашего недовольства. Если бы я напомнила о своих обидах в такую минуту, я бы действовала вопреки моей неизменной приязни к вам, да и вопреки общим принципам гуманности. Из последующей переписки выяснилось, что опасения, высказывавшиеся не мною одной, были беспочвенны. Пока это не сделалось очевидным, моим намерением было пригласить вас сюда, где, несмотря на риск, я бы посвятила себя утишению ваших страданий, не напоминая о моих собственных, поскольку верила, что вы не могли отвечать за себя по медицинским показателям. Мои родители, питавшие те же опасения, с трогательным беспокойством поддержали мое предложение и были готовы принять вас у себя, чтобы способствовать вашему выздоровлению. О чем свидетельствует мое письмо от 16 янв. Хотя все эти причины (к которым, возможно, добавились и другие) я и не изложила, покидая ваш дом, но вы не могли забыть, что я предупреждала вас, со всей искренностью и любовью, о том, какие злосчастные и непоправимые последствия может возыметь ваше поведение для нас обоих, на что вы отвечали одним лишь упрямым желанием оставаться верным своей безнравственности[123], хоть это и разобьет мое сердце.
Чего мне следовало ожидать? Я не могу приписать ваше «душевное состояние» чему-либо, как только полному отвержению моральных устоев, которое вы исповедовали и которым похвалялись с самого дня нашей свадьбы. Ни малейшей тяги к исправлению заметить было невозможно.
Я неизменно исполняла все обязанности жены. То, что было между нами, оставалось слишком дорого для меня, чтобы отказываться от него, – до тех пор, пока оставалась хоть какая-то надежда. Теперь мое решение неизменно.
А. И. Байрон
15 февраля 1816 г., лорд Байрон – к леди Байрон:
Я не знаю, что сказать; все, что я предпринимаю, лишь еще более отдаляет вас от меня и углубляет «пропасть между тобой и мной»[124]. Если ее нельзя перейти, я погибну на дне ее.
Я написал вам два письма, но не отослал их; не знаю, для чего я пишу еще и это письмо и отошлю ли его. Насколько ваше поведение совместимо с вашим долгом и чувствами жены и матери, над этим я предоставляю вам поразмыслить самой. Испытание не было слишком долгим – оно длилось год, да, согласен – год терзаний, бедствий и душевного расстройства; но они доставались главным образом мне, и для меня, как ни горьки воспоминания о пережитом, горше всего сознание, что я заставил вас делить со мной мои бедствия. Относительно предъявленных мне обвинений ваш отец и его советники дважды отказались что-либо мне сообщить. Эти две недели я страдал от неизвестности, от унижения, от злословия, подвергался самой черной и позорной клевете и не мог даже опровергать догадки и пошлые толки относительно моей вины, раз ничего не мог добиться из единственного источника, где все должно быть известно. Между тем слухи, вероятно, дошли и до ваших ушей и, надеюсь, доставили вам удовольствие.
Я просил вас вернуться; в этом мне было отказано. Я хотел узнать, в чем меня обвиняют; но мне было отказано и в этом. Как назвать это – милосердием или справедливостью? Увидим. А сейчас, Белл, милая Белл, чем бы ни кончился этот ужасный разлад, вернешься ли ты ко мне, или тебя сумеют от меня оторвать, я могу сказать только то, что недавно столько раз повторял напрасно – а в беде не лгут, и у меня нет надежды, мотива или цели, – что я люблю тебя, дурен я или хорош, безумен или разумен, несчастен или доволен; я люблю тебя и буду любить, пока во мне жива память или жив я сам. Если я могу так чувствовать при самых тяжких обстоятельствах, при всех терзаниях, какие только могут разъедать сердце и распалять мозг, быть может, ты когда-нибудь поймешь, или хоть подумаешь, что я не совсем таков, как ты себя убедила, но ничто, ничто не сможет меня переменить.
До сих пор я избегал упоминать о своем ребенке, но в этих моих чувствах вы никогда не сомневались. Я должен спросить о ней. Я слышал, что она хорошеет и резвится; и я прошу, не через вас, а через кого угодно – через Августу, если можно – хотя бы иногда сообщать мне о ее здоровье.
Ваш и т. д.
Б.
4 марта 1816 г., к ней же:
Не знаю, какую обиду может нанести муж жене, один человек другому или даже человек – самому Богу, которую нельзя было бы, как нас учат верить, загладить долгим искуплением, которое я предлагал, еще не зная даже, в чем моя вина перед вами (потому что, пока ее не назвали, я не знаю за собой ничего такого, за что меня можно отталкивать с подобным упорством). Но раз надежды не осталось и вместо долга жены и матери моего ребенка я встречаю обвинения и непримиримость, мне больше нечего сказать, и я буду поступать сообразно обстоятельствам; но даже обида (хотя от нападок я намерен защищаться) оставляет неизменной любовь, с которой я всегда буду относиться к вам.
Б.
Мне сообщили, что вы сами составили предложение о раздельном жительстве; если так, я об этом сожалею; я усматриваю в нем стремление воздействовать на предполагаемые корыстные чувства того, кому предложение адресовано: «если вы расстанетесь с» и т. д. «вы тем самым получаете столько-то немедленно и еще столько-то после смерти тех-то и тех-то» – словно все дело в фунтах, шиллингах и пенсах! Ни слова о моем ребенке; жесткая, сухая юридическая бумага. О, Белл! Видеть, как вы душите и уничтожаете в себе всякое чувство, всякую привязанность, всякое сознание долга (ибо ваш первый долг – это долг жены и матери), – вот что гораздо горше всех возможных для меня последствий.
8 марта 1816 г., к Томасу Муру:
Вина – или даже беда – заключается не в моем «выборе» (если мне вообще следовало выбирать), потому что я считаю и повторяю, даже среди всей этой горькой муки, что вряд ли есть на свете существо лучше, добрее, милее и приятнее, чем леди Б. Я не мог и не могу ни в чем упрекнуть ее за все время, проведенное со мною. Если кто виноват, это я, и если я не могу искупить вину, то должен нести кару.
Ее семья это… – дела мои до сих пор крайне запутаны – здоровье сильно расстроено, а душа неспокойна, притом уже давно. Таковы причины (я не считаю их оправданиями), часто выводившие меня из себя и делавшие мой нрав несносным для окружающих. Некоторую роль, вероятно, сыграли и привычки к беспорядочной жизни, которые могли сложиться у меня вследствие ранней самостоятельности и блужданий по свету. Я думаю, однако, что если бы мне дали возможность исправиться и хоть сколько-нибудь сносную обстановку, все могло бы наладиться. Но дело, как видно, безнадежно – и сказать тут больше нечего. Сейчас – если не считать здоровья, которое улучшилось (как ни странно, любое волнение и борьба вызывают у меня подъем и временный прилив сил), на меня свалились все возможные неприятности, в том числе личные, денежные и т. д. и т. п.
Вероятно, я говорил вам об этом раньше, но на всякий случай повторяю. В несчастье меня пугают не лишения; моя гордость страдает от связанных с ним унижений. Однако не могу жаловаться на эту гордость, которая зато даст мне, я надеюсь, силы все перенести. Если сердце мое могло быть разбито, это случилось бы уже много лет назад, от более тяжких страданий.
18 марта 1816 г.
Что ж, прости – пускай навеки!
Сколько хочешь ты мне мсти,
Все равно мне голос некий
Повторить велит: «Прости!»
Если б только можно было
Пред тобой открыть мне грудь,
На которой так любила
Сном беспечным ты заснуть, –
Сном, нарушенным отныне, –
Сердцем доказать бы мог
Я тебе в твоей гордыне:
Приговор твой слишком строг!
Свет злорадствует недаром,
Но хотя сегодня свет
Восхищен твоим ударом,
Верь мне, чести в этом нет.
У меня грехов немало.
Не казни меня, постой!
Обнимала ты, бывало,
Той же самою рукой.
Чувству свойственно меняться.
Это длительный недуг,
Но когда сердца сроднятся,
Их нельзя разрознить вдруг.
Сердце к сердцу льнет невольно.
Это наша льется кровь.
Ты пойми, – подумать больно! –
Нет, не встретимся мы вновь!
И над мертвыми доселе
Так не плакало родство.
Вместо нас теперь в постели
Пробуждается вдовство.
Истомимся в одиночку.
Как научишь, наконец,
Без меня ты нашу дочку
Выговаривать: «Отец»?
С нашей девочкой играя,
Вспомнишь ты мольбу мою.
Я тебе желаю рая,
Побывав с тобой в раю.
В нашу дочку ты вглядишься,
В ней найдешь мои черты,
Задрожишь и убедишься,
Что со мною сердцем ты.
Пусть виновный, пусть порочный,
Пусть безумный, – не секрет! –
Я попутчик твой заочный.
Без тебя надежды нет.
Потрясен, сражен, подкошен,
Самый гордый средь людей,
Я поник, – тобою брошен,
Брошен я душой моей.
Все мои слова напрасны.
Как-нибудь себя уйму.
Только мысли неподвластны
Повеленью моему.
Что ж, простимся! Век мой прожит,
Потому что все равно
Больше смерти быть не может,
Если сердце сожжено.
(Пер. В. Микушевича)
Стихотворение это было опубликовано малым тиражом для друзей Байрона вместе с саркастическим «Очерком», обвинявшим гувернантку леди Байрон во всех смертных грехах – и в том, что она подговаривала свою воспитанницу оставить мужа. Вскоре торийская газета «Чемпион» перепечатала оба произведения, обвинив Байрона в лицемерии и актерстве.
…мне не довелось пережить ничего подобного… – Если верить Томасу Медвину, Байрон все-таки дважды стрелялся на дуэли.
Знаю только одно – что не вернусь. – Композитор Исаак Натан (ок. 1792–1864), автор музыки к «Еврейским мелодиям» Байрона, вспоминал:
«Я почти не покидал дома лорда Байрона на Пикадилли последние три дня перед тем, как он оставил Англию. Выразив сожаление по поводу его отъезда, я спросил, правда ли, будто он не собирается возвращаться. Лорд Байрон, пристально взглянув на меня, воскликнул: " Бог свидетель, у меня и в мыслях не было обрекать себя на ссылку! Откуда у вас эта идея? " Я ответил, что всего лишь повторяю распространившийся по Лондону слух. " Разумеется, я собираюсь вернуться, – продолжал он, – если только угрюмый тиран не вздумает подшутить надо мной"».
…«ветер попутный во Францию дул» – первая строка стихотворения Майкла Дрейтона (1563–1631) о битве при Азенкуре.
Сэмюель Роджерс (1763–1855) – английский поэт и, как сказано, банкир. Байрон полагал, что он «обладает отличным вкусом и способностью глубоко чувствовать искусство (и того и другого у него гораздо больше, чем у меня – потому что первого у меня совсем немного)» («Разрозненные мысли», № 115). В 1813 г. Байрон посвятил Роджерсу «Гяура», высоко оценил его стихи в «Английских бардах и шотландских обозревателях», а позднее – и в «Дон-Жуане». Заподозрив в 1818 г., что Роджерс распространяет порочащие его слухи, Байрон написал свирепую эпиграмму, однако же, когда Роджерс в 1821 г. приехал в Италию, Байрон встретил его по-дружески, и они провели вместе немало времени.
В июле 1816 г. Роджерс писал Вальтеру Скотту:
«Событие, о котором вы упоминаете, явилось для меня полной неожиданностью. Летом и осенью [1815 г.] я не замечал ничего необычного, хотя и подозревал, что они не были счастливы. После ее отъезда я виделся с ним ежедневно и свидетельствую, что он более всего боялся обидеть ее чем-нибудь. " Зла много, но ее оно не коснулось, – говорил он. – Она – совершенство, и в мыслях, и в словах, и в поступках". А если с чьих-то губ слетало хотя бы одно слово, таящее в себе нелицеприятный для нее намек, он немедленно останавливал говорящего».
Плетка и прут, выкрикивают дети, больно бьют, а мне от хулы хоть бы хны – Стишок, подбадривающий обиженного ребенка. Эти строки Байрон вспомнил в августе 1819 г. в письме к редактору «Бритиш ревью»: «Шутка, в отличие от плетки, " больно не бьет" – но бывает, из-за шутки берутся за плеть».
Лорд Б. всегда заявлял, что покинул Англию, поскольку слухи о его пороках и преступлениях сделали невозможным его появление в обществе… – В марте 1820 г. Байрон составил открытое письмо «Некоторые замечания по поводу статьи в эдинбургском журнале " Блэквудз мэгэзин"», которую я цитировал ранее (см. прим. к с. 198). Письмо это – посвященное Исааку д'Израэли как автору книги «Писательские ссоры» – излагает причины, побудившие Байрона покинуть Англию.
«…Ни один человек не может " оправдаться ", пока ему неизвестно, в чем его обвиняют; а я никогда этого не знал – и, Бог свидетель, единственным моим желанием было добиться какого-нибудь определенного обвинения, которое в доступной пониманию форме было бы изложено мне моим противником или кем-либо иным, а не навязано чудовищными сплетнями, порожденными молвой и загадочным помалкиваньем казенных поверенных моей супруги… " Единодушный глас соотечественников", кажется, уже давным-давно вынес по этому вопросу приговор без суда и осуждение без обвинения. Разве уж я давно не подвергнут остракизму? … Разве критик не знает, каково было общественное мнение и поведение в этом деле? Но если он не знает – я-то сам слишком хорошо знаю: общество забудет и то и другое задолго до того, как я перестану помнить это.
Человек, изгнанный происками какой-нибудь клики, может утешаться, считая себя мучеником; его поддерживает надежда и то благородное дело, во имя которого он страдает, – настоящее либо воображаемое; человек, осужденный за долги, может утешаться мыслью, что со временем благоразумная осторожность выведет его из затруднений; человек, осужденный законом, имеет какой-то срок своего изгнания либо мечту о том, что срок этот убавится, он может возмущаться несправедливостью закона или несправедливым приговором; но человек, изгнанный общественным мнением, безо всякого вмешательства враждебной политики, или законного суда, или тяжких денежных обстоятельств, будь он виновен или невиновен, пожинает всю горечь изгнания безо всякой надежды, без гордости, без малейшего самоутешения. Так именно и обстояло дело со мной. На основании чего вынес свет свое осуждение, мне неизвестно, но оно было всеобщим и решительным. Обо мне и о моих близких ему мало было что известно, исключая то, что я писал так называемые стишки, был дворянином, женился, стал отцом, что у меня были разногласия с женой и ее родственниками, но неизвестно из-за чего, ибо обиженные лица не пожелали изложить свои обиды. Светское общество разделилось на две части – на моей стороне оказалось скромное меньшинство. Благоразумные люди, естественно, оказались на более сильной стороне, то есть заступились за даму, как оно и полагается порядочным и учтивым людям. Пресса подняла непристойный гвалт, и все это стало до такой степени " злобой дня", что незадачливое появление в печати двух стихотворений – скорее любезных по отношению к их адресатам[125] – было возведено в своего рода преступление или подлое предательство. Общественная молва, а заодно и личная злоба готовы были обвинять меня в любом чудовищном пороке; имя мое, унаследованное мной от благородных рыцарей, которые некогда помогли Вильгельму Норманнскому завоевать Англию, было запятнано. И я чувствовал, что если бы все то, что шепчут, бормочут и недоговаривают, было правдой, то я был бы недостоин Англии; а если это ложь – Англия недостойна меня. И я удалился: но этого оказалось недостаточно. В чужих странах, в Швейцарии, под сенью Альп, у голубых озер меня преследовала и гналась за мной все та же клевета. Я перешел по ту сторону гор, но и тут было то же; я отправился еще дальше и обосновался у вод Адриатического моря, как затравленный олень, которого свора загоняет к воде.
Если судить по предупреждениям некоторых друзей, оставшихся возле меня, травля, о которой я говорю, представляла собою нечто поистине небывалое, не выдерживающее никакого сравнения даже с теми случаями, когда, в силу неких политических соображений, вражда и клевета обостряются и раздуваются елико возможно. Мне советовали не ходить в театр, дабы меня не освистали, пренебречь моими обязанностями и не появляться в парламенте, чтобы не нарваться на оскорбление; и даже в день моего отъезда мой близкий друг, как он потом рассказывал мне сам, опасался, как бы я не подвергся насилию толпы, когда буду садиться в карету. Однако эти советы не пугали меня, и я ходил смотреть Кина в его лучших ролях и голосовал в парламенте согласно моим убеждениям; что же касается последнего опасения моих друзей, я не мог разделять его просто потому, что узнал о нем уже только после того, как пересек Пролив. Но будь я даже осведомлен о нем раньше, я по природе своей мало чувствителен к людской злобе, хоть и могу чувствовать себя уязвленным людской ненавистью. От какого бы то ни было личного выпада я сумею защитить себя или проучить обидчика; полагаю, что если бы мне пришлось иметь дело с разъяренной толпой, я также сумел бы постоять за себя и кое в ком нашел бы поддержку, как оно бывало и раньше в подобных случаях.
Я покинул отчизну, обнаружив, что являюсь предметом всеобщей клеветы и пересудов; я, правда, не воображал, подобно Руссо, что весь род людской в заговоре против меня, хоть у меня, пожалуй, были не менее веские основания обзавестись подобной химерой. Но я обнаружил, что моя особа стала в значительной мере ненавистна в Англии, – возможно, что по моей собственной вине, – однако самый факт не подлежал сомнению; будь на моем месте человек, пользующийся несколько большей общественной симпатией, вряд ли общество могло бы так бурно ополчиться против него, не располагая ни малейшими обвинениями, ни какими-либо изобличающими данными, подкрепленными свидетельством. Я с трудом могу представить себе, чтобы такое житейское, повседневное явление, как расхождение супругов, могло само по себе вызвать такое возмущение. Я отнюдь не собираюсь прибегать к обычным жалобам на то, что " кто-то там был предубежден", что меня " осудили, не выслушав", что это " несправедливость", " пристрастный суд" и т. д., – обычные сетования людей, которым пришлось или предстоит пройти через судебную процедуру; но я был несколько изумлен, когда обнаружил, что меня осудили, не соизволив предъявить мне обвинительного акта и что отсутствие оного страшного обвинения или обвинений в чем бы то ни было возмещалось с избытком молвой, которая приписывала мне любое мыслимое или немыслимое преступление и признавала его за мной безоговорочно. Это могло произойти лишь с человеком, весьма ненавистным обществу, и тут уж я ничего не мог сделать, ибо все мое небольшое умение нравиться я исчерпал до конца. У меня не было поддержки ни в каких светских кругах, хотя мне потом стало известно, что один такой кружок был – но я не создавал его и в то время даже не знал о его существовании; не было поддержки и в литературных кругах. Что же касается политики, я голосовал с вигами, и значимость моего голоса в точности соответствовала тому, что значит голос любого вига в наши дни, когда страной правят тори, причем личное мое знакомство с лидерами обеих палат не выходило за пределы того, что допускается светским общением; я не мог рассчитывать на дружеское участие ни с чьей стороны, если не говорить о нескольких сверстниках и небольшом круге людей более почтенного возраста, которым мне посчастливилось оказать услугу в трудных для них обстоятельствах. Это в сущности означает – быть в полном одиночестве, и мне вспоминается, как некоторое время спустя в Швейцарии мадам де Сталь сказала мне однажды: " Не следовало вам воевать со всем светом, ни к чему это не приводит, ибо всегда оказывается не под силу для одного человека: когда-то в юности я сама пробовала – ни к чему это не приводит". Я вполне признаю справедливость этого замечания, однако свет оказал мне честь и сам начал эту войну; и, разумеется, если мир может быть достигнут только при помощи льстивого преклонения и угодничества, – я не способен заслужить его расположение».
Защита Байрона выстроена ярко и убедительно – но открывается она явно ложным утверждением, что леди Байрон не была прототипом донны Инесы из первой песни «Дон-Жуана» (см. прим. к с. 465).
Генри Брум (1778–1868) – шотландский юрист, сотрудник «Эдинбург ревью» (на страницах которого нападал на Байрона), член палаты общин от партии вигов, лорд-канцлер в 1830–1834 гг. Посылая 7 декабря 1818 г. из Венеции первую песнь «Дон-Жуана» издателю Меррею для анонимной публикации, Байрон указал, что строфы, описывающие бракоразводный процесс дона Альфонсо и Юлии, не должны быть напечатаны.
Любителям большое наслажденье
Доставил суд; жаль, Брума только нет
В Испании: его известно рвенье
Во всем, что может быть причиной бед,
Во всяких сплетнях, пересудах, чтеньи
Чужих бумаг… Найти стараясь след
К почету, он, в угоду личным видам,
Готов на все – и, право, semper idem! [126]
Горяч в речах – и холоден в бою;
Защитник негодяев – но за плату;
Хоть, впрочем, даром руку даст свою
Любому негодяю или фату;
Он с трусом – храбр, но с храбрым – на краю
Сейчас готов свою поставить хату;
Доносчик на народ и сильным враг,
Хоть служит им, как истинный варяг.
(Пер. П… Морозова)
Очертив в примечании к этим строкам натуру и карьеру Брума, Байрон продолжает:
«Изображенный выше характер описан не беспристрастно лицом, которое имело случай узнать некоторые, наиболее низменные, его стороны и вследствие этого смотрит на него с брезгливым отвращением и с такою долею страха, какой он заслуживает. В нем страшен не прыжок тигра, а медленное вползание стоножки – не дикая сила хищного зверя, а яд пресмыкающегося – не мужество Человека, а мстительность негодяя.
Если эта проза или помещенные выше стихи вызовут судебное преследование, то я подпишу под ними свое имя, чтобы этот человек мог привлечь к суду меня, а не издателя. Я питаю слабую надежду на то, что клеймо, которым я его запятнал, побудит его, хотя бы и против его желания, к более мужественному ответу».
«…Не желаю, находясь на таком расстоянии, печатать подобные вещи о человеке, который может оставить их без ответа, ссылаясь на то, что противник слишком далеко, – пояснял Байрон Меррею свое решение. – Впрочем, в отношении этого негодяя Брума мне давно известно все… При первой же нашей встрече – в Англии или вообще на земле – он должен будет дать мне ответ, и одного из нас принесут домой… Вы можете показать эти строки и ему, и всем тем, кого это может заинтересовать».
…защитником королевы Шарлотты… – Еще одна ошибка Ады: она имеет в виду не принцессу Уэльскую Шарлотту (1796–1817), дочь Георга IV, – а ее мать, Каролину Брауншвейгскую (1768–1821). Супруги испытывали взаимную антипатию и начали жить врозь сразу после рождения дочери. Георг пытался отобрать дочку у неверной жены (которой и сам был неверен). В 1814–1820 гг. Каролина жила в Италии: она вернулась в Англию только после смерти свекра в июне 1820 г. Новый король потребовал развода и попытался провести через палату лордов соответствующий билль. Каролина пользовалась все большей популярностью в народе – ей запретили посещение коронации 19 июля 1821 г., – но она несколько раз пыталась туда прорваться – безуспешно – к вящим насмешкам толпы – в тот же вечер она слегла – и скончалась 7 августа. Брум был официальным поверенным Каролины с апреля 1820 г.
* * *
Чудовищный родитель, громадного роста (его колоссальная тень на стене прямо заимствована из прославленного готического романа – не могу припомнить, какого именно). – М-р Роан Дж. Уилк, к которому я обратился для решения этого вопроса, не помнит также; однако уверен, что этот роман – не выдумка. Возможно, подразумевается книга, о которой писала в предисловии к «Франкенштейну» Мэри Шелли:
«В руки к нам попало несколько томов рассказов о привидениях в переводе с немецкого на французский… Была там и повесть о грешном родоначальнике семьи, который был осужден обрекать на смерть своим поцелуем всех младших сыновей своего несчастного рода, едва они выходили из детского возраста. В полночь, при неверном свете луны, исполинская призрачная фигура, закованная в доспехи, подобно призраку в " Гамлете", но с поднятым забралом, медленно проходила по мрачной аллее парка. Сперва она исчезала в тени замковых стен; но вскоре скрипели ворота, слышались шаги, дверь спальни отворялась, и призрак приближался к ложу цветущих юношей, погруженных в сладкий сон».
Шелли ссылается на сборник «Фантасмагориана, или Собрание историй о привидениях, духах, фантомах и пр.» (Париж, 1812; изд. анонимное, авторы – Фридрих Август Шульце и Иоганн Август Апель).
Томас Медвин (1788–1869) – родич, соученик и биограф Шелли. Сейчас главным образом известен книгой «Разговоры лорда Байрона, записанные во время проживания с его светлостью в Пизе в 1821 и 1822 годах» (1824).
…мать неизменно его любила и подавляла заботой, а это было ему ненавистно – между ними происходили бурные стычки. – В Харроу, будучи свидетелем очередных пароксизмов материнской ярости, Байрон лишь мрачно отвечал: «Я знаю», когда другие ученики говорили ему: «Байрон, у тебя мать сумасшедшая».
«Чем больше я ее вижу, тем более усиливается моя неприязнь, причем я не умею скрыть ее настолько, чтобы она ничего не заметила; и это отнюдь не смиряет ее вспышек; напротив, вздымает ураган, который грозит все сокрушить, пока не стихает на краткий миг, утомясь собственной яростью, и не впадает в оцепенение, чтобы вскоре пробудиться с новым бешенством, ужасным для меня и удивительным для всех свидетелей… Ни один чернокожий раб или военнопленный не ждал освобождения с большей радостью и большим нетерпением, чем я жажду вырваться из материнского плена и из этого проклятого места, истинного царства скуки, более сонного, чем берега Леты – хотя оно не дарит забвения; напротив, отвратительные сцены, которые передо мной разыгрываются, заставляют меня сожалеть о счастливых днях, оставшихся в прошлом, и жаждать их снова» (Августе, 18 августа 1804 г.).
Мур вспоминал:
«Он часто говорил маркизу Слиго о матери с чувством, близким к отвращению. " Когда-нибудь я открою вам причину", – сказал он однажды. Несколько дней спустя, во время купания у берегов Коринфа, он вспомнил о данном обещании и, указывая на свою обнаженную ногу, воскликнул: " Глядите! Этим увечьем я обязан ее ложной стыдливости во время родов. И сколько я себя помню, она им меня попрекала. Даже накануне моего отъезда из Англии [в 1809 г.], когда мы виделись в последний раз, она в обычном припадке бешенства прокляла меня, не преминув крикнуть, что я так же глуп, как и уродлив! " Его взгляд и голос, которым он рассказывал эту ужасную историю, могут представить себе только те, кто видел его в минуты подобного возбуждения».
Написанная в 1822 г. драма «Преображенный урод» открывается словами: «Пошел, горбач!» – «Я так родился, мать». (Горбун появится в романе далее.)
Байрон вернулся в Англию в июле 1811 г. и не торопился ехать в Ньюстед. 1 августа миссис Байрон получила счет от обойщика, по обыкновению пришла в ярость – и умерла от удара. Байрон рыдал у ее гроба.
«Глядя на эту разлагающуюся массу, бывшую когда-то существом, из которого я вышел, я спрашивал себя, действительно ли аз есмь и вправду ли она была. – Я потерял ту, которая дала мне жизнь, и утратил многих из тех, кто наполнял счастьем эту жизнь. У меня нет ни надежд, ни страха перед тем, что ждет меня по ту сторону могилы… – Я очень одинок и счел бы себя совершенно несчастным, если бы не какое-то истерическое веселье, которое я не могу ни понять, ни превозмочь; но, как ни странно, я смеюсь от всего сердца, сам при этом изумляясь» (Хобхаузу, 10 августа 1811 г.).
…призналась и Августа. – Письма Аннабеллы Байрон, написанные Августе в эпоху разрыва с мужем, весьма примечательны. Здесь и попытки если не подольститься к золовке, то, по крайней мере, подобраться поближе к ее личной жизни («Ведь мы останемся сестрами, правда?»); и попытки настроить Августу против брата («И пока вы не поймете, что он – худший из ваших друзей, – а на деле вовсе не друг – вы не увидите вещи такими, каковы они есть, – однако я вовсе не хочу сделать вас немилосердной – простите его – пожелайте ему блага…»); и многое другое. Готовясь ко встрече с Августой в августе 1816 г., Аннабелла заготовила список вопросов, начинавшийся так:
«Что вас более угнетает: ваш грех или его последствия? – ваша вина против Бога – или ваших ближних?
Чувствуете ли вы совершенно ясно, что всякая мысль, связанная с таким грехом, сама по себе греховна и что сердце может быть преступно даже и тогда, когда поступки невинны?»
В результате Августа начала показывать невестке даже самые интимные письма Байрона, и та делала на этой основе выводы касательно морального облика грешницы.
…срок судебного преследования за изнасилование несовершеннолетней… – Один из прототипов Ли Новака – несомненно, сам Краули, автор сценариев ко множеству документальных фильмов. Однако преступление Ли и его многолетнее проживание за пределами Америки связаны со скандалом вокруг Романа Поланского (род. 1933): в 1977 г. режиссера обвинили в растлении 13-летней девочки, и Поланский бежал в Лондон, а оттуда – во Францию, гражданином которой является. Судебное дело против него не прекращено до сих пор: лос-анджелесские судьи отказываются принимать решение, пока Поланский не явится в зал заседаний.
Потом открываешь сайт Экспедии… – «Дешевые билеты, отели, прокат машин, отпуска и путешествия»: https:// www.expedia.com/
Мэтью Грегори Льюис (1775–1818) – прозаик и драматург. Байрон называл его «Монаха» (1796) «одним из лучших романтических сочинений на любом языке, включая немецкий… " Монах" был написан, когда Льюису не было двадцати – и, кажется, совершенно истощил его гений».
«Льюис был хорошим и умным человеком, но нудным, дьявольски нудным. Моей единственной местью или утешением бывало стравить его с каким-нибудь живым умом, не терпящим скучных людей, например с мадам де Сталь или Хобхаузом. Но все же я любил Льюиса; это был не человек, а алмаз, если б только был получше оправлен. Получше не в смысле внешности, но хоть бы не был так надоедлив; уж очень он умел нагнать скуку, а кроме того, противоречил всем и каждому.
Он был близорук, и когда мы в летние сумерки катались с ним верхом по берегу Бренты, он посылал меня вперед, чтобы указывать дорогу. Я бываю порой рассеян, особенно по вечерам; в результате наш конный Монах несколько раз был на волосок от гибели. Однажды он угодил в канаву, которую я перепрыгнул как обычно, забыв предостеречь моего спутника. В другой раз я едва не завел его в реку, вместо того чтобы привести к раздвижному мосту, неудобному для путников; и оба мы дважды налетали на дилижанс, который, будучи тяжелым и тихоходным, причинил меньше повреждений, чем получил сам; особенно пострадали передние лошади, на которых пришелся удар. Трижды он терял меня из виду в сгустившейся тьме, и я должен был возвращаться на его жалобные призывы. И все время он без умолку говорил, ибо был очень словоохотлив.
Он умер, бедняга, как мученик своего нового богатства, от второй поездки на Ямайку.
Я б землю Делорэн отдал,
Чтоб Масгрейв из могилы встал[127],
т. е.:
Я б сахарный тростник отдал,
Чтоб Льюис из могилы встал».
(«Разрозненные мысли», № 17).
«Мне думается, что если бы сочинительница написала правду и только правду – всю правду, – роман получился бы не только романтичнее, но и занимательнее». – Муру, 5 декабря 1816. «Что касается сходства, – продолжает Байрон, – то его нельзя было и ожидать – для этого я недостаточно долго позировал». Намек на Каролину Лэм и «Гленарвона» был включен во вторую песнь «Дон-Жуана» (CC–CCI):
И вспомните, как часто мы, мужчины,
Несправедливы к женщинам! Не раз,
Обманывая женщин без причины,
Мы учим их обманывать и нас.
Скрывая сердца боль от властелина,
Они молчат, пока приходит час
Замужества, а там – супруг унылый,
Любовник, дети, церковь и… могила.
Иных любовная утешит связь,
Иных займут домашние заботы,
Иные, на фортуну осердясь,
Бегут от положенья и почета,
Ни у кого из старших не спросясь,
Но этим не спасаются от гнета
Условностей и, перестав чудить,
Романы принимаются строчить.
Устно же Байрон иронически уверял, что изображен в романе «симпатичным малым».
…«Байрон начал прозаическую повесть – слегка затушеванную аллегорию своих матримониальных дел, но, узнав, что леди Байрон больна, бросил рукопись в огонь». – Об этом известно со слов Мура: Байрон пересказал, применив к своим обстоятельствам, новеллу Макиавелли о браке демона Бельфегора, который вскоре бежал от жены обратно в ад. Узнав о болезни бывшей жены, Байрон в последний раз посвятил ей стихотворение (опубл. 1831):
Скорбела ты – и не был я с тобою,
Болела ты – и был я вдалеке;
Я мнил, что место боли и тоске –
Лишь там, куда заброшен я судьбою.
Ужель сбылось пророчество? Того,
Кто меч извлек – он ранит самого.
Меж тем как сердце стынет – бездыханно,
Отчаянье все грабит невозбранно.
Мы смерть зовем не в бурю, в грозный час,
Но посреди затишья рокового,
Когда всего лишились дорогого
И теплится остаток жизни в нас.
Теперь отомщены мои обиды:
В какой ни укорят меня вине –
Творцом не ты дана мне в Немезиды:
Орудье кары слишком близко мне.
Кто милосерд – тех небо не осудит,
Всем воздано по их заслугам будет.
Ты изгнана в ночи из царства сна,
Пускай тебе все льстило без изъятья –
Неисцелимой мукой ты больна,
Ты изголовьем избрала проклятья.
Ты сеяла – и должен был страдать я,
И жатву гнева ты пожать должна.
Я не имел врагов, тебе подобных,
Я защититься мог от остальных,
Им отомстить, друзьями сделать их,
Но ты была в своих нападках злобных
И слабостью своей ограждена,
И нежностью моей, что не должна
Была б иных щадить – тебе в угоду;
И в правоту твою поверил свет,
Что знал грехи моих минувших лет,
Когда во зло я обращал свободу.
На основанье этом возведен
Мне памятник тобой – грехом скреплен.
Как Клитемнестра, мужа палачом
Духовно ты была[128], клевет мечом
Надежду, честь, покой – ты все убила,
Что вновь расцвесть могло б для бытия,
Когда б их безвозвратно не сгубила
Измена хладнокровная твоя.
Ты добродетель сделала пороком:
За месть – теперь, за будущий барыш
Продав ее, в спокойствии жестоком
Ее ценою ты меня казнишь.
С тех пор, как ты пошла кривой дорогой,
С правдивостью ты разлучилась строгой,
Присущею тебе, и глубины
Не сознавая собственной вины –
С двусмысленностью утверждений диких
И дум, достойных Янусов двуликих,
С обманами поступков и речей,
Со взором знаменательных очей,
Что осторожность выставив предлогом,
Безмолвно лгут из выгоды во многом –
Со всем мирится нравственность твоя.
Любым путем ты к цели шла желанной,
И вот к концу приводит путь избранный.
Как ты со мной – не поступил бы я!
(Пер. О. Чюминой)
Джон Хукем Фрир (1769–1846) – британский дипломат и писатель (см. с. 220), работал в Лиссабоне, Мадриде, Берлине и вновь в Мадриде, однако его карьера оборвалась, когда Фрира обвинили в том, что он во время наступления Наполеона своими советами подставил английскую армию под удар (из-за чего в черновиках «Чайльд-Гарольда» Фрир назван «неумехой»). Последнюю четверть века он провел на Мальте, переводя Аристофана и изучая еврейский и мальтийский языки. Временами Фрир наезжал в Лондон и однажды заметил, как меняются времена: прежде великие поэты были слепы (Гомер и Мильтон), теперь – хромы (Скотт и Байрон). В 1817 т. Фрир опубликовал поэму, о которой здесь рассказывает Ли, – пародийный эпос «Проспект и Образец задуманного Национального Опуса, долженствующего заключить в себе наиболее примечательные подробности касательно короля Артура и его Круглого Стола». Пьеса Фрира «Скитальцы» процитирована в предисловии к «Чайльд-Гарольду».
…шуточными рифмами в стиле Огдена Нэша… – Огден Нэш (1902–1971) – американский поэт, автор иронических стихотворений с неожиданными и каламбурными рифмами.
Луиджи Пульчи (1432–1484) – итальянский поэт, автор ирои-комической поэмы «Моргайте Маджоре» (1483), первую песню которой Байрон перевел.
…эпиграф к ДЖ, взятый из Горация… – «Трудно по-своему выразить общее…» («О поэтическом искусстве», 128; пер. А. Фета).
…domestica facta… – «Воспеть домашние наши явленья…» (там же, 287).
|
|