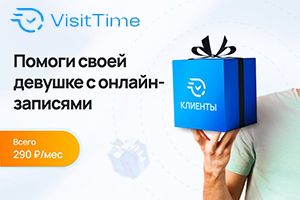Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Лесная сторона
|
|
Рыбалко распустил нас «веером» и мы растворились в царстве белорусских лесов.
В мирные годы проезжал я по большим и малым дорогам, тянущимся через эти леса, но в 41-м все дороги для нас были заказаны. Мы подолгу изучали карты местности, но не для того, чтобы найти пути-дороги, а чтоб надежнее потерять их и уйти дальше в лесную глушь.
Лес был молчалив, словно хранил тайну великую. По дорогам грохотали моторы, лязгали гусеницы, проходили войска, а в глубине леса копилась тишина. Немцы занимали дороги, но громада леса пугала их и они в нее не смели углубляться. В лесных чащах, на берегах озер, у редких колодцев шла своя, неприметная жизнь, порожденная войной.
Я держал путь к лесному селу Выселки. На закате солнца я подошел к шоссе. Надо было ждать, пока стемнеет и только потом пересечь его. По шоссе двигался поток немецких войск. Я не видел их, но грохот моторов и людские голоса доносились до того места, где я лежал под деревом, куря папиросу за папиросой. В вечерней полутьме я подошел к самому шоссе. Как раз в это время проходила пехотная часть. Солдаты высекали из булыжников искры подковами своих сапог. Слышалась немецкая речь.
Позади меня, среди деревьев, проплыли три силуэта. Немецкий дозор. Надо было затаить дыхание и прижаться к земле. Сознание говорило, что дозор не может заметить человека, лежащего в темноте под кустом, но страх не покорен сознанию.
Неожиданно с шоссе донеслась русская речь. Удивленный, я вновь приподнял голову. Пехота уже прошла и теперь, в противоположном направлении, двигалась темная колонна. Я не ошибся, в колонне говорили по-русски. До меня явственно донесся запах махорки и характерное шуршание. Его могут издавать только сапоги с кирзовыми голенищами, трущимися одно о другое. Советские солдаты обуты в такие сапоги. Немцы ведут советских пленных.
В полночь, когда движение почти замерло и лишь изредка пробегали бронированные автомобили, я пересек шоссе и, ориентируясь по компасу, зашагал через лес.
Утро застало меня вдалеке от шоссе. По лесным тропам до меня прошло много людей. Об этом можно было судить по брошенным в кусты винтовкам и каскам, рассыпанным то тут, то там патронам. Иногда тропу перегораживала брошенная пулеметная тачанка с новеньким станковым пулеметом на ней и с полным комплектом боеприпасов. В одной лощинке я наткнулся на три небольших пушки. Около них аккуратно были сложены ящики со снарядами, словно кто-то готовился здесь вести бой.
У лесного колодца, к которому меня привела карта, увидел я бойца, поящего из брезентового ведра тяжелого артиллерийского коня. Может быть, этот боец был из той артиллерийской части, что бросила пушки в лесной лощинке. Он пристально смотрел мне навстречу. Был он молод, рябоват.
— Из какой части? — спросил я, протягивая руку к ведру, чтобы напиться.
Он назвал неизвестную мне часть. Я пил из ведра тепловатую, пахнувшую илом воду, а боец внимательно рассматривал меня. Конь уныло стоял, опустив вниз голову и по обычным признакам я видел, что болен конь желудочной болезнью.
— Ты коня поберег бы, — сказал я.
— Берегу, — солдат пригладил ладонью челку коня. — А вы, товарищ капитан, не знаете чем его лечить? Понос у него открылся… Наши все ушли, а я с конем остался. Жалко бросать.
— Куда ушли?
— Да, кто куда. Одни к фронту подались, а другие совсем даже наоборот.
— А вы?
— А я с конем остался.
— А дальше что думаете делать? Приказ Сталина знаете?
Лицо солдата покраснело, отчего рябины проступили еще явственнее.
— Так у Сталина, товарищ капитан, тоже понос открылся, как у моего коня. Только разница в том, что коня мне жалко, а Сталина нет. Вот ведь какая штуковина.
Солдат мне понравился и я предложил ему отправиться со мною. Это было нарушением приказа Рыбалко, запретившего мне до достижения Выселок «обрастать» людьми.
Солдата звали Кузьмой. Он охотно рассказывал о себе. Обыкновенная история молодого колхозника, родившегося уже при советской власти.
— В колхозе жить было бы можно, да уж очень долгов у нас много. Хлеба растут богатые, а нам остается с гулькин нос. Еще и не вызреют хлеба, а мы уже знаем, что государству да эмтээсу из десяти колосков приходится семь. Потом, конечно, всякие делимо-неделимые фонды. Взаймы государству должен дать, на осоавиахимы, на борцов революции, на постройку самолета всё должен, должен и должен.
Кузьма засмеялся, что-то вспомнив:
— Был у нас в деревне дед Сипунов, въедливый такой старик. Он как-то на собрании речь держал. Агитатор до него говорил и всё кричал, что должны мы государству хлеб вовремя сдать, ну, и всё такое. После него дед Сипунов слово попросил. Скажите, говорит, товарищ из района, а много мы еще чего должны? Вот, к примеру, у меня советская власть, всё хозяйство забрала, остались на мне только портки. А вы говорите, что я опять должен. Так что, извините, придется портки снимать… И что бы вы думали? Начал, старый лешак, брюки расстегивать. Крик тут, конечно, бабы подняли… Потом деда судили и в Сибирь на пять лет засобачили.
Кузьма рассказывал, ведя за собой коня, и нет-нет взглядывал на него жалостливыми глазами. Из крови мужичьего сына колхоз не вытравил привязанности к коню, которая издавна жила среди крестьян.
Тропа сделала крутой поворот и перед нами открылась обширная поляна, засеянная рожью. На другой ее стороне, прячась меж деревьев леса, виднелись дома. Это и были Выселки.
У крайнего дома стояла группа людей, наблюдавшая за нашим приближением. Когда мы подошли ближе, от нее отделился лейтенант, в лихо сдвинутой на затылок фуражке. Он подошел с обычным вопросом:
— Из какой части, товарищ капитан?
— Проводите меня к генерал-лейтенанту Ракитину, — вместо ответа попросил я лейтенанта.
Удивленный лейтенант развел руками, но спрашивать об источнике моей осведомленности не стал.
Кузьма с конем остался у первого же двора, а меня лейтенант повел дальше. В просторном, пропахшем лекарствами доме, в который мы вошли, стояла мертвая тишина. На длинной скамье, тянущейся вдоль стены, в неудобной позе спала девушка. Одна нога в хромовом сапоге свесилась со скамьи.
Между печью и стеной протянута была ситцевая, цветастая занавеска. Из-за нее раздался негромкий мужской голос:
— Нюра, кто это пришел?
Девушка вздрогнула и быстро встала со своего твердого ложа. Увидев нас, она смущенно улыбнулась, подошла к занавеске и раздвинула ее. На кровати, покрытый лоскутным одеялом, лежал седоволосый великан с круглым лицом. Это-и был генерал-лейтенант Ракитин, которого мне приказано разыскать.
Я назвал себя и доложил кто я, откуда и зачем прибыл.
— Генерал-майор Рыбалко приказал явиться к вам, чтобы сопровождать вас в место, намеченное для сбора личного состава войск, оставшегося в немецком тылу.
— Это все?
— Все.
Ракитин пошевелил пальцами, словно они помогали ему о чем-то думать.
— Как далеко до этого места? — спросил он.
— Немногим больше пятидесяти километров. Но опасный участок, который мы должны пройти ускоренным маршем и ночью, не длиннее десяти километров. Нам надо пересечь шоссе.
— Насчет ускоренного марша — не знаю, — вяло проговорил Ракитин. Видно было, что он думает о чем-то другом. — Ходок из меня теперь никудышный.
Рука лежащего поползла вдоль тела. Только теперь я заметил, что одеяло плотно облегало правую ногу генерала. Левой не было.
— Вот, всё ищу свою ногу, — жалко улыбнулся генерал. — Всё кажется, что мозоль на мизинце левой ноги болит.
Девушка стояла у изголовья генерала — строгая и словно за что-то осуждающая меня.
— Папе нельзя много разговаривать, — проговорила она.
— Ничего, доченька, я уже в полном порядке. Это «доченька», произнесенное грустным голосом генерала, отозвалось во мне волнением. Странно, что Ракитин оказался в этой лесной глуши с дочерью, но спрашивать об этом было бы не к месту.
— Скажите, капитан, вы совершенно уверены, что сказали мне всё?
В глазах Ракитина, обращенных на меня, было откровенное ожидание, но я не знал, чем оно вызвано. Я, действительно, сказал всё, что должен был и мог сказать.
— Хорошо. Мой начальник штаба находится где-то поблизости. Согласуйте все вопросы с ним. Ракитин отвернул лицо к стене.
— У командарма было раздроблено колено и начиналась гангрена. Пришлось ногу отрезать, — рассказывал лейтенант по дороге к соседнему дому, где помещался начальник штаба танковой армии, которой командовал Ракитин. От всей этой армии осталась только часть штаба, добравшаяся до Выселок, да какое-то количество солдат и офицеров, бродящих теперь в лесах.
— Хорошо, что с вами были врачи.
— Врачей не было. Нюра отрезала. Мы держали, а она резала.
Я внутренне содрогнулся, представив себе всё это. Сколько силы должно было быть у Нюры, чтобы отрезать отцу ногу!
У начальника штаба, сутулого генерал-майора с лысым черепом, как и у Ракитина, появилось в глазах тревожное ожидание, когда я докладывал. Не позабыл ли я, в самом деле, чего-то важного, что должен сказать этим генералам? Кажется, нет. Тогда чего же они ждут от меня?
— Оставьте нас с капитаном наедине, — приказал генерал лейтенанту. Тот молча вышел.
— Вы всё сказали? Ничего не упустили? — спросил меня генерал.
— Всё. Мне кажется, что вы ждете от меня еще каких-то сообщений, но я, право же, не знаю, что я мог бы еще сказать. Мне лишь приказано разыскать вас и обеспечить безопасное, насколько это, вообще, возможно, передвижение к месту, назначенному генерал-майором Рыбалко.
— А откуда Рыбалко известно, что мы находимся здесь?
Это уже начинало походить на допрос.
— Не могу сказать.
— Не можете или не знаете?
Генерал пристально смотрел мне в глаза и я видел, что он придает какое-то особое значение моему ответу.
Генерал вынул из кармана грязный кисет и стал неумело вертеть козью ножку. В коробке у меня оставалось еще несколько папирос и я протянул ему их. Подумав, он взял одну, а остальные вернул.
— Отдайте Ракитину.
Закурив, долго молчал. Думая, что меня отпускают, я приподнялся со скамьи.
— Сидите! — приказал генерал, затягиваясь папиросным дымом. — Вы не должны обижаться, что я вас допрашиваю. Положение, видите ли, очень… ответственное. Пожалуй лучше, если вы будете знать.
И генерал-майор рассказал мне, что в Москве отдан приказ о расстреле Ракитина, допустившего разгром танковой армии, которой он командовал.
— Меня, как начальника штаба, ждет та же участь, — печально улыбнулся генерал-майор. Об этом приказе Сталина сообщили штабные радисты, которые потом сбежали, бросив радиостанцию. Последнее сообщение, которое удалось передать в Москву, указывало на Выселки, как на место, куда остатки штаба могли дойти, неся на носилках раненого Ракитина.
— Вполне возможно, что из Москвы были даны указания вашему генералу… Во всяком случае, кто-то должен был появиться.
Теперь я понял. Ракитин и его начальник штаба ждали появления исполнителя приговора над ними. Приказ расстрелять Ракитина мог быть дан любому офицеру. В этом смысле и было истолковано генералами мое появление в Выселках. Начальник штаба заметил впечатление, произведенное на меня его словами, и бледная старческая рука его легла на мое колено.
— Дорогой мой капитан! На войне всё надо рассчитывать, всё предвидеть, всё допускать.
— Вы всё это лучше меня знаете, товарищ генерал-майор, — я изо всех сил старался быть спокойным. — Но если всё надо допускать, тогда почему же вы находитесь здесь, в Выселках? Почему вы сообщили о своем местопребывании в Москву? Почему вы не ушли в другое место, куда к вам не могли бы послать людей для приведения приговора в исполнение?
— Всё сказанное вами не лишено логики, — печальная улыбка скользнула по лицу генерала. — И именно потому, что существует логика, мы остаемся здесь. Логикой же является то, что ни Ракитин, ни я, ни все другие наши генералы не повинны в гибели западных советских армий… Об этом долго надо было бы рассказывать. Но могу вас заверить, что перед любым военным судом, я, с математической точностью, докажу, что поражение на западе есть результат ошибочных стратегических концепций, предписанных сверху.
Я хотел было сказать, что в нашей стране математически точные доказательства собственной невиновности многих приводили в подвалы НКВД, но смолчал. Какое значение, в этих условиях, могли иметь мои слова! В конце концов, генералы лучше меня должны знать, как им следует поступать.
Была уже ночь, когда я вышел от начальника штаба. После избы со стенами, покрытыми копотью и с неистребимым запахом махорки, лесной воздух охватил бодрящей волной. Было необычайно тихо и, казалось, что весь мир скован этой тишиной. Далекие взрывы, слышные днем, теперь замерли. Я стоял под деревьями, стараясь уловить хоть какие-нибудь звуки, но кругом было мертвое безмолвие, осененное темным куполом неба с гирляндами звезд.
Ноги, давно не знавшие отдыха, были налиты свинцовой усталостью, но спать не хотелось. Я медленно брел по тропинке, удаляясь от домов. Мне нужно было быть в ту минуту одному, хотя я и не знал, что мне делать с моим одиночеством. Огромный дуб, состарившийся на корню и рухнувший на землю, перегородил тропинку. Он мне напомнил Ракитина.
Присевши на поваленный ствол, я думал о Нюре. Знает ли она о том, что отец обречен? Вряд ли. Начальник штаба просил никому об этом не говорить. «Нюра только и мечтает о том дне, когда мы выберемся из окружения и отца можно будет поместить в больницу», — сказал он.
В неясных думах о девушке и ее отце прошел час. Пора было идти искать место для ночлега. С трудом поднялся я на ноги, но в это время послышались шаги. Донеслось ритмичное клацанье. Это, несомненно, был конь Кузьмы. Я еще днем заметил, что подкова на одном копыте отстала.
На меня надвинулся силуэт человека с конем.
— Вот животину вожу, — отозвался Кузьма на мой окрик. — Тут в одном доме старик живет, на лесного колдуна похожий. Так я к нему коня водил. Спереди и сзади накачал коня каким-то лекарством и велел всю ночь водить А я, товарищ капитан, постельку вам на сеновале сообразил. Идемте, покажу.
Мы медленно брели назад, к Выселкам. Говорить не хотелось. Все мы были тогда необычайно молчаливыми.
В ранний утренний час позвали меня к Ракитину.
— Нюра может предложить вам вареной картошки, но масла и соли не спрашивайте, — проговорил Ракитин. Он полулежал на кровати, но теперь на нем был китель с тремя орденами. Девушка подала мне миску с дымящейся картошкой. На ее лице было написано волнение и она даже не старалась его скрыть.
— Всё-таки, я должна спросить его, папа, — звенящим голосом проговорила Нюра.
— Но ведь капитан не знает. Ему приказано разыскать нас. Это всё.
— И всё-таки я спрошу, — упрямо повторила девушка.
Худощавое лицо Нюры было, как и вчера, суровым, а глаза горячими и требовательными. Темные, коротко подстриженные волосы, как у мальчика, были влажными. Она только что умылась и капельки воды остались не стертыми на розовых мочках ушей.
— Скажите, капитан, правда ли, что есть приказ о… наказании моего отца за то, что он потерял армию?
— Нюре кто-то сказал, что меня ждет строгое наказание за развал армии, вот она и тревожится, — проговорил Ракитин. — Подтвердите, капитан, что это всё выдумки. — В голосе генерала слышалась просьба.
— Я такого приказа не читал, — ответил я.
— Ну вот, видишь, — обрадовался генерал. — Я же говорил тебе, что всё это кем-то придумано.
Голос Ракитина был уверен и бодр, а в глазах светилась печаль. Он-то знал, что такой приказ есть.
День прошел в хлопотах. Начальник штаба разослал во все стороны нарочных. Нужно было собрать тех, кто пришел с Ракитиным в Выселки, человек около полутысячи. Кроме комендантской роты, где-то поблизости бродили, в поисках пропитания, остатки штаба армии, и сотни три солдат и офицеров из полевых войск. В Выселках не оставалось ни одной коровы, овцы или курицы, — всё было съедено и людей пришлось отправить в другие лесные селения, где они могли кое-как прокормиться.
Вместо ожидаемых пятисот человек, явилось человек двести. Командир комендантской роты, тот самый лейтенант, что встретил меня на околице Выселок, растягивая рот в улыбке, говорил:
— Они по селам да по лесным заимкам под боком у молодых баб-солдаток греются. У меня в роте половина личного состава бабами из строя выведена. За тридцать верст приходят сюда, мокрохвостые, бойцов в примаки сманивать.
— Надо бы надлежащие меры принять, — говорил начальнику штаба майор с круглым рыжеватым лицом. С первого взгляда он вызвал во мне неприязнь, нетрудно было догадаться, что он «из органов».
— Оставьте, — морщился начальник штаба. — В этих условиях ничего сделать нельзя, а если попробуем взять примаков силой, то мужики с кольями на нас пойдут. Им молодой рабочий народ сейчас позарез нужен.
Что касается меня, то я считал за благо, что с нами будет не пятьсот, а всего лишь двести человек. Чем меньше, тем незаметнее проскользнем мы в лесной массив, лежащий по другую сторону шоссе.
Прошла еще одна ночь.
Наутро, построившись колонной, тронулись в дорогу. Впереди шли остатки комендантской роты. Бойцы поочередно несли носилки с Ракитиным. Жители Выселок стояли у своих домов и молча провожали нас глазами. Они не имели причины сожалеть о нашем уходе. Колонну замыкал Кузьма, неразлучный с конем.
В полдень мы добрались до села, заброшенного в самые лесные дебри. Хоть находилось оно глубоко в немецком тылу, но немцы в нем еще не бывали и царило здесь полное безвластье. Сельсовет распался, колхоз развалился, колхозный скот крестьяне развели по домам.
Мы проходили по единственной улице села, а крестьяне стояли у своих дворов. И опять это гнетущее молчание. В центре села остановились отдохнуть. Я стоял в тени дома, обсуждая с лейтенантом дальнейший маршрут. Через открытые окна из дома доносились голоса. Бойцы из комендантской роты получили от хозяйки несколько кувшинов молока.
— Коров-то у тебя, тетка, сколько же теперь? — приставал к хозяйке кто-то из бойцов.
— Ох, милый, нету коровы, — отвечала певучим голосом крестьянка.
Бойцы заливались смехом.
— Кого же ты доишь, тетка? Коровы нет, а молоко есть, — не унимался всё тот же голос. Женщина поняла, что попала впросак и рассердилась.
— Какого тебе лешего надо, — закричала она. — Пей молоко, раз дают. Может я мужика своего дою. В доме захохотали.
— Они весь скот угнали в лес и тал! прячут от нас, — сказал лейтенант. — Правильно делают. По лесу сейчас много голодного люда бродит, подчистую грабят крестьян… Как мы ограбили Выселки.
Лейтенант засмеялся, словно сообщил что-то чрезвычайно веселое.
У одного из домов разыгрался скандал. Круглолицый, рыжеватый майор из особого отдела, который предлагал принять надлежащие меры против дезертиров, увидел в одном из дворов молодого парня в крестьянской одежде. Короткая стрижка под машинку ясно свидетельствовала о том, что парень этот солдат, решивший остаться в селе. Чекистское сердце майора не выдержало и он попытался арестовать парня. Но не тут-то было. В наступление на майора ринулась молодая крестьянка весьма свирепого вида.
— Ты что же, лиходей, опять над нами измываться пришел, — визжала баба на всё село. — Тебе муж мой понадобился, собачья твоя душа.
Майор, не ожидавший такого нападения, сначала было растерялся, но потом ринулся к женщине и нанес ей пощечину. Женщина от изумления окаменела на миг, а потом вдруг вцепилась в рыжеватые волосы майора. Тот, бранясь, отталкивал ее от себя, а она царапала ему лицо и ее визгливый крик разносился далеко вокруг. Оказавшиеся поблизости бойцы оттащили обезумевшую женщину. Тем временем парень, из-за которого поднялась вся эта кутерьма, исчез. Вытирая платком кровь с расцарапанных щек, майор кричал толпе крестьян, собравшейся у дома:
— Партию и правительство защищать надо, а вы дезертиров по своим домам прячете.
Молодайка вырвалась из рук бойцов и ее голос заставил майора умолкнуть.
— Защищать? — кричала женщина. — Пусть твоя партия поцелует меня сюда, а правительство вот куда…
Женщина сделала непристойное движение и перед изумленной толпой мелькнули части ее тела, обычно прикрываемые одеждой. В толпе засмеялись.
Майор готов был смириться с нанесением ему лично оскорбления, но тут уже оскорблялись партия и правительство. Побледнев до того, что на рыжей коже его лица явственно проступили крупные веснушки, майор потянулся за пистолетом.
— Ну, это вы, товарищ майор, бросьте! — тихо проговорил боец из комендантской роты, став между женщиной и майором. Его рука покоилась на спуске новенького автомата. Но не рука и автомат бойца были внушительными, а лицо, хмурое и решительное. Майор взглянул в это лицо и, кажется, побледнел еще больше. Повернувшись, он молча пошел вдоль улицы. Ожидая, пока колонна построится, я прислушивался к разговору крестьянок, оставшихся у того дома, у которого был посрамлен майор из особого отдела.
— Он ведь Костика хотел забрать, — певуче говорила молодайка. Столько было в этом «Костика» нежного женского тепла, что я с удивлением оглянулся: та ли это женщина, что за полчаса до этого выкрикивала бранные слова. Это была она.
— А всё-таки перед столькими мушчинами заголяться не гоже, — поучала старуха молодайку. — Могут что нехорошее подумать.
Наш расчет оказался нарушенным. Я надеялся, что нам в этот же день удастся дойти до лесной сторожки, с тем, чтобы под утро пересечь шоссе. Но приходилось часто останавливаться, так как движение причиняло Ракитину нестерпимую боль. Остановились на ночевку, пройдя немногим больше половины пути до лесной сторожки.
Выставив охранение, я присел под лиственницей, немного в стороне от нашего бивуака. Темнело. Небо еще было совсем светлым, а под деревьями уже копилась тьма. Мне казалось, что она струится от корней деревьев и медленно ползет снизу вверх. Опять пришла мысль о Нюре. Как хватило у нее силы ампутировать ногу у отца. Днем, когда она шла рядом со мною, я невольно смотрел на ее полудетские руки, расширяющиеся в локтевом суставе. Она заметила мой взгляд и недовольно нахмурилась. Натянула поверх кофточки солдатскую куртку, которую до этого сняла из-за жары. Пришлось оправдываться.
— Это, действительно, было ужасно, — рассказала Нюра, поверив моим оправданиям. — Но другого выхода не было. Я должна была спасти папу. Вы знаете, я учусь на медицинском, еще через год могла бы стать врачом, не случись этой войны. Приехала к папе, чтобы провести каникулы. Мама с сестрой и братом должны были приехать позже. К счастью, они не успели выехать из Москвы… Папу ранили… Начиналась гангрена, надо было быть сильной…
От одного лишь воспоминания об операции Нюра побледнела и стала походить на испуганного подростка.
В кустах прошмыгнул какой-то лесной зверек. Прокаркала над головой ворона, укладывающаяся на ночевку. Потянуло сыростью — невдалеке было болото. Захотелось курить. Рука по привычке шарила в кармане, но табаку не было. Стороной прошли два темных силуэта.
— Гречневая каша хороша с гусиными шкварками, — донесся до меня голос.
Все говорят о пище. О войне — ни слова, а всё больше о пирогах. А этот — о гусиных шкварках. Изголодались люди. Более предприимчивые кое-как добывают себе пищу, а робкие — превращаются в доходяг. Днем я рассмотрел наше воинство. Много таких, что идут с трудом и могут по дороге сдать. Но думать об этом не стоит.
Мне показалось, что я спал всего лишь одно мгновенье, но когда я открыл глаза, уже светало.
Пробудился я от людских голосов. Из-под моего дерева мне было видно, как на небольшой поляне Кузьма отбивался от наседающих на него бойцов. Здесь же была Нюра и начальник штаба.
— Не дам, гады, — кричал Кузьма, загороживая спиной коня, уныло понурившего голову.
Человек пять бойцов наседали на Кузьму со всех сторон.
— Что же, тебе конь дороже товарищей? — визгливо кричал один из нападающих.
— Не подходи, застрелю! — размахивал Кузьма наганом.
— Сидор Евгеньевич, прикажите им не убивать. Ну разве же можно? — Нюра говорила требовательным тоном, а начальник штаба беспомощно топтался на месте и растерянно твердил:
— Но поймите, Нюра, людям надо есть. Поймите, Нюра.
Кузьма взвел курок нагана и разъяренно прохрипел в сторону осаждающих:
— Ну, гады, подходи по очереди. На всех хватит…
Дело принимало плохой оборот. Начальник штаба поступил правильно, приказав убить коня и дать его в пищу. Всё равно это пришлось бы сделать в следующую ночь, когда надо будет пробираться через шоссе и конь может всех нас выдать. Но разумный приказ натолкнулся на солдатскую любовь к коню.
Медлить было нельзя. Подсознанием я почувствовал, что слова тут не нужны, и молча подошел к коню. Сизый зрачок коня отражал в себе деревья. Волнуясь, я выдернул из кобуры пистолет. Конь тяжело, с храпом опустился на колени, сраженный моим выстрелом в ухо, потом повалился на бок. Ответит ли Кузьма на мой выстрел? Эта мысль пульсировала во мне и порождала озноб.
Когда я обернулся, Кузьма стоял, закрыв ладонями глаза. Наган он выронил. Нюра смотрела на меня.
— Зачем вы так? — с укором сказала она. Я поднял наган и вложил его в кобуру Кузьмы.
— Пойдемте, Кузьма! — сказал я ему.
Он покорно поплелся за мной.
Мы оба, каждый по-своему, пережили гибель коня.
Переход наш был труден, но счастье не изменяло, и через два дня мы были в урочище, обозначенном на картах названием Мертвый лес. Когда мы явились сюда, урочище было заполнено людьми. Расчет Рыбалко был правилен, со всех сторон офицеры нашей группы приводили толпы окруженцев.
Выслушав мой рапорт, Рыбалко сокрушенно покачал головой.
— Я надеялся, что вы не найдете Ракитина, — проговорил он угрюмо. — Вы, ведь знаете, что его ждет на той стороне фронта?
— Генерал-лейтенант утверждает, что есть приказ о его расстреле, но я об этом ничего не знал.
Послышались голоса. В отверстии шалаша появилась голова часового.
— Товарищ генерал-майор, тут вас спрашивают. Рыбалко вышел из шалаша.
— Позвольте доложить, товарищ генерал-майор, — послышался знакомый голос. Я выглянул наружу. Перед Рыбалко стояло человек шесть из колонны, которую я привел. Говорил рыжеватый майор.
— Я помощник начальника особого отдела. Товарищи (он кивнул головой на других, пришедших с ним вместе) сотрудники Особотдела. Более подробный доклад я вам сделаю позже, а сейчас я хотел довести до вашего сведения, что мною доставлен сюда генерал-лейтенант Ракитин…
— Я знаю, — сказал Рыбалко.
— Генерал-лейтенант, по личному приказу товарища Сталина…
— Тоже знаю.
— В таком случае я прошу вас отдать приказ о передаче особому отделу генерала Ракитина.
— Зачем?
— Видите ли, в тех условиях, в каких мы находились, мы не могли выполнить приказа товарища Сталина.
— Почему?
— Нас бы всех перебили… Настроение антисоветское. Из моего доклада вы узнаете, что капитан, например (кивок в мою сторону), не оказал мне поддержки, когда я попытался арестовать дезертира.
— Это не входило в его обязанности, — угрюмо проговорил Рыбалко. — А условия тут такие же, как и там. И вам никто не позволит вводить тут ваши чекистские порядки. Понятно? Рыбалко кричал на майора, а у того на лице опять заметными стали веснушки. — Имейте в виду, если вы хоть пальцем тронете Ракитина, я поставлю вас перед строем и расстреляю к чортовой матери… А теперь, кругом и марш.
Рыбалко повернулся и вошел в шалаш.
— Чорт возьми, неужели Ракитин решил изображать из себя овцу, которую каждому дано право прирезать, — бросил он мне сердитым голосом.
— А что он должен делать? — спросил я. Но у Рыбалко, как и у меня, ответа на этот вопрос не было.
— Хоть бы вы потеряли Ракитина на дороге, — воскликнул Рыбалко. — Убить его тут, я не позволю. Этой сволочи, что была сейчас здесь, руки поотрублю. Но таскать его с собой, чтобы потом отдать той же сволочи, тоже счастье небольшое. Вы говорили с ним, что он сам-то думает обо всем этом?
— Говорил. Никаких желаний он не выражал… Начальник штаба рассчитывает доказать, что Ракитин не виноват.
— Идеалист.
Рыбалко произнес это слово с презрением. Носилки с Ракитиным принесли в шалаш Рыбалко. Пришел начальник штаба Ракитина. Нас всех, в том числе Нюру, Рыбалко попросил оставить их втроем. Часовому было приказано отойти на пятнадцать шагов от шалаша. Часа два мы ждали, когда кончат беседу генералы. Потом из шалаша вышли и направились в нашу сторону Рыбалко и начальник штаба.
— Это ваше дело, каждый по-своему с ума сходит, — донеслись до нас сердитые слова Рыбалко. — Но только не верю я, что вам это удастся. Не верю, и всё тут…
— Ракитин надеется, что Сталин отменит приказ, — говорил Рыбалко, когда мы шли на поиски нового шалаша для него. — А я думаю, что какой-нибудь барбос поторопится исполнить приказ. Вот что. Подберите взвод из хороших ребят. Командира взвода я сам назначу. Объявите им, что они головой отвечают за Ракитина… Надо помочь ему уцелеть.
Ночью, в конце июля, немцы, должно быть, были встревожены неожиданным и на первый взгляд бессмысленным наступлением советской дивизии на Десне. Стоявшие здесь небольшие немецкие заслоны были атакованы с фронта. В то же время незамеченные немцами советские войска бешено атаковали с тыла. Не оказав сопротивления, германские части отошли вверх по течению реки. Германский штаб хотел видеть, во что выльется это странное наступление, ничего советским войскам не обещавшее.
Но к утру всё затихло. Атакующие советские части отступили. Июльское наступление на Десне вошло в ряд непонятных мелочей войны, так как немцы, естественно, не знали, что оно было предпринято лишь затем, чтобы помочь ген. Рыбалко вывести из немецкого тыла его отряд. На рассвете мы уже двигались вместе с другими отступающими советскими войсками. Командование отрядом перешло к тучному генерал-майору из управления формирований, а Рыбалко собрал офицеров, проделавших с ним западный маршрут. Нас было теперь меньше сорока человек, — двенадцать офицеров погибли.
— Спасибо, товарищи, — сухо сказал нам Рыбалко. — Вы сделали всё, что могли.
Два военных грузовика, каким-то образом полученные нашим генералом, везли нас в сторону Москвы. Рыбалко приказал мне сесть с ним в кабину переднего автомобиля. Попался нам необычайно пугливый красноармеец-шофер. Всё его внимание было направлено не на дорогу, а на небо. Вверху пролетали германские эскадрильи, изредка появлялись одиночные самолеты; дальность мешала определить, свои это или чужие. Шоферу казалось, что каждый самолет занят лишь тем, что разыскивает наш грузовик. Между тем ехали мы по лесистой местности и заметить нас из поднебесья было трудно. Когда над нами раздавался гул пропеллеров, шофер нажимал газ и автомобиль начинал бешенную скачку на ухабистой лесной дороге. В таких случаях Рыбалко сердито кричал. Но никакой генеральский окрик не мог вернуть самообладания солдату, смертельно боявшемуся гула самолетов. Может быть, он уже побывал под ударами с воздуха и теперь не был в силах совладеть со своим страхом.
Кончилось тем, что наш грузовик попал в канаву и поломал рессоры. На этот раз Рыбалко даже не ругался. Ему было жалко молодого бойца, испуганно бегавшего вокруг поломанного грузовика. Мы ждали полчаса, но второго автомобиля не было. Может быть, он свернул на другую дорогу.
Пришлось продолжать путь пешком.
— Удачно начавшийся день, — сказал я Рыбалко, — полезно закончить пешей прогулкой.
— Что вы нашли удачного в этом дне? — спросил он.
Еще утром я заметил, что наш генерал необычайно раздражен.
— Как же, товарищ генерал-майор. Мы вышли из немецкого тыла почти без потерь. Я даже думаю, что потерь и вовсе не было. Ведь немцы покинули позиции еще до того, как мы пошли в наступление.
— Вы плохо знаете, — хмуро ответил Рыбалко. — Сколько вчера, при последнем подсчете, было у нас людей?
— Восемнадцать тысяч с хвостиком.
— Ну, а сегодня я сдал управлению формирований семь тысяч двести бойцов и командиров.
— Да не может быть? — воскликнул я.
— Это вам кажется, что не может быть, а я нечто подобное предвидел. Не в таком, правда, размере.
— Значит…
— Значит одиннадцать тысяч человек воспользовались ночной темнотой, чтобы уйти от нас. Из этого факта и исходите, определяя степень патриотизма и готовности воевать за советскую власть.
Мы долго шагали молча.
— А Ракитин? — спросил я.
Круглое лицо Рыбалко осветилось улыбкой.
— Нет Ракитина, — почти весело сказал он. — Был и нет его.
Рыбалко подумал и закончил:
— Не идиот же он, в самом деле, чтобы совать голову в петлю. У него, в последние дни, появился чудесный план.
Я ждал, что Рыбалко еще что-нибудь скажет, но он молчал. Какой у Ракитина появился план, я не узнал, хотя был уверен, что план этот подсказан ему самим Рыбалко.
— А как же дочь Ракитина, Нюра? — спросил я.
— Ну, дорогой мой, об этом я вам ничего не могу сказать. Думаю, что идет сейчас за носилками отца где-нибудь в лесу.
Мне стало не по себе при мысли о девушке. Любовь к отцу повела ее суровой дорогой, пролегающей через неизвестность.
Выдержит ли она или девичья ее судьба, вместе с другими безвестными судьбами, растворится в лесной стороне?
Москва моя…
Даже в песнях, написанных по казенному заказу, встречаются слова и образы, рождающие в душе волнение. Советская молодежь часто распевала популярную песенку:
Страна моя, Москва моя, Ты самая любимая-Составитель песни, может быть, и вкладывал в свое творение ортодоксально-советский смысл, но многих, и меня в том числе, оно волновало просто потому, что мы любили Москву. Что она — «столица мирового пролетариата», право же, касалось нас мало. Мы просто так, без политики, любили наш город, часто рассудку вопреки.
Поэтому, когда вернулся я в Москву, то первое, что меня до боли поразило, был новый, невиданный мною дотоле лик города. Москва, за два месяца войны, как будто нахмурилась, посуровела. Ночью, в подворотнях домов, стояли группы москвичей. Стояли часами, почти молча. Ночные улицы были похожи на черные траншеи. По утрам артерии города медленно, с трудом оживали. Ветер разносил пепел и полуобгоревшую бумагу. Сжигались архивы. Уходили поезда специального назначения, увозившие правительственные ценности. Правительство перекочевало в один из городов на Волге. Демонтировались военные заводы. Был введен двенадцати, а кое-где и четырнадцати-часовой рабочий день. Магазины встречали людей пустыми полками. Только неизменное кофе «Здоровье» имелось в продаже. Паек с каждым днем урезывался. Его стали называть мистификацией. До войны москвичи с великим упорством старались сохранить достойный облик обитателей столицы, а теперь вдруг все потеряли интерес к одежде и даже женщины как-то опростились, словно каждая из них старалась быть незаметней.
Вернувшись в Москву, мы поселились в Хамовнических казармах, в это время полупустых. Рыбалко вскоре отправился формировать мотомеханизированную дивизию, впоследствии ставшую знаменитой Кантемировской гвардейской дивизией, а мы остались ожидать назначений.
По улицам Москвы днем и ночью двигались войска. Они разгружались на подмосковных станциях и через столицу проходили в походных колоннах. Может быть, в Кремле думали, что вид этих войсковых масс поднимет настроение столицы. Но оно не поднималось, а падало. Это была уже не та армия, которую москвичи привыкли видеть на парадах. Там была молодежь, а эта, перекатывающаяся через Москву, состояла из людей зрелого возраста, одетых в зелено-грязную рвань, в ботинки с обмотками, вооруженных трехлинейками. Могла ли такая армия воодушевить своим видом москвичей?
Нескончаемый поток войск двигался на запад и словно растворялся там, превращаясь в ничто. Враг перемалывал этот поток и всё ближе подходил к столице. В Москве появлялось странное воинство. «Ты записался в ополчение?» — орали плакаты со стен домов и общественных зданий.
Партийные организации изощрялись в придумывании способов понудить москвичей вступать в ополчение. Эта новая беда обрушилась, прежде всего, на московскую интеллигенцию. Рабочие были нужны на заводах, шоферы водили автомобили, машинисты паровозы, а зачем во время войны нужна интеллигенция? В ополченские части, правдой и неправдой, завлекались университетские профессора и врачи, литераторы и педагоги. Все были уверены, что ополчение создается для охраны складов, дорог и для поддержания порядка в столице. Кое-как с этим еще можно было мириться и люди шли в него. Полумиллионом ополченцев командовали партийные секретари вверху и безусые лейтенанты досрочного выпуска внизу.
Однажды, я долго стоял у школы на улице Кропоткина. Во дворе маршировала рота пожилых людей, к строю совершенно не привычных. Одеты они были в какую-то смесь штатской и ветхой военной одежды. Многие носили очки. Какой-то человек, с тонким интеллигентным лицом и, по-видимому, глуховатый, каждый раз, когда подавалась команда, останавливался и растерянно спрашивал лейтенанта, командовавшего ротой:
«Простите, что вы сказали?».
Я задержался у ворот, так как заметил в строю знакомое лицо. Вначале я не поверил, что это проф. Кудрин, но, присмотревшись, убедился, что это он. Только ему свойственно было так, склонив на плечо голову, рассматривать окружающий мир через выпуклые стекла очков. Лет десять назад проф. Кудрин читал в университете лекции по истории античного мира, но потом был причислен к уклонистам и потерял кафедру. Теперь я увидел его в строю ополченческой роты.
Командовал юнец-лейтенант. Ему могло быть не больше двадцати лет. В те дни много таких лейтенантов встречалось на улицах Москвы. Военные училища досрочно выпустили своих питомцев, а для приобретения командирского опыта направили в ополчение. Лейтенант, в отличие от своих подчиненных, был одет в полную военную форму и перепоясан ремнями во всех направлениях. Он очень серьезно относился к своим обязанностям и вкладывал много энергии в дело переобучения профессоров и врачей в солдат. Потный, распаренный, метался он перед строем. «Справа по два!» — подавал он команду. Немедленно раздавался вопрос маленького человечка с умным лицом: «Простите, что вы сказали?». Строй неуклюже начинал распадаться на колонну по два, ополченцы не знали, где их место, лейтенант вопил и, наконец, приказывал остановиться. В выражениях он не стеснялся и в его словах сквозило откровенное презрение к людям, которые не могут построиться по два.
— Вы, товарищи ополченцы, счет до двух знаете?
— спрашивал лейтенант. — В Красной армии служить
— это вам не в микроскопы глаза пялить.
Почему-то лейтенант вспомнил о микроскопе, хотя вряд ли в прошлом он имел к нему какое-нибудь касательство.
— Это же позор, товарищи. Хвастаетесь, что интеллигенты, а повернуться не умеете!
Ополченцы внимали речи лейтенанта, а глуховатый всё время спрашивал соседей: «Простите, что он говорит?».
Лейтенант перешел к изучению строевого шага. Незадолго до войны такой шаг был введен в армии для торжественных случаев. Отличает его то, что он совершенно не соответствует строению человеческого тела. Надо поднимать ногу под прямым углом, ставить ее на землю, не сгибая в колене, отчеканивать шаг и закидывать голову вверх. Советская пехота на парадах похожа на стадо гусей именно потому, что ее заставляют идти этим шагом допавловских времен. Лейтенант стоял, а ополченцы должны были по очереди подходить к нему строевым шагом, прикладывать ладони к пилоткам и рапортовать: «Ополченец такой то явился по вашему приказанию». Это была не столько смешная, сколько грустная картина. Дошла очередь до проф. Кудрина. Он старался, как только мог, но строевого шага у него не получилось. Что угодно, но только не строевой шаг. Он вскидывал короткие ноги в белых парусиновых туфлях, погромче ставил ступни ног на землю, склонив голову на плечо, вопросительно смотрел на лейтенанта, что должно было изображать поедание глазами начальства. Лейтенант был взбешен нелепым видом человека в очках.
— Ты что же, труха интеллигентская, издеваешься над командиром! — заорал он на проф. Кудрина. Лейтенант начал употреблять нецензурные слова. Я вошел во двор и отозвал его в сторону.
— Вы, товарищ лейтенант, не по чину ругаетесь, — сказал я ему. — В Красной армии употреблять матерные выражения могут только генералы. Даже полковникам это запрещено, а вы всего лишь лейтенант.
Командир ополченской роты растерянно моргал глазами, но не возражал.
— Понятно? — спросил я.
— Понятно.
И он, в точном соответствии с уставом, повторил:
— В Красной армии матюкаться могут только генералы, а другим запрещено.
Может быть, он и всерьез думал, что где-нибудь есть такой приказ, да только ему о нем не сказали, так как выпуск из школы был произведен досрочно.
Я увел проф. Кудрина и мы долго сидели на Зубовском бульваре.
— Вы понимаете, неудобно было отказаться. Партийная ячейка вызывает, профсоюз вызывает, и все спрашивают: «Записались вы в ополчение?». Не запишешься — подозрение вызовешь, работы лишат. Записался. Говорили, что это только так, запишут, и всё на этом кончится. Но вот, забрали в эту школу и учат. Я, конечно, не против послужить, могу же я, в конце концов, какие-нибудь склады охранять. Это, знаете, даже интересно.
— Но требует кое-каких данных. Что вы будете, например, делать, если в склады, когда вы на посту стоите, полезут грабители? — спросил я.
— Зачем же они полезут, если будут видеть, что я имею ружье?
— А всё-таки? — приставал я. Профессор задумался.
— Если уж случится такой невероятный случай, то я крикну им, уговорю их не грабить. Слово великая сила, — уверенно произнес Кудрин. — Помните, как сказано у Горация? И профессор процитировал Горация. Разговор перешел на анархию, следы которой были видны повсюду.
— Нечто подобное было во времена похода спартанцев…
Кудрин блестяще знал историю Спарты и можно было подумать, что военная организация — его призвание. Но всё-таки строевым шагом он ходить не умел и когда я напомнил ему об этом, он засмеялся:
— Но ведь в Спарте так не ходили. Там было всё рациональным и подобный шаг мешал бы спартанцам воевать.
Опасность надвигалась на Москву. Военные поражения тщательно скрывались, но о них все узнавали. Маршалы Тимошенко и Буденный потеряли гигантские армии во второстепенных операциях. В Москве полз слух, что Сталин встретил незадачливых полководцев по-отечески: побил палкой.
Поток вновь сформированных войск плыл на запад. Гигантская мясорубка войны перемалывала этот поток и надо было снова посылать полки, корпуса, армии навстречу врагу. Сдача в плен немцам стала тем секретом, о котором все знали. «Последний патрон для себя» — требовал Сталин в приказе по армии. Но легче написать такой приказ, чем пустить себе пулю в лоб, и немцы уводили всё новые колонны пленных советских воинов, чтобы погубить их в голодных лагерях. «Сдача в плен является изменой родине» — писали газеты. Но кого это могло остановить? Полковник К. из штаба воздушных сил рассказывал: «Приказано бросить советскую авиацию на бомбежку лагерей пленных в германском тылу». Рассказывая, морщился: «Представьте, что там произошло?».
С полковником Прохоровым меня направили инспектировать пункты формирования. Дыхание войны мертвило не только столицу, но и всю страну. В глазах людей появилось новое выражение — ожидание.
Прихода немцев ждали и страшились его. Это уже в крови — боязнь иностранного нашествия. Даже советская власть не могла убить эту боязнь. На какой-то станции я делил котелок супа, полученного на пищепунк-те, с хитрым мужиченком, типичным подмосковным огородником. Чинно блюдя очередность погружения ложек в жидкий перловый суп, он говорил присказку:
…И вот, значит, у мужика тот мозоль болит нестерпимо. А приходит Никола Чудотворец и говорит: «Давай я мозоль сниму, а тебе дам другой, може он полегче будет». Мужик подумал и ответствует: «Ежели бы совсем без мозоля, тогда ясное дело, а так чтобы на обмен, я не согласен. К своему мозолю я привык, а к другому еще привыкать требуется».
Кто в то время не уразумел бы сути этой присказки?
В Иваново-Вознесенске работницы разгромили пустые продовольственные магазины. Отряд милиции врезался в толпу. Раздались отчаянные крики женщин. С пункта формирования на помощь женам ринулись их мужья. Разгорелся форменный бой. Милиция поспешно отступила.
На станциях люди спали вповалку. Вокзальные помещения, перроны, привокзальные площади были заняты спящими. Бродили беспризорники в поисках добычи. Девушки с накрашенными губами и подведенными глазами. Смотрят зазывающе, а у самих в глазах тоска лютая. Прохоров отдавал весь наш паек таким девушкам. «Дочь у меня, может быть, так же по вокзалам ходит», — говорил он.
Потом нас вернули в Москву и опять наши имена появились в списке офицерского резерва.
Каждый день я забегал к матери, принося ей свой хлебный паек. Она грела чай и мы пили его с сахарином. Как-то получалось так, что большую часть принесенного хлеба я съедал сам. Давал себе слово на другой день не есть, но мать так ловко и незаметно подсовывала мне куски хлеба, что результат опять получался тот же.
Лик Москвы менялся с каждым днем.
Военные заводы были вывезены, оставшиеся подготовлены для взрыва.
Через городские заставы катился поток отступающих. Шоферы обезумели от сказочных заработков. Им платили по 20–25 тысяч рублей, чтобы только увезли они пассажиров за полсотни километров от Москвы, где те могли втиснуться в поезда. Бежала сталинская элита, у нее были деньги. Те, у кого денег не было, но кому надо было бежать, проводили недели на привокзальных площадях, надеясь попасть на поезд.
Рабочие завода «Серп и молот», несущие охрану на заставе, остановили грузовик и произвели обыск. Обнаружили чемодан, набитый деньгами и ценностями. Убегающего с ценностями ответственного товарища забили кулаками на смерть. На другой день на всех заставах рабочие отряды останавливали автомобили и производили обыски.
Мы жили словно в военном лагере. Ополчение, коммунистические и комсомольские отряды, женские ударные бригады двигались по улицам. У генерала А. А. Власова, незадолго до того назначенного командующим обороной столицы, светилась тоска под большими роговыми очками, когда он принимал парад этих отрядов на площади Маяковского. Перед Власовым, ставшим к тому времени очень популярным в Москве, проходили отряды, составленные из рабочих, комсомольцев, коммунистов, девушек, ополченцев. Обмундирования не-хватало, и защитники Москвы были наполовину в штатской одежде. Они шли неровным строем, вяло кричали «ура» и, хотя гремела музыка и площадь была украшена алыми стягами, оживления не чувствовалось.
Мне приказали проверить боеподготовку в ударном женском отряде имени Доллорес Ибаррури. Отряд размещался в театре ленинского комсомола, на Малой Дмитриевке. Насчитывалось в нем что-то около пятисот солдат-девушек и молодых женщин. Командовала Ирма, испанка, участвовавшая в гражданской войне в Испании. То, что отряд располагался в центре города, а в его формировании приняли участие партийные организации центральных учреждений, наложило на него известный отпечаток. Больше всего в нем было девушек, к которым издавна приклеилось название «совбарышень» — машинистки из наркоматов, сотрудницы библиотеки имени Ленина (быв. Румянцевской), маникюрши, стенографистки, почтовые служащие.
Ирму я застал за странным для командира отряда занятием: она кормила грудью ребенка.
По широкой мраморной лестнице мы поднялись в театральный зал, превращенный в казарму. Навстречу нам попадались женщины, одетые в военную одежду. В отличие от других отрядов такого рода здесь все были снабжены полным комплектом обмундирования.
Все носили на головах пилотки, были коротко, но всё-таки не по-солдатски подстрижены.
Обширный театральный зал был заполнен двухярусными кроватями, покрытыми одинаковыми серыми одеялами. При входе, как в заправской казарме, стояла девушка-дневальный. Завидев нас, она звонким голосом подала команду: «Встать, смирно!».
Ирма несколько раз просила меня идти потише, ей трудно было поспевать за мной. А мне казалось, что самое важное для меня — поскорее пройти через огромный зал и вырваться из-под насмешливых глаз, отовсюду направленных в нашу сторону. В душе я проклинал полковника из отдела формирований, который послал меня инспектировать этот отряд.
Мы вернулись в комнату Ирмы. Я стоял, отирая пот с лица, когда услышал тихий, веселый смех. Смеялась Ирма. Всего за минуту до этого была строго-официальной, а теперь заливалась смехом, и стало вдруг видно, что она молода, стройна и даже военный мундир не очень обезображивает ее.
— Вы у нас не первый, — сквозь смех говорила она. — До вас несколько офицеров приезжали инспектировать наш отряд, но все они, как и вы, бегом пробегали через зал, ничего не видя… Вы даже не заметили, что позади шла девушка из второго взвода с хронометром в руке.
— Это еще зачем? — спросил я.
— Видите ли, девушки любят позабавиться. Заметив, что все офицеры попадающие в нашу казарму, стараются поскорее пробежать через нее, они решили определить, кто из них будет развивать наибольшую скорость. До сих пор, рекорд принадлежал полковнику Ватанину. — Это было имя полковника, пославшего меня в отряд Ирмы. — Он прошел через зал за полторы минуты или что-то в этом роде. Думаю, что теперь рекорд перейдет к вам, так как вы даже не шли, а бежали, и я по-настоящему устала, сопровождая вас.
С наигранным смирением Ирма вздохнула и села у стола.
— Послушайте, товарищ Ирма, — сказал я. — Не потому ли послал меня к вам Ватанин, что его обременял рекорд скорости, принадлежавший ему здесь?
— Очень странное явление, — Ирма задумчиво посмотрела на меня. — Каждая женщина прекрасно себя чувствует в обществе многих мужчин. А мужчины становятся несчастными, как только оказываются в одиночестве среди женщин.
— Видите ли, товарищ Ирма. Дело тут в другом. Мы не в силах привыкнуть к тому, что женщина оказывается в одинаковом положении с нами, я сказал бы, в одинаково плохом. В какой-то мере каждый из нас виноват в этом… развенчании, что ли, женщин. Поэтому мы и развиваем скорость, как вы говорите, когда оказываемся среди женщин, которых мы поставили в положение, в котором преклонение перед ними становится невозможным.
Я окончательно запутался и умолк.
— Удивительно, — проговорила Ирма. — Вы говорите то же самое, что мой муж. Я привыкла считать его передовым человеком, настоящим коммунистом. Мы с ним в Испании встретились. Поженились мы уже тут, в Москве. Сергей Семенович никогда не вмешивался в мои дела и считал, что испанская революционерка должна заниматься политической работой… Но вот началась война и первым, кто запротестовал против моего поступления в отряд, был Сергей Семенович… Он, видите ли, женился на женщине, а не на солдате, — так он говорит… У вас, у мужчин, слишком развито то, что вы, русские, называете мещанством. Вы на словах признаете равноправие женщины, но отводите ей известные области, где она свое равноправие может проявить. Вы кривитесь, видя нас в военной одежде…
— Но поймите, товарищ Ирма! Ведь, невозможно же любить женщину, у которой наган на боку и граната за поясом!
— Какие вы все… отсталые, — устало проговорила Ирма. — В вас над всем превалирует мужское начало, которое затмевает гражданский долг.
И потом вдруг, безо всякой связи с предыдущим, Ирма сообщила, что пять дней назад ее Сергей Семенович отправился на фронт.
В глазах Ирмы появилось тревожное выражение. Командир отряда, коммунистка Ирма, всё-таки была женщина.
Во дворе строились два взвода женского отряда.
— Хотите проверить строевую подготовку? — спросила Ирма, вставая от стола.
— Нет, не хочу!
Ирма опять улыбнулась.
— Что же вы скажете полковнику Ватанину, пославшему вас инспектировать?
Женская полурота довольно хорошо перестроилась в колонну по четыре и с песней зашагала на улицу. Сквозь закрытые окна звуки песни доходили приглушенными.
Мы красная кавалерия и про нас
Былинники речистые ведут рассказ.
О том, как в ночи ясные,
О том, как в дни ненастные
Мы смело, мы гордо в бой идем…
«Мы красная кавалерия», — повторил я слова песни. — Какая всё-таки нелепость!
— Да, песня звучит немного странно для женского отряда, — проговорила Ирма. — Но мы сейчас ставим задачу иметь женские военные песни. В следующую субботу мы соберем к нам композиторов, мобилизуем их на творчество женских песен войны.
Полковник Ватанин внимательно посмотрел на меня, когда я входил в его кабинет, но ничего не сказал.
— Должен я писать рапорт об отряде имени Ибаррури? — спросил я.
— Не стоит, — зевнул Ватанин. — Товарищ Ирма уже была у меня и рассказала. Вы не справились с возложенной на вас задачей, товарищ капитан.
— Зато я побил рекорд скорости, принадлежавший до этого полковнику Ватанину, — отбил я нападение.
Ватанин усмехнулся и отпустил меня.
На улице Горького, когда я проходил по ней, меня окликнула женщина, закутанная по самые глаза в черный платок. Надо было подойти совсем близко, чтобы узнать жену известного тогда очеркиста Сергея Р. До войны была она модницей и блистала на горизонте Дома Печати звездой первой величины. Теперь же нужда, тревога за сына, отправленного еще до войны в Крым, страх за мужа, раненого и лежащего в госпитале, состарили женщину.
В тот же день я зашел в Пироговскую больницу навестить Сергея Р. Он лежал в палате у самого окна. Был ранен в ногу.
— Что за странный ход ты сделал? — спросил я, пожимая его горячую руку. — Пойти в ополчение, когда у тебя такое имя и положение, это, знаешь ли, выше моего понимания:
— При чем тут твое понимание? — пожал плечами раненый. — Все шли и я пошел. Чем я лучше или хуже других?
Мне было жалко Сергея, но я не удержался, чтобы не съязвить:
— Энтузиазм одолел? — спросил я.
— Замолчи! — рассердился вдруг Сергей. — Ты всегда был удивительно… колючий. Ведь ты знаешь, что энтузиазм в наше время явление точно регулируемое… В ополчение пошел потому, что понял — не напишу ни одной строки после того, как война началась. Ты ведь тоже улизнул от чернильного долга!
— Я не улизнул, а был мобилизован.
— Не лги! — тихо проговорил Сергей. — Ты знаешь пути, которые могут привести тебя назад в прессу, если ты этого захочешь. Но тебе, как и мне, нечего сказать. Время бездумных писаний прошло, а мы с тобой — дети этого времени. Другие придут и будут писать, мы же нет. Слишком много лгали, слишком много обманывали себя и других, чтобы иметь и теперь еще силу лгать.
Москва стала осажденным городом. Немцы были на подступах к столице. Стал доноситься далекий гул артиллерийской канонады. Никто не сомневался, что Москву придется отдать врагу. Город голодал.
В эти дни произошло событие, никем не отмеченное, хотя о нем стоило бы поведать в каких-то особенных словах. Впервые я узнал о нем от Прохорова. Поздно ночью он вернулся в казарму. В обширном помещении, в котором раньше помещалась рота бойцов, мы жили вдвоем. Прохоров стал трясти меня за плечо. После тяжелого дня, заполненного беготней, криками, руганью (я в то время руководил минированием Поклонной горы на Можайском шоссе), не так-то просто было стряхнуть сон. Сопротивлялся я, как мог, но когда Прохоров бесцеремонно сдернул шинель, которой я укрывался поверх одеяла, и взялся за самое одеяло, я вынужден был открыть глаза. Мы с Прохоровым крепко подружились и субординации не блюли.
— Послушай, пошел к дьяволу, — сердился я. — Что ты не даешь спать?
— Видишь это? — Прохоров подносил к моим глазам круглый металлический предмет, который вначале показался мне миной нового образца. И только окончательно продрав глаза, я увидел, что это не мина, а большая консервная банка.
— Ну, консервы выдали, что тут особенного? — злился я, снова натягивая на себя одеяло и шинель.
— Нет, ты читай, несчастный, что на банке написано.
Я взял консервную банку. Она была довольно увесистой, килограмма два. По ее белой поверхности крупно было написано: «Свиная тушонка», а чуть ниже, крошечными буквами, сказано самое важное: «Made in USA».
Это было настолько неожиданным, что я даже приподнялся с постели. Мы уже свыклись с мыслью о нашем одиночестве, а тут банка консервов, появившаяся словно привет из другого мира.
— Я, знаешь, царский памятник возвел бы, — возбужденно говорил Прохоров.
— Кому памятник? — не понял я.
— Ну, памятник той американской свинье, из которой сделана эта банка консервов… Ведь ты подумай только: Америка присылает свиную тушонку. И название-то какое… аппетитное.
— Может быть случайно попала сюда эта банка, — всё еще сомневался я.
— Я всегда говорил, что писатели и журналисты насчет смекалки очень слабы. Ведь ясно же сказано:
«Свиная тушонка». На русском языке сказано. Значит, для нас это делают, для русских. Понимаешь теперь?
— Понимаю.
— А раз понимаешь, то можешь и дальше соображать. Сегодня мне дали консервы из Америки, а завтра я получу от американцев танк и самолет. Свиная тушонка это вроде передового отряда, а армия идет позади и мы ее еще увидим. Не веришь?
— Не знаю. Всё-таки это всего лишь консервы.
— Ну, брат, ты сегодня в минорном настроении. Ложись спать и не морочь мне голову.
Но спать уже не хотелось. Я наблюдал за Прохоровым. Он вскрыл перочинным ножом банку и опять заговорил.
— Посмотри только, что за мясо. Тю-тю! — воскликнул он, вдруг, нюхая мясо.
Я подумал было, что консервы испорченные.
— Да они даже лаврового листа сюда положили, — сообщил Прохоров.
Действительно, до меня донесся запах лаврового листа. Во рту набегала слюна и голодные спазмы щекотали горло. Но я еще держался.
— Советский полковник, а возрадовался свиным консервам. Национального достоинства ни на грош. Ставить памятник американской свинье собирается.
Прохоров насмешливо посмотрел в мою сторону, но ничего не сказал. Он стал раскладывать мясо на шесть ровных порций. Взял четыре порции и отнес их в соседнюю комнату, где жили четыре офицера, как и мы, причисленные к офицерскому резерву. Вернувшись, он соединил две оставшиеся порции и снова разложил мясо, но теперь уже на три доли. Одну долю отдал мне, вторую взял себе, а третью аккуратно завернул в чистый лист бумаги и сунул в мою полевую сумку.
— Матери отнесешь, — сказал он.
Я знал, что Прохоров частенько забегает к моей матери, принося ей свой хлебный паек, но результат у него получается тот же, что и у меня. Мать греет ему чай и потчует хлебом. Она стирает ему белье, штопает носки и выслушивает его бесконечные рассказы о войнах и походах, в которых он участвовал. У меня на это терпения не было и военные рассказы, как и охотничьи, я переношу плохо.
Прохоров присел на мою кровать. У меня в столике лежала краюха хлеба, полученная от каптенармуса «по блату». Мы намазывали мясо на ломти хлеба и ели.
— Вкусно? — спрашивал Прохоров таким тоном, словно он собственноручно приготовил эту тушонку. — А что касается национального достоинства, дорогой мой, так это уже из другой оперы будет.
Полковник стал суровым в лице и, размахивая перочинным ножиком, веско, словно отрубая каждое слово, произнес:
— Самое страшное для нас в этой войне — одиночество. Я всё это время думаю о нем. Мы не можем рассчитывать на помощь. Двадцать лет мы грозим кулаком всей загранице, помогать им нам не за что, это нужно признать. А не помогут, и мы погибли. Немец по всей России пройдет. Вот потому-то и казалось мне всё безнадежным. А вот эта банка свидетельствует, что, может быть, и не так всё плохо. Понимаешь, старина?
Прохоров был прав. Ожидание американской помощи на время даже затмило опасность, надвигавшуюся на Москву. Молодой, похожий на подростка, солдат из части, остановившейся на ночевку в наших казармах, уверял товарищей:
— Американцы два парохода с махрой шлют. Вот покурим!
Табак в то время не выдавали и курильщики были обречены на страдания. Пожилой боец, он, быть может, был не курящим, насмешливо посмотрел на паренька и рассудительно сказал:
— Дура ты, американцы и знать не знают, что такое махра. Они все трубки курят.
Молодой опечалился:
— Неужели не знают? Вот ведь беда. К трубке-то мы непривычные… Однако, не верю. Американцы дома под самое небо строят и не может быть того, чтобы они в махре соображения не имели.
Наивная вера солдата в американцев, о которых он знал только то, что они «дома под самое небо строят», рассмешила меня и я протянул ему последнюю папиросу, оставшуюся у меня.
Немцы подошли к самой Москве. Дачные подмосковные городки, куда мы летом выезжали на дачу, были теперь по другую сторону фронта. С Поклонной горы, начиненной минами, словно пирог начинкой, по ночам видны были вспышки артиллерийской стрельбы. Торопливо увели из Москвы ополчение, послав его навстречу врагу. Окраинные улицы перегораживались баррикадами. В домах устраивались снайперские гнезда. Красную площадь огородили деревянные забором и поставили часовых. У храма Василия Блаженного стояли несколько самолетов, готовых к полету.
По радио каждый день, под разными предлогами, сообщалось, что Сталин в Москве. Давалось понять, что он, при любых условиях, не покинет столицу.
А самолеты стояли, готовые к полету…
Всему командирскому резерву было приказано явиться в дом союзов. Попутный грузовик привез нас на Манежную площадь. До назначенного нам срока оставалось больше часа.
Я и Прохоров медленно брели по Александровскому саду. Пронизывающий ветер рвал с деревьев почерневшие листья. Низко над деревьями висело серое, наполненное влагой небо. Безрадостными, тяжелыми складками опадала вниз красная кремлевская стена.
Вышли к Москва-реке. Налево тянулась всё та же угрюмая стена Кремля, а направо — жилые кварталы, уходящие к тому холму, на котором когда-то стоял Храм Христа Спасителя. Так и не удалось на месте взорванного храма построить дворец советов. Над серой рекой нависали мосты. Беспорядочным скоплением больших и малых домов набегало Замоскворечье. Всё кругом выглядело таким жалким, подавленным, приниженным, что я невольно высказал то, что больно отдавалось во мне:
— Москва моя…
Прохоров внимательно посмотрел на меня и молча двинулся вдоль набережной, а я поплелся за ним. Больше мы не проронили ни слова.
|
|