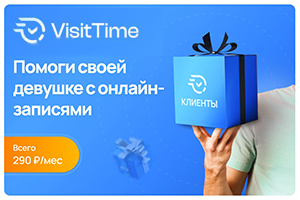Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Ожерелье бурь
|
|
Если окинуть взглядом всё вокруг, то увидим мы океан жизни, взрыхленный бурями, кружащими в безумном хороводе человеческие судьбы.
Ожерелье бурь, тянущееся страшным серпантином, перевалило через границу времени, обозначенную огненной датой: «1941».
Прошло больше десяти лет с тех пор, как мир упал за эту огненную черту, но до сих пор начало советско-германской войны воплощено, для многих из нас, не столько в фактах, сколько в чувствах.
Такое восприятие тех дней рисует передо мной картину, отчасти воспроизведенную в моем романе «Когда боги молчат», вышедшем на английском языке:
…Над миром нависла тишина. Меж облаками воровато пробирается луна, протягивающая к земле голубоватые щупальца лучей.
На западе, где кончается империя, осененная красными, словно брызги крови, звездами Кремля, стоят вдоль границы часовые. По другую сторону границы лежит притихшая чужая земля и часовые всматриваются туда, словно стараясь найти ответ на тревогу, разлитую вокруг. Кругом тишина, как вчера, как десять дней назад, а часовым не по себе, и сторожевые собаки жалобно повизгивают и жмутся к их сапогам. Им, как и людям, тревожно в эту теплую ночь, напоенную пьянящими запахами отдыхающей земли.
За пригорками, за перелесками на чужой земле идет бесшумная, торопливая жизнь. Опадают к земле развесистые кусты, обнажая ряды танков, выставивших вперед короткие рыла пушек. У танков стоят молчаливые, как и машины, люди в черной одежде.
Чуть подальше, из замаскированных зеленью палаток, выбегают солдаты, торопливо затягивают пояса. Будь посветлей, можно было бы на бляхах поясов увидеть короткое, как выстрел, заклинание: «Gott mit Uns»[2].
Еще дальше — аэродромы. Люди с большими кожаными шлемами на головах, похожие на марсиан из фантастического романа. На рукавах их кителей — орел, хищно изогнувшийся для стремительного нападения. Молчащие лопасти пропеллеров устремлены в небо. Отягощенные бомбами тела самолетов тяжело распластались на земле.
А в это время, человек, с внешностью заурядного торговца, отбрасывает с потного лба нависшую прядь коричневых волос и в глазах его загорается нездоровый блеск — азартный игрок делает страшную ставку:
«Мои армии войдут в Россию, как нож входит в масло… Наступать!».
На огромном пространстве эти слова азартного игрока привели в движение людей, люди привели в движение моторы — и предутренняя тишина взорвалась бешеным грохотом. Ринулись вперед танки. Вслед за ними — потоки людей в зеленых мундирах и касках. В грохоте и дыме на русскую землю ворвалась армия Гитлера. Ненужно прозвучали выстрелы пограничников. Коротким, никем не замеченным был отчаянный визг сторожевых собак, гибнущих вместе с часовыми под гусеницами танков. С аэродромов взмыли вверх эскадрильи, взявшие курс на восток. Понеслись над самой землей воющие штурмовики. Запылали советские самолеты, так и не успевшие взлететь в небо навстречу врагу. Словно неуклюжие чудовища, умирали под бомбами советские танки. Расстреливаемые с воздуха и земли гибли западные советские армии и вскоре жалкие их остатки побежали на восток.
Воина!
Грохот, родившийся на границе, не пробудил спящих городов. Над ними было спокойное, безмятежное небо. Но покой и безмятежность — всё обман. В небе зарычали моторы. Забегали лучи прожекторов. Они испуганно задрожали, вырвав из темноты силуэты чужих воздушных кораблей с большими крестами на крыльях. Растерянно тявкнули зенитки. Ревущий поток бомб обрушился вниз. В грохоте рушащегося мира метались полуодетые, обезумевшие от страха, люди.
Воина!
Утро солнечное, радостное спустилось на Москву, затопило светом улицы, веселыми бликами забегало по глади Москва-реки. И вдруг над Москвой, на всей страной раздался заикающийся голос Молотова, разносимый радио: «Братья и сестры! Коварный враг напал на нашу землю…».
Стало тревожно и показалось, что солнце померкло. Ожерелье бурь потянулось через годы великой войны…
Звонок
Обыкновенный звонок у двери был для меня сигналом еще одного поворота судьбы.
После финской кампании я получил разрешение жить в Москве, но печать опалы оставалась на мне. Советская система с идеальной точностью исключает людей из бытия, превращает их в живые трупы. Человеку с «пятнистой» биографией необычайно трудно найти место под советским солнцем. Нужно иметь философский склад ума, чтобы оставаться спокойным, когда прежние друзья пугливо сторонятся тебя, а любимая девушка, под мощным натиском родителей, рвет с тобой отношения, присылая письмо, закапанное слезами.
У меня такого спокойствия не было и пламенное осуждение жило в душе. Надо было, чтобы прошло много лет, прежде чем я понял, что ни друзей, ни девушки, ни даже ее родителей осуждать нельзя. Горькое и тяжелое, пережитое тогда, исходило не от людей, а от чего то другого, внечеловеческого.
В те полтора года, которые прошли между концом «малой» и началом «большой» войны, я стучался во многие двери, не открывавшиеся передо мной, и во многие сердца, не откликавшиеся на мой зов. Я был один в мире одиноких людей. Это было страшно. Но я всё-таки продолжал верить. Если перестать верить в людей, что же тогда останется? Я глушил в себе волну горечи и, словно скряга, подбирал крохи человеческого, встречавшиеся на пути одиночества. Может быть сам я тогда не понимал, насколько органичной и неубиваемой была моя жажда веры в людей. Я бы мог рассказать много тяжелого и недоброго о моих соотечественниках, но зачем? Не тому надо удивляться, что среди подсоветских людей есть хапуги, подлецы, трусы — этого добра на Руси всегда было в избытке, а удивляться надо тому, что страшнейшее обезличивание людей властью не способно было развеять потенциал добра, заложенного в народе.
Я был ущемлен жизнью и болезненно переживал это. Вся страна превращалась тогда в землю обездоленных. И мы не знали, как остановить это превращение. В нас тогда уже жило ощущение идейной пустоты. В вихрях чисток, в лавине насилия над людьми и в постоянном страхе за будущее, умерла идея, когда-то поднявшая на борьбу наших отцов, — другой же не было. Мы ощущали жгучую жажду новых откровений, мы были почвой, на которой семена этих откровений могли бы взойти, но сеятель, равный Христу, не приходил, и нашим уделом была пустота.
В таком состоянии скрываемой душевной ущемленности дожил я до того дня, когда ранним утром у моей двери раздался настойчивый звонок. Старенькая мать моя, вся жизнь которой была соткана из страха за сыновей, открыла дверь и впустила ко мне совсем юного офицера с сиротливым кубиком на петлицах интендантских войск. Пришедший сообщил, что через полчаса я должен быть готов покинуть дом, захватив с собой «личные вещи». На мой вопрос, что случилось, он ответил одним словом: мобилизация.
В моем воинском билете стояла пометка, что я подлежу мобилизации в первый день объявления страны на военном положении. Значит, этот день настал. Торопливо собирая вещи и успокаивая мать, я напряженно думал о случившемся. Несомненно, мы воюем. Значит правда, что Сталин решился напасть на Германию. Циркулировали упорные слухи, что такое нападение готовится. К западным границам страны шли эшелоны с войсками. Казалось, Сталин перехитрил Гитлера и лишь выбирает момент, чтобы нанести ему смертельный удар в спину. Он дал Гитлеру хлеб, масло, нефть, металл. Гитлер развязал воину на западе. Теперь же Сталин совершит предательский ход и поставит Германию на колени.
Так думали многие из нас.
Через полчаса неуклюжий военный грузовик вез нас через город. Всходило солнце, озарявшее почти пустые улицы. Ожесточенно взмахивали метлами дворники.
Было больно видеть Москву, спящую и не ведающую, что над ней уже скопилась гроза. Долгие годы, проведенные мною в столице, сделали меня москвичом, и Москва казалась мне живым, одухотворенным существом, нуждающимся в моем предупреждающем крике.
Тем же чувством были охвачены и мои соседи. Нас в грузовике было человек пятнадцать. Все спешно мобилизованные. Сидевший рядом со мной человек с глубоким шрамом, обезобразившим левую сторону лица, тихо, словно сам для себя, сказал, что знай Москва, о войне, она не спала бы так спокойно.
— Не спала бы, а в очередях стояла, — откликнулся другой наш спутник — высокий худощавый человек. На его синем пиджаке алели два боевых ордена красного знамени. — Ох, плохо сегодня будет. Народ, как о войне узнает, озвереет.
— Да, судьба родины всех взволнует, — проговорил сопровождавший нас интендант.
Человек с двумя орденами засмеялся:
— Не судьба родины, а жратва, — проговорил он. — Люди опытом научены, что раз война, так обязательно голод. Вот увидите, что сегодня в магазинах будет твориться.
— Не обязателыно-же-голод, товарищ. Ведь столько лет готовились к войне. Запасы создали достаточные.
Интендант явно не хотел уступить. Орденоносец посуровел в лице и уже зло проговорил в сторону молодого интенданта:
— Вам, конечно, лучше знать. Технику-интенданту всё доподлинно известно. А я всего-то директор московских баз пищеснабжения. Куда уж мне знать, сколько в Москве имеется продовольствия?
Нас привезли в казарму одной из частей московской пролетарской дивизии. Здесь был организован приемный пункт для командного состава запаса, призываемого в первую очередь. В широкие ворота въезжали грузовики, доставлявшие группы мобилизованных. Техники-интенданты, почему-то все на одно лицо, сдавали свою добычу по списку. Нас принял маленький хлопотливый капитан, до крайности возбужденный и совершенно неспособный стоять на одном месте. Сыпя словами, словно рассеивая мелкий горох, капитан в одну минуту сообщил нам о том, что мы мобилизованы, будем сегодня же отправлены в части и еще до отправки снабжены обмундированием и личным оружием. Цейгхауз там-то, оружейный склад там-то, а если мы голодны, то нас накормят в офицерской столовой, находящейся в другом конце казармы.
— Но только, товарищи командиры, не расходитесь, держитесь в пределах моей видимости. Очень, очень прошу об этом.
С этими словами пожилой капитан исчез из пределов нашей видимости и мне удалось встретить его только перед вечером.
На мобилизационном пункте было шумно и бестолково. Военные писаря сбились с ног. Кого-то вызывали на отправку. К казарменным воротам подходили женщины и дети. Радио начинало выкрикивать имена мобилизованных, которым разрешалось иметь с семьями последнее свидание. В полдень прибыла артистическая бригада. Я обрадовался, увидев хоть одно знакомое лицо. Крошечная Шура Л., начинающая тогда певица, а теперь известная исполнительница лирических песен, крепко уцепилась за мой рукав и, округляя глаза, отчего всё ее лицо становилось напуганным, торопливо рассказывала, что в Москве «ужас, что происходит». Как только узнали о войне, так все ринулись к магазинам. «Моя соседка, — говорила Шура, — принесла два преогромных бидона керосина и вылила их в ванную. Побежала опять в магазин, а у нее мальчик-ползунок, такой чудный мальчуган Петюнька, подполз к ванной, стоявшей на полу, вцепился за нее ручками, и упал в керосин. Мать вернулась, а Петюнька уже мертвый… Моя мама побежала в магазин, но ей в толкучке руку вывихнули. Всё-таки пять килограммов муки она принесла. А в соседнем доме у нас заведующий магазином живет. Он машину с продовольствием к дому привез, но другие увидели и накинулись на машину. Всё растащили… А меня по мобилизации взяли, призывные пункты обслуживать. Неужели вас совсем отправляют на войну? Какой ужас. Вы знаете, военная форма вас совершенно меняет»…
Шуру позвали в клубный зал, где сцена была уже готова для представления. Радио приглашало мобилизованных посмотреть выступление артистической бригады, но почти никто не шел. Не до того было людям.
Во второй половине дня, решив, что у меня еще есть возможность провести несколько часов с матерью, я отправился получить разрешение на отлучку с мобилизационного пункта. Но в это время радио громогласно выкрикнуло мое имя. Мне приказывалось немедленно явиться в штаб части, помещающейся в небольшом домике, окруженном подстриженными акациями.
В длинном коридоре штабного домика меня поджидал капитан, принявший нас утром. Он пританцовывал от нетерпения.
— Ах, товарищ командир, я же просил вас не отрываться от меня, а вы куда-то исчезли, — укоризненно говорил он, подталкивая меня к двери. Я вошел в просторную комнату.
— Вот и он, — проговорил генерал, сидящий у стола. Вокруг него стояло несколько офицеров, как видно только что надевших военную форму. Это был Рыбалко. Его появление было для меня неожиданным. Я ведь думал, что он всё еще находится в Китае.
— Хотите ехать со мною? — спросил Рыбалко, протягивая мне руку. Я не знал, куда меня зовут, но так как куда-то, всё равно, надо было ехать, я ответил кислой шуткой:
— Если харчи будут хорошие, то можно ехать.
— Харчи будут, — засмеялся Рыбалко. — Но не одним хлебом жив человек… Вы знаете, я совсем случайно обнаружил ваше имя в списке находящихся на этом пункте. Мне нужно подобрать группу для выполнения специального поручения и вы как раз для этого подойдете… Вы имеете чин старшего лейтенанта? — Я молча показал на свои петлицы с тремя кубиками. — Ничего, мы вас повысим, — уверенно произнес генерал-майор. — Быть вам завтра капитаном. Уверен, что не будет возражений и против того, чтобы я забрал вас в свою группу. Сейчас же утрамбуем все эти вопросы, а вас я прошу через час быть готовым к отправке.
День, начавшийся звонком у двери, шел к концу. Я не знал, где встречу день грядущий.
|
|