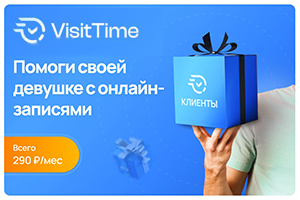Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Часть первая 1 страница
|
|
Харпер Ли
Убить пересмешника
Любимое чтение –
Харпер Ли
Убить пересмешника
Юристы, наверно, тоже когда-то были детьми
Чарлз Лэм
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Незадолго до того, как моему брату Джиму исполнилось тринадцать, у него была сломана рука. Когда рука зажила и Джим перестал бояться, что не сможет играть в футбол, он ее почти не стеснялся. Левая рука стала немного короче правой; когда Джим стоял или ходил, ладонь была повернута к боку ребром. Но ему это было все равно — лишь бы не мешало бегать и гонять мяч.
Через несколько лет, когда все это было уже дело прошлое, мы иной раз спорили о событиях, которые к этому привели. Я говорила: все пошло от Юэлов, но Джим — а он на четыре года старше меня — уверял, что все началось гораздо раньше. Началось с того лета, когда к нам приехал Дилл, сказал он — Дилл первый придумал выманить из дому Страшилу Рэдли.
Я сказала, если добираться до корня, так все пошло от Эндрю Джексона. Если б генерал Джексон не прогнал индейцев племени Ручья вверх по ручью, Саймон Финч не приплыл бы на своей лодке вверх по Алабаме — и что бы тогда с нами было? Людям взрослым уже не пристало решать спор кулаками, и Мы пошли и спросили Аттикуса. Отец сказал, что мы оба правы.
Мы южане; насколько нам известно, ни один наш предок не сражался при Гастингсе [в 1066 году при Гастингсе войска англосаксонского короля Гарольда потерпели поражение, после чего нормандский герцог Вильгельм I быстро завоевал страну и стал королем Англии; предки Финчей не участвовали в этой битве, следовательно, не принадлежали к старинной английской аристократии], и, признаться, кое-кто в нашей семье этого стыдился. Наша родословная начинается всего лишь с Саймона Финна, он был лекарь и завзятый охотник родом из Корнуэлла, ужасно благочестивый, а главное — ужасный скряга. Саймону не нравилось, что в Англии людям, которые называли себя методистами, сильно доставалось от их более свободомыслящих братьев; он тоже называл себя методистом, а потому пустился в дальний путь: через Атлантический океан в Филадельфию, оттуда в Ямайку, оттуда в Мобил и дальше в Сент-Стивенс. Памятуя, как сурово Джон Уэсли осуждал многоглаголание при купле-продаже, Саймон втихомолку нажил состояние на медицине, но при этом опасался, что не сможет устоять перед богопротивными соблазнами — начнет, к примеру, рядиться в золото и прочую мишуру. И вот, позабыв наставление своего учителя о тех, кто владеет людьми как орудиями, он купил трех рабов и с их помощью построил ферму на берегу Алабамы, миль на сорок выше Сент-Стивенса. В Сент-Стивенс он вернулся только однажды, нашел себе там жену, и от них-то пошел род Финчей, причем рождались все больше дочери. Саймон дожил до глубокой старости и умер богачом.
Мужчины в нашей семье обычно так и оставались на ферме Саймона «Пристань Финча» и выращивали хлопок. Хоть «Пристань» и выглядела скромно среди окружавших ее поистине королевских владений, но давала все, что нужно для независимого существования; только лед, муку да одежду и обувь привозили пароходом из Мобила.
Распря между Севером и Югом, наверно, привела бы Саймона в бессильную ярость, ведь она отняла у его потомков все, кроме земли; однако они остались земледельцами, и лишь в двадцатом веке семейная традиция нарушилась: мой отец Аттикус Финч поехал в Монтгомери изучать право, а его младший брат поехал в Бостон изучать медицину. На «Пристани Финча» осталась одна только их сестра Александра; она вышла замуж за тихоню, который целыми днями лежал в гамаке у реки и гадал, не попалась ли уже рыба на его удочки.
Закончив ученье, мой отец вернулся в Мейкомб и занялся адвокатской практикой. Мейкомб — это окружной центр милях в двадцати к востоку от «Пристани Финча». В здании суда у Аттикуса была контора, совсем пустая, если не считать вешалки для шляп, плевательницы, шахматной доски да новенького Свода законов штата Алабама. Первые два клиента Аттикуса оказались последними, кого повесили в мейкомбской окружной тюрьме. Аттикус уговаривал их признать себя виновными в непредумышленном убийстве, тогда великодушный закон сохранит им жизнь; но они были Хейверфорды, а кто же в округе Мейкомб не знает, что все Хейверфорды упрямы как ослы. У этих двоих вышел спор с лучшим мейкомбским кузнецом из-за кобылы, которая забрела на чужой луг, и они отправили кузнеца на тот свет, да еще имели неосторожность сделать это при трех свидетелях, а потом уверяли, что так этому сукину сыну и надо, и воображали, будто это их вполне оправдывает. Они твердили, что в убийстве с заранее обдуманным намерением не виновны, и Аттикус ничем не мог им помочь, кроме как присутствовать при казни, после чего, должно быть, он и проникся отвращением к уголовным делам.
За первые пять лет жизни в Мейкомбе Аттикус не столько занимался адвокатской практикой, сколько практиковался в строгой экономии: все свои заработки он вложил в образование младшего брата. Джон Хейл Финч был на десять лот моложе моего отца и решил учиться на врача как раз в ту пору, когда хлопок так упал в цене, что его и выращивать не стоило; потом Аттикус поставил дядю Джека на ноги и вздохнул свободнее. Он любил Мейкомб, он был плоть от плоти округа Мейкомб, знал всех здешних жителей, и они его знали; а благодаря стараниям Саймона Финча Аттикус был если не в кровном родстве, так в свойстве чуть ли не со всеми семействами города.
Мейкомб — город старый, когда я его узнала, он уже устал от долгой жизни. В дождь улицы раскисали, и под ногами хлюпала рыжая глина; тротуары заросли травой, здание суда на площади осело и покосилось. Почему-то в те времена было жарче, чем теперь: черным собакам приходилось плохо; на площади тень виргинских дубов не спасала от зноя, и костлявые мулы, впряженные в тележки, яростно отмахивались хвостами от мух. Крахмальные воротнички мужчин размокали уже к девяти утра. Дамы принимали ванну около полудня, затем после дневного сна в три часа и все равно к вечеру походили на сладкие булочки, покрытые глазурью из пудры и пота.
Люди в те годы двигались медленно. Разгуливали по площади, обходили одну лавку за другой, все делали с расстановкой, не торопясь. В сутках были те же двадцать четыре часа, а казалось, что больше. Никто никуда не спешил, потому что идти было некуда, покупать нечего, денег ни гроша, и ничто не влекло за пределы округа Мейкомб. Но для некоторых это было время смутных надежд: незадолго перед тем округу Мейкомб объяснили, что ничего не надо страшиться, кроме страха [из речи президента Франклина Делано Рузвельта (1882-1945)].
Наш дом стоял на главной улице жилой части города, нас было четверо — Аттикус, Джим, я и паша кухарка Кэлпурния. Мы с Джимом считали, что отец у нас неплохой: он с нами играл, читал нам вслух и всегда был вежливый и справедливый.
Кэлпурния была совсем другая. Вся из углов и костей, близорукая и косила; и рука у нее была широкая, как лопата, и очень тяжелая. Кэлпурния вечно гнала меня из " ухни и говорила, почему я веду себя не так хорошо, как Джим, а ведь она знала, что Джим старше; и она вечно звала меня домой, когда мне хотелось еще погулять. Наши сражения были грандиозны и всегда кончались одинаково. Кэлпурния неизменно побеждала, больше потому, что Аттикус неизменно принимал ее сторону. Она жила у нас с тех пор, как родился Джим, и, сколько себя помню, я всегда ощущала гнет ее власти.
Мама умерла, когда мне было два года, так что я не чувствовала утраты. Она была из города Монтгомери, урожденная Грэм; Аттикус познакомился с нею, когда его в первый раз выбрали в законодательное собрание штата. Он был тогда уже пожилой, на пятнадцать лет старше ее. В первый год после их свадьбы родился Джим, после него через четыре года — я, а еще через два года мама вдруг умерла от разрыва сердца. Говорили, что это у Грэмов в роду. Я по ней не скучала, но Джим, наверно, скучал. Он хорошо помнил маму и иногда посреди игры вдруг длинно вздыхал, уходил за гараж и играл там один. Когда он бывал такой, я уж знала, лучше к нему не приставать.
Когда мне было около шести лет, а Джиму около десяти, нам летом разрешалось уходить от дома настолько, чтоб слышать, если Кэлпурния позовет: к северу — до ворот миссис Генри Лафайет Дюбоз (через два дома от нас), к югу — за три дома, до Рэдли. У нас никогда не было искушения перейти эти границы. В доме Рэдли обитало неведомое страшилище, стоило упомянуть о нем — и мы целый день были тише воды, ниже травы; а уж миссис Дюбоз была сущая ведьма.
В то лето к нам приехал Дилл.
Как-то рано утром мы с Джимом вышли на задворки, и вдруг в огороде у нашей соседки, мисс Рейчел Хейверфорд, среди грядок с капустой что-то зашевелилось. Мы подошли к проволочной изгороди поглядеть, не щенок ли это, — у мисс Рейчел фокстерьер должен был ощениться, — а там сидел кто-то коротенький и смотрел на нас. Над капустой торчала одна макушка. Мы стояли и смотрели. Потом он сказал:
— Привет!
— Сам привет, — вежливо ответил Джим.
— Я Чарлз Бейкер Харрис, — сказал коротенький. — Я умею читать.
— Ну и что? — сказала я.
— Я думал, может, вам интересно, что я умею читать. Может, вам надо чего прочитать, так я могу…
— Тебе сколько? — спросил Джим. — Четыре с половиной?
— Скоро семь.
— Чего ж ты хвастаешь? — сказал Джим и показал на меня большим пальцем. — Вон Глазастик сроду умеет читать, а она у нас еще и в школу не ходит. А ты больно маленький для семи лет.
— Я маленький, но я уже взрослый.
Джим отвел волосы со лба, чтоб получше его разглядеть.
— Поди-ка сюда, Чарлз Бейкер Харрис. Господи, вот так имечко!
— Не смешней твоего. Тетя Рейчел говорит, тебя зовут Джереми Аттикус Финч.
Джим нахмурился.
— Я большой, мне мое имя подходит. А твое длинней тебя самого. На целый фут.
— Меня все зовут просто Дилл. — И Дилл полез под проволоку.
— Лучше бы сверху перелез, — сказала я. — Ты откуда взялся?
Дилл взялся из Меридиана, штат Миссисипи, он приехал на лето к своей тете мисс Рейчел и теперь всегда будет летом жить в Мейкомбе. Его родные все мейкомбские, мать работает в Меридиане в фотографии, она послала карточку Дилла на конкурс красивого ребенка и получила премию в пять долларов. Она отдала их Диллу, и он на эти деньги целых двадцать раз ходил в кино.
— У нас тут кино не показывают, только иногда в суде про Иисуса, — сказал Джим. — А ты видал что-нибудь хорошее?
Дилл видел кино «Дракула», это открытие заставило Джима поглядеть на него почти с уважением.
— Расскажи, — попросил он.
Дилл был какой-то чудной. Голубые полотняные штаны пуговицами пристегнуты к рубашке, волосы совсем белые и мягкие, как пух на утенке; он был годом старше меня, но гораздо ниже ростом. Он стал рассказывать нам про Дракулу, и голубые глаза его то светлели, то темнели, вдруг он принимался хохотать во все горло; на лоб ему падала прядь волос, и он все время ее теребил.
Когда Дилл разделался с Дракулой, Джим сказал — похоже, что кино поинтереснее книжки, а я спросила, где у Дилла отец.
— Ты про него ничего не говорил.
— У меня отца нет.
— Он умер?
— Нет…
— Как же так? Раз не умер, значит есть.
Дилл покраснел, а Джим велел мне замолчать — верный знак, что он изучил Дилла и решил принять его в компанию. После этого у нас на все лето установился свой распорядок. Распорядок был такой: мы перестраивали свой древесный домик — гнездо, устроенное в развилине огромного платана у нас на задворках; ссорились, разыгрывали в лицах подряд все сочинения Оливера Оптика, Виктора Эплтона и Эдгара Раиса Бэрроуза. Тут Дилл оказался для нас просто кладом. Он играл все характерные роли, которые раньше приходилось играть мне: обезьяну в «Тарзане», мистера Крэбтри в «Братьях Роувер», мистера Деймона в «Томе Свифте». Понемногу мы убедились: Дилл, почти как волшебник Мерлин, — великий мастер на самые неожиданные выдумки, невероятные затеи и престранные фантазии.
К концу августа нам наскучило снова и снова разыгрывать одни и те же спектакли, и тут Дилл надумал выманить из дому Страшилу Рэдли.
Дом Рэдли совсем околдовал Дилла. Сколько мы его ни предостерегали, сколько ему ни толковали, этот дом притягивал его, как луна — море, но притягивал только до фонарного столба на углу, на безопасном расстоянии от ворот Рэдли. Тут Дилл застывал — обхватит рукой толстый столб, смотрит во все глаза и раздумывает.
Дом Рэдли стоял в том месте, где улица к югу от нас описывает крутую дугу. Если идти в ту сторону, кажется, вот-вот упрешься в их крыльцо. Но тут тротуар поворачивает и огибает их участок. Дом был низкий, когда-то выбелен известкой, с большой верандой и зелеными ставнями, но давным-давно уже облез и стал таким же грязно-серым, как и весь двор. Прогнившая дранка свисала с крыши веранды, густая листва дубов не пропускала солнечных лучей. Поредевшие кольца забора, шатаясь, как пьяные, ограждали двор перед домом — «чистый» двор, который никогда не подметался и весь зарос сорной травой.
В этом доме обитал злой дух. Так все говорили, но мы с Джимом никогда его не выдели. Говорили, он выходит по ночам, когда нет лупы, и заглядывает в чужие окна. Если вдруг похолодает и у кого-нибудь в саду померзнут азалии, значит, ото он на них дохнул. Все мелкие тайные преступления, какие только совершаются в Мейкомбе, — это его рук дело. Как-то на город одно за другим посыпались непонятные и устрашающие ночные происшествия: кур, кошек и собак находили поутру жестоко искалеченными; и хотя виновником оказался полоумный Эдди, который потом бросился в Заводь и утонул, все по-прежнему косились на дом Рэдли, словно не хотели отказываться от первоначальных подозрений. Ни один негр не решался ночью пройти мимо этого дома — непременно перейдет на противоположный тротуар и начнет насвистывать для храбрости. Площадка для игр при мейкомбской школе примыкала к задворкам Рэдли; возле курятника у Рэдли росли высоченные пекановые деревья, и спелые орехи сыпались с ветвей на школьный двор, но никто к ним не притрагивался: орехи Рэдли ядовитые! Бейсбольный мяч, залетевший к Рэдли, пропадал безвозвратно, о нем никто и не заикался.
Тайна окутала этот дом задолго до того, как родились мы с Джимом. Перед семейством Рэдли были открыты все двери в городе, но оно держалось очень замкнуто — грех в Мейкомбе непростительный. Рэдли не ходили в церковь, хотя в Мейкомбе это главное развлечение, а молились богу у себя дома; можно было пересчитать по пальцам случаи, когда миссис Рэдли днем выходила из дому, чтоб выпить чашку кофе с соседками, а на собраниях миссионерского общества ее не видали ни разу. Мистер Рэдли каждое утро в половине двенадцатого отправлялся в город и уже через полчаса возвращался, иногда с пакетом в руках: с покупками из бакалейной лавки, догадывались соседи. Я так и не поняла, как старик Рэдли зарабатывал свой хлеб, Джим говорил, что он «скупает хлопок» (вежливый оборот, означавший «бьет баклуши»), но мистер Рэдли с женой и двумя сыновьями жили в нашем городе с незапамятных времен.
По воскресеньям двери и ставни у Рэдли были закрыты — тоже наперекор мейкомбскому обычаю: у нас закрывают двери только в холода или если кто-нибудь болен. А по воскресеньям полагается делать визиты: женщины ходят в корсетах, мужчины — в пиджаках, дети — в башмаках. Но никто из соседей в воскресный день не поднялся бы на крыльцо к Рэдли. Двери у них были сплошные. Я как-то спросила Аттикуса, были ли у них когда-нибудь двери с москитной сеткой, и Аттикус сказал — да, но еще до того, как я родилась.
Рассказывали, когда младший сын Рэдли был подростком, он свел дружбу с Канингемами из Старого Сарэма — многолюдным загадочным племенем, обитавшим на севере нашего округа, и впервые за всю историю Мейкомба они сколотили что-то вроде шайки. Они не так уж много буянили, но и этого было довольно, чтобы о них судил и рядил весь город и три священника увещевали их с трех церковных кафедр: они слонялись возле парикмахерской, по воскресеньям ездили автобусом в Эбботсвил в кино; ходили на танцульки в известный всему округу игорный притон на берегу Алабамы — гостиницу «Капля росы и приют рыболова» и даже пробовали пить виски. Ни один человек в Мейкомбе не отважился сказать мистеру Рэдли, что его сын связался с дурной компанией.
— Однажды вечером, разойдясь больше обычного, мальчишки прикатили на главную площадь задом наперед на взятом у кого-то взаймы дрянном фордике, оказали сопротивление почтенному церковному старосте мистеру Коннеру, который пытался их задержать, заперли его во флигеле для присяжных во дворе суда. Весь город решил, что этого им спустить нельзя; мистер Коннер заявил, что узнал всех до одного в лицо и так этого не оставит, — и вот мальчишки предстали перед судом по обвинению в хулиганстве, нарушении общественной тишины и порядка, оскорблении действием и сквернословии в присутствии женщин. Судья спросил мистера Коннера, откуда это последнее обвинение, и мистер Коннер сказал — ребята ругались так громко, что их наверняка слышали все женщины во всем Мейкомбе. Судья решил отправить мальчишек в ремесленное училище штата, куда иной раз посылали подростков просто для того, чтобы у них был кусок хлеба и крыша над головой, это была не тюрьма, и это не считалось позором. Но мистер Рэдли думал иначе. Если судья отпустит Артура, мистер Рэдли уж позаботится, чтоб Артур больше не доставлял хлопот. Зная, что у мистера Рэдли слово не расходится с делом, судья охотно отдал ему сына.
Другие мальчишки поступили в ремесленное училище и получили лучшее среднее образование, какое только можно получить в пределах нашего штата; один из них даже окончил потом высшее техническое училище в Оберне. Двери дома Рэдли были закрыты наглухо и по воскресеньям и в будни, и целых пятнадцать лет никто больше ни разу не видал младшего сына мистера Рэдли.
А потом настал день, который смутно помнил и Джим, когда несколько человек видели Страшилу Рэдли, — и о нем заговорили. По словам Джима, Аттикус не любил говорить о Рэдли, и, когда Джим про них спрашивал, Аттикус отвечал одно: занимайся своими делами, а в дела Рэдли не суйся, они тебя не касаются, но после того случая, рассказывал Джим, Аттикус покачал головой и сказал: «Гм-гм».
Почти все сведения Джим получил от нашей соседки мисс Стивени Кроуфорд, завзятой сплетницы, она-то уж знала все доподлинно. По ее словам, Страшила сидел в гостиной, вырезал какие-то заметки из «Мейкомб трибюн» и наклеивал в альбом. В комнату вошел мистер Рэдли-старший. Когда отец проходил мимо, Страшила ткнул его ножницами в ногу, потом вытащил ножницы, вытер кровь о штаны и вновь принялся за свои вырезки.
Миссис Рэдли выбежала на улицу и закричала, что Артур их всех сейчас убьет, но, когда прибыл шериф, Страшила все так же сидел в гостиной и вырезал что-то из газеты. Ему было тогда тридцать три года.
Мисс Стивени сказала — мистеру Рэдли предложили отправить Страшилу на время в Таскалузу, это будет ему полезно, но старик сказал — нет, ни один Рэдли в сумасшедшем доме не сидел и сидеть не будет. Страшила не помешанный, просто он иногда бывает раздражительным. Подержать его под замком можно, а судить не за что, никакой он не преступник. Шериф не решился посадить Страшилу в тюрьму вместе с неграми, и его заперли в подвале здания суда.
Как Страшилу вновь перевели домой, Джим помнил очень смутно. Мисс Стивени Кроуфорд рассказывала — некоторые члены муниципалитета сказали мистеру Рэдли, что если он не заберет Страшилу из подвала, тот от сырости зарастет плесенью и помрет. И потом, не может же Страшила весь век жить на средства округа.
Никто не знал, каким образом мистеру Рэдли удалось запугать Страшилу так, чтоб он не показывался на люди; Джим думал, что Страшила почти все время сидит на цепи, прикованный к кровати. Но Аттикус сказал — нет, не в том дело, можно и другими способами превратить человека в привидение.
Помню, изредка мне случалось видеть, как миссис Рэдли открывает парадную дверь, подходит к перилам веранды и поливает свои канны. А вот мистера Рэдли, когда он шагал в город и обратно, мы с Джимом видели каждый день. Он был худой, жилистый, глаза какие-то блеклые, даже не поймешь, какого они цвета. Торчат острые скулы, рот большой, верхняя губа тонкая, а нижняя толстая. Мисс Стивени Кроуфорд говорила, он уж до того прямой и правильный человек, что слушает одного только бога, и мы ей верили, потому что мистер Рэдли был прямой, как громоотвод.
С нами он не разговаривал. Когда он шел мимо, мы опускали глаза и говорили: «Доброе утро, сэр», а он в ответ только покашливал. Его старший сын жил в Пенсаколе, на рождество он приезжал домой, он был один из немногих, кто на наших глазах входил в этот дом или выходил из него. Люди говорили, с того дня, как мистер Рэдли взял Артура из подвала, дом словно вымер.
А потом настал день, когда Аттикус сказал — если мы станем шуметь во дворе, он нам задаст, и велел Кэлпурнии, чтоб мы не смели пикнуть, пока его не будет дома: мистер Рэдли умирает.
Мистер Рэдли не торопился. Улицу по обе стороны от его дома перегородили деревянными козлами, тротуар посыпали соломой, все машины и повозки сворачивали в объезд. Доктор Рейнолдс всякий раз, приезжая к больному, оставлял свою машину возле нас и к дому Рэдли тел пешком. Мы с Джимом целыми днями ходили по двору на цыпочках. Наконец козлы убрали, и мы с крыльца смотрели, как мистер Рэдли отправился мимо нашего дома в последний путь.
— Вот хоронят самого подлого человека на свете, — проворчала себе под нос Кэлпурния и задумчиво сплюнула.
Мы посмотрели на нее во все глаза: Кэлпурния не часто позволяла себе вслух судить о белых.
Все соседи думали — когда мистер Рэдли отправится на тот свет, Страшила выйдет на свет божий, но они ошибались: из Пенсаколы вернулся старший брат Страшилы и занял место отца. Разница была только в возрасте. Джим сказал — мистер Натан Рздли тоже «скупает хлопок». Однако мистер Натан отвечал нам, когда мы с ним здоровались, и иногда он возвращался из города с журналом в руках.
Чем больше мы рассказывали Диллу про семейство Рэдли, тем больше ему хотелось знать, тем дольше он простаивал на углу в обнимку с фонарным столбом и тем дольше раздумывал.
— Интересно, что он там делает, — бормотал он. — Вот возьмет сейчас и высунется из-за двери.
— Он по ночам выходит, когда темно, — сказал Джим. — Мисс Стивени Кроуфорд говорит, раз она проснулась среди ночи, а он смотрит на нее в окошко… смотрит, а сам похож на мертвеца, голова точь-в-точь как череп. Дилл, а ты его не слыхал? Ты ночью не просыпался? Он ходит вот так, — и Джим зашаркал ногами по гравию. — Думаешь, почему мисс Рейчел так запирает на ночь все двери? Я сам утром сколько раз видал у нас на задворках его следы, а раз ночью слышим — он скребется в окно у заднего крыльца, Аттикус вышел, а его уже нет.
— Вот бы поглядеть, какой он, — сказал Дилл.
Джим нарисовал довольно похожий портрет Страшилы: ростом Страшила, судя по следам, около шести с половиной футов; ест он сырых белок и всех кошек, какие только попадутся, вот почему руки у него всегда в крови — ведь кто ест животных сырыми, тому век не отмыть рук. У него длинный кривой шрам через все лицо; зубы желтые, гнилые; он пучеглазый и слюнявый.
— Давайте выманим его из дому, — сказал Дилл. — Я хочу на него поглядеть.
Джим сказал:
— Что ж, если тебе жизнь надоела, поди и постучи к ним в парадную дверь, только и всего.
Наш первый налет состоялся, только когда Дилл поспорил с Джимом на книжку «Серое привидение» против двух выпусков «Тома Свифта», что Джим не посмеет сунуться в ворота Рэдли. Джим был такой — если его раздразнить, нипочем не отступит.
Джим думал три дня. Наверно, честь ему была дороже жизни, потому что Дилл его донял очень легко.
— Ты трусишь, — сказал он в первый же день.
— Не трушу, просто невежливо ломиться в чужой дом.
Назавтра Дилл сказал:
— Ты трусишь, тебе к ним во двор одной ногой и то не ступить.
Джим возразил, что он ведь сколько лет каждый день ходит в школу мимо Рэдли.
— Не ходишь, а бегом бегаешь, — сказала я.
Но на третий день Дилл добил его: он сказал Джиму, что в Меридиане люди похрабрее мейкомбских, он сроду не видал таких трусов, как в Мейкомбе.
Услыхав такие слова, Джим прошагал по улице до самого угла, прислонился к фонарному столбу и уставился на калитку, которая нелепо болталась на самодельной петле.
— Надеюсь, ты и сам понимаешь, Дилл Харрис, что он всех нас прикончит, — сказал Джим, когда мы подошли к нему. — Он выцарапает тебе глаза, и тогда не говори, что это я виноват. Помни, ты сам это затеял.
— А ты все равно трусишь, — кротко сказал Дилл.
Джим попросил Дилла усвоить раз и навсегда, что ничего он не трусит.
— Просто я никак не придумаю, как бы его выманить, чтоб он нас не поймал.
И потом, Джим обязан помнить о своей младшей сестре.
Как только он это сказал, я поняла — он и вправду боится. Когда я один раз сказала, что ему слабо спрыгнуть с крыши, он тоже вспомнил о своей младшей сестре, «Если я разобьюсь насмерть, что будет с тобой?» — спросил он тогда.
Прыгнул с крыши, но не разбился, и больше не вспоминал, что он в ответе за свою младшую сестру, пока не оказался перед воротами Рэдли.
— Что, слабо тебе? Хочешь на попятный? — сказал Дилл. — Тогда, конечно…
— Дилл, такие вещи надо делать подумавши, — сказал Джим. — Дай минуту подумать… это все равно как заставить черепаху высунуть голову…
— А как ты ее заставишь? — поинтересовался Дилл.
— Надо зажечь у нее под пузом спичку.
Я сказала — если Джим подожжет дом Рэдли, я скажу Аттикусу.
Дилл сказал — поджигать черепаху гнусно.
— Ничего не гнусно, надо же ее заставить, и ведь это не то что кинуть ее в огонь, — проворчал Джим.
— А почем ты знаешь, что от спички ей не больно?
— Дурак, черепахи ничего не чувствуют, — сказал Джим.
— А ты что, сам был черепахой?
— Ну, знаешь, Дилл!.. А теперь не мешай, дай подумать… Может, если мы начнем кидаться камнями…
Джим думал так долго, что Дилл, вздохнув, пошел на уступки.
— Ладно, не слабо, ты только подойти к дому, дотронься рукой — и «Серое привидение» твое.
Джим оживился:
— Дотронусь — и все?
Дилл кивнул.
— Значит, все? — повторил Джим. — Смотри, а то я дотронусь, а ты сразу станешь орать — не по правилам!
— Говорят тебе, это все, — сказал Дилл. — Он, наверно, как увидит тебя во дворе, сразу выскочит, тут мы с Глазастиком накинемся на него, схватим и объясним, что мы ему ничего плохого не сделаем.
Мы перешли через улицу и остановились у ворот Рэдли.
— Ну, валяй, — сказал Дилл. — Мы с Глазастиком тут.
— Сейчас, — сказал Джим. — Не торопи меня.
Он зашагал вдоль забора до угла, потом обратно — видно, изучал несложную обстановку и решал, как лучше проникнуть во двор; при этом он хмурился и чесал в затылке.
Я смотрела, смотрела на него — и фыркнула.
Джим рывком распахнул калитку, кинулся к дому, хлопнул ладонью по стене и помчался обратно мимо нас, даже не обернулся поглядеть, что толку от его набега. Мы с Диллом мчались за ним по пятам. Благополучно добежали до нашей веранды и, пыхтя и еле переводя дух, оглянулись.
Старый дом стоял по-прежнему хмурый и унылый, но вдруг нам показалось, что в одном окне шевельнулась штора. Хлоп. Легкое, чуть заметное движение — и дом снова замер.
В начале сентября Дилл попрощался с нами и уехал к себе в Меридиан. Мы проводили его на пятичасовой автобус, и я ужасно скучала, но потом сообразила — через неделю мне в школу! Еще ничего в жизни я не ждала с таким нетерпением. Зимой я часами просиживала в нашем домике на платане, глядя на школьный двор, подсматривала за школьниками в бинокль Джима, изучила все их игры, не спускала глаз с красной куртки Джима, когда ребята играли в жмурки или в салки, втайне делила все их радости и неудачи. И ужасно хотела быть с ними вместе.
В первый день Джим снизошел до того, что сам отвел меня в школу, обычно это делают родители, но Аттикус сказал — Джим с удовольствием покажет мне мой класс. Наверно, тут совершилась выгодная сделка: когда мы рысцой огибали угол дома Рэдли, я услыхала необычный звук — в кармане у Джима позвякивали монетки. Перед школьным двором мы замедлили шаг, и Джим стал мне толковать, чтоб в школе я к нему не приставала, не просила разыграть главу «Тарзан и люди-муравьи», не докучала намеками на его личную жизнь и не ходила за ним хвостом в переменки. Мое место в первом классе, а место Джима — в пятом. Короче говоря, чтоб я не путалась у пего под ногами.
— Что ж, нам с тобой больше нельзя играть вместе? — спросила я.
— Дома мы будем жить, как жили, — сказал Джим. — Но, понимаешь, в школе не то, что дома.
Так оно и оказалось. В первое же утро наша учительница мисс Кэролайн Фишер вызвала меня и перед всем классом отлупила линейкой по ладони, а потом поставила в угол до большой перемены.
Мисс Кэролайн была молодая — двадцать один, но больше. Волосы темно-рыжие, щеки розовые и темно-красный лак на ногтях. И лакированные туфельки на высоком каблуке, и красное платье в белую полоску. Она была очень похожа на мятную конфетку, и пахло от нее конфеткой. Она снимала верхнюю комнату у мисс Моди Эткинсон, напротив нас, и, когда мисс Моди нас с ней познакомила, Джим потом несколько дней ходил, как в тумане.
Она написала свое имя на доске печатными буквами и сказала:
|
|