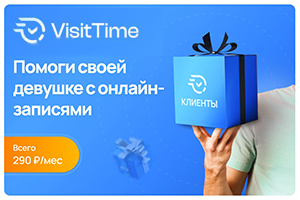Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Работы Н.К.Рериха 3 страница
|
|
В ноябре 1897 года в академии состоялись конкурсная выставка и торжественный акт вручения дипломов на звание художника. Это звание присвоили и Николаю Константиновичу за его картину «Гонец. Восстал род на род», или, как она значилась в «Отчетах Академии художеств», «Славяне и варяги». Дипломная работа оправдала надежды Куинджи и Стасова. Прямо с выставки «Гонец» был приобретен П.М.Третьяковым.
Эта картина, безусловно, вносила нечто новое в русскую историческую живопись. «Восстал род на род» — сколько эффектных моментов сулит такая тема художнику: внезапное нападение, вздыбленные кони, скрещенные копья, огни пожарищ... Но в картине не было нарочитого любования стариной. На первый взгляд сюжет картины казался предельно скромным и невыигрышным. Вместе с гребцом пробирается гонец ночью по реке. Вспыхнула междоусобная война, и он спешит предупредить соседей или, может быть, просить их о помощи. Много лет гонцу, и много видел он на своем веку. Поэтому и снарядили его в опасный путь. Озабочен гонец. Надо найти такие слова, чтобы поверили и отозвались. Удастся ли ему приостановить родовую вражду или она разгорится еще сильнее? Согнулись старческие плечи под тяжестью дум, но нет в гонце признаков страха или уныния.
Пейзаж картины переносит зрителей в далекое прошлое. На берегу виднеются островерхие шатровые постройки, окруженные тыном. Кое-где мерцают приглушенные огни очагов. Показался яркий серп месяца. Его лучи скользят по зеленой поверхности воды и освещают фигуры плывущих в лодке.
Картина захватывает воображение, делает зрителя как бы соучастником изображенной сцены.
В «Гонце» еще заметно сказывается влияние Куинджи. Красивая темная гамма коричневатых и зеленоватых тонов, яркий серп месяца, романтический пейзаж и некоторые композиционные приемы, несомненно, были переняты от учителя, но не слепо переняты, а умело использованы при вполне оригинальной трактовке исторической темы. Поэтому критики были единодушны: «Гонец» принес весть о рождении нового, самобытного таланта. На долю Николая Константиновича выпала редкая удача — «Гонцу» сразу же было отведено почетное место в русской исторической живописи, которое картина сохранила до наших дней.
Молодого художника горячо приветствовал Стасов. Николай Константинович был очень обрадован, когда в конце ноября 1897 года услышал от него:
— Непременно вы должны побывать у Толстого... пусть сам великий писатель земли Русской произведет вас в художники. Вот это будет признание. Да и «Гонца» вашего никто не оценит, как Толстой. Он-то сразу поймет, с какой вестью спешит ваш «Гонец». Нечего и откладывать, через два дня мы с Римским-Корсаковым едем в Москву. Айда с нами!
Сам Толстой... Думы о нем давно не давали покоя Рериху. Писатель олицетворял для него не только величие русской литературы, но и победу человека над самим собой.
И вот Стасов, Римский-Корсаков, скульптор И.Гинцбург и совсем еще юный Рерих в купе московского поезда. Стасов, которому уже за семьдесят, легко забирается на верхнюю полку, уверяя, что иначе он в поезде спать не может. Но похоже, что верхняя полка понадобилась ему для другой цели. Заняв «выгодную позицию», страстный критик предпринял ожесточенную атаку против романтических тенденций «Града Китежа».
Признаться, нравилась Николаю Константиновичу поэтическая эпика Римского-Корсакова, но сейчас в споры вступать не хотелось. Мысли заняты предстоящей встречей с Толстым. Слышал Николай Константинович, как при новых знакомствах случалось иногда, что Лев Николаевич пристально и долго смотрел человеку в глаза, а затем, не сказав ему ни слова, отходил и больше уже не замечал его. Это, наверное, было самым страшным! Захочет ли понять Толстой его? Поддержит или молча отойдет от «Гонца»?
Тревожные мысли одолевали Николая Константиновича до самого Хамовнического переулка в Москве, где стоял дом Толстого. Гостей встретила Софья Андреевна. Пришли гости не с пустыми руками. Стасов привез какие-то книги. Римский-Корсаков — ноты новых произведений. Гинцбург — бронзовую статуэтку Толстого. Рерих — большую фотографию с «Гонца». Всем важно было знать мнение Толстого.
Вот появился и он сам. Седой, в широкой светлой блузе, руки за поясом, как на репинском портрете. В фигуре, жестах, словах — убедительность мыслителя и предельно искреннего человека. Начался разговор о музыке, о живописи. Высказывания Льва Николаевича были не лишены парадоксальности, но писатель знал жизнь, знал людей, тонко чувствовал искусство и брал на себя смелость судить по законам собственной совести.
Наступил черед и «Гонцу». Стасов не ошибся, обещая, что Толстой скажет о картине нечто особенное. Действительно, Николай Константинович услышал то, чего еще никто не говорил и чему он сам не умел подобрать слов. Обратясь к автору «Гонца», Лев Николаевич неожиданно проговорил:
— Случалось ли в лодке переезжать быстроходную реку? Надо всегда править выше того места, куда вам нужно, иначе снесет. Так и в области нравственных требований надо всегда рулить выше — жизнь все снесет. Пусть ваш гонец высоко руль держит, тогда доплывет!
На следующее утро Николай Константинович уже возвращался в Петербург, где ему предстояло начать самостоятельную жизнь. Судьба как будто благоволила к нему, а напутствие Толстого «держать руль выше» вдохновляло на новые творческие дерзания.
В 1898 году Рериху было сделано два заманчивых предложения — занять место помощника директора музея Общества поощрения художеств и место помощника редактора журнала «Искусство и художественная промышленность». Постоянная служба сразу же давала независимое положение, но начинающий художник опасался, не скажется ли на его творчестве такое разбрасывание сил, и он обратился за советом к Куинджи. Архип Иванович сказал:
— Занятый человек все успеет, зрячий все увидит, а слепому все равно картин не писать.
Директор музея Общества поощрения художеств Д.В.Григорович был соратником Стасова и имел обширные связи в литературных и художественных кругах. Он очень хорошо отнесся к Рериху. Вводя его в музей, старый литератор произнес:
— Напишите мысленно над входом: «Храните священные предметы», ведь должны люди помнить о самом священном.
Николаю Константиновичу предстояло в этом году защитить еще и диплом в университете на тему «Правовое положение художников в Древней Руси». На государственном экзамене профессор Ефимов, уже наслышанный об успехе «Гонца», заметил Рериху: «Ну на что вам римское право, ведь, наверно, больше не вернетесь к нему?»
Однако Николай Константинович думал иначе. Вспоминая о работе над дипломом, он писал: «Пригодилась и Русская Правда, и летописи, и Стоглав, и Акты археологической комиссии. В древней, самой древней Руси много знаков культуры; наша древняя литература вовсе не так бедна, как ее хотели представить западники. Но надо подойти к ней без предубеждения, научно».
За первыми картинами появились первые серьезные статьи: «Иконный терем», «Искусство и археология», «На кургане», «По пути из Варяг в Греки». Николай Константинович затрагивал в них вопросы большого общественного значения — о связи науки и искусства, об охране и реставрации исторических архитектурных памятников, о художественной ценности старинной русской иконы. Рерих был одним их первых русских художников, заговоривших о древней иконописи серьезно и с большим знанием дела, чему, безусловно, способствовали его университетские занятия и археологические исследования.
В 1899 году умер Григорович. Надо было случиться, что новым директором музея Общества поощрения художеств назначили Михаила Петровича Боткина, члена совета Академии художеств, коллекционера, посредственного живописца, отличавшегося весьма консервативными взглядами на искусство. Незадолго до этого назначения Рерих критиковал Боткина в печати за безобразия, допущенные им при реставрации Софийского собора в Новгороде. Николай Константинович счел, что ему лучше не показываться новому директору на глаза, и совсем было решил уйти из музея. Но вице-президент Общества поощрения художеств И.П.Балашов пригласил Рериха немедленно поехать с ним к Боткину под предлогом осмотра известной боткинской коллекции.
Прием превзошел все ожидания. Михаил Петрович показал коллекцию. Затем он сказал, что мечтал иметь своим помощником такого энергичного и знающего человека, как Рерих, и что ему, Михаилу Петровичу, чтение статьи о реставрации Софийского собора было интересным и полезным. Правда, через несколько дней Боткин говорил своим знакомым, что Рерих приходил к нему извиниться за острую критику. Так что Николаю Константиновичу сразу же представился случай оценить «искренность» высокопоставленного администратора.
Работая в музее, Рерих продолжал принимать активное участие во многих начинаниях Русского археологического общества. Кроме славянского отделения, Николай Константинович, увлеченный Востоком, посещал и заседания Восточного отдела, возглавляемого индологом В.Р.Розеном. Здесь он познакомился с известным впоследствии египтологом Б.А.Тураевым. Вспоминая о встречах с Тураевым, Рерих позже писал: «Как и многим ученым, Тураеву жилось нелегко, но эти трудности тонули в океане научного энтузиазма. Именно энтузиазм познавания удержал Тураева на высокой бесспорной стезе исследователя».
Археология была областью, в которой энтузиазм Николая Константиновича тоже никогда не иссякал. Как в свое время академия и университет, так теперь живопись и служебные обязанности не могли заставить его отказаться от летних выездов на раскопки.
В 1898—1899 годах Рерих в качестве внештатного преподавателя прочитал в Археологическом институте курс лекций на тему «Художественная техника в применении к археологии». В вводной лекции он чуть ли не первым затронул вопрос об отношении искусства к археологии. Примерами из творчества Леонардо да Винчи, Микеланджело, высказываниями Л.Толстого и Д.Рескина Рерих подкреплял свои выводы об органической связи искусства с наукой. Указывая на связь искусства с археологией, Рерих говорил о расширении тематики исторического жанра и ответственности художника перед обществом:
«При современном реальном направлении искусства значение археологии для исторического изображения растет с каждой минутой. Для того чтобы историческая картина производила впечатление, необходимо, чтобы она переносила зрителя в минувшую эпоху; для этого же художнику нельзя выдумывать и фантазировать, надеясь на неподготовленность зрителей, а в самом деле надо изучать древнюю жизнь, как только возможно проникаться ею, пропитываться насквозь».
Годы, когда Рерих начинал свой творческий путь, были для России годами сложнейших процессов преобразования общественного сознания, столкновения полярно противоположных мировоззрений, краха многих надежд и иллюзий. Идеи народничества, вдохновлявшие лучших деятелей русской интеллигенции в течение второй половины уходящего столетия, изживали себя.
Товарищество передвижников, чьи выставки еще недавно воспринимались с восторгом, переживало кризис. Ограниченное понимание реализма внушало робость к живописным открытиям эпохи. Защитник передвижничества В.Стасов встречал каждую новаторскую попытку острой, доходящей до неприкрытого глумления критикой. Она отталкивала от Товарищества многих талантливых людей, в особенности представителей молодого поколения.
В конце девяностых годов в русской художественной среде все яснее стали намечаться два противоборствующих лагеря — верные Стасову передвижники, с одной стороны, и сгруппировавшаяся вокруг Сергея Павловича Дягилева и Александра Бенуа молодежь — с другой. Рериху, как и многим его сверстникам, необходимо было определить свое место в этой борьбе.
Стасов, протежировавший Николаю Константиновичу, хотел видеть его на своей стороне. Летом 1898 года, находясь в Германии, он писал Рериху:
«Декадентский староста», т.е. Дягилев, напечатал в «Петербургской газете» (еще 25 мая, не видели ли Вы?) почти манифест, где рассказывал, что с сих пор начинается поворот в нашем искусстве, которое давно «неудачно», а теперь сделается удачным и хорошим, и известным всей Европе. Что худо?! Кажись, мне всю осень и зиму придется вести жестокую войну и производить жестокие сражения. Авось и Вы будете участвовать с нами в битвах?»
С письмами аналогичного содержания критик обращался к И.П.Ропету, М.М.Антокольскому и другим. Группа Дягилева и Бенуа грозила превратиться в серьезнейшего противника. Владимир Васильевич не на шутку всполошился и усиленно вербовал союзников.
Отношение Рериха к противоборствующим сторонам не отличалось четкостью. Близость к Стасову, видимо, не мешала Николаю Константиновичу одобрительно смотреть на отход некоторых художников от Товарищества. В его дневнике мы встречаем такую запись: «Архип Иванович за ужином сказал, что на Брюлловском обеде 12-го (декабря 1899г. — П.Б. и В.К.) он примирился с передвижниками... Что это? Зачем? Он говорит, что разочаровался в молодежи. Все были как в воду опущены».
Известие о сближении Куинджи с передвижниками столь взволновало его бывшего ученика, что, придя с ужина, он в три часа ночи садится за дневник, чтобы записать свои мысли. Обостренную реакцию Рериха понять нетрудно. Ведь он сам принадлежал к той молодежи, которую Куинджи только что благословил на поиски нехоженых путей в искусстве.
Вместе с тем Николай Константинович чувствовал, что Куинджи, Суриков, В.Васнецов, Левитан, Нестеров и многие другие имеют все основания дорожить и гордиться своей настоящей или прошлой принадлежностью к передвижникам. Именно от них они переняли реалистические традиции и веру в высокое гражданское назначение искусства. Эти традиции, эта вера были дороги и Рериху. И, как бы его ни интересовали те идеи, которые разделяла группа Дягилева—Бенуа, относиться к ней с полным доверием Николай Константинович не мог.
Впрочем, согласившись стать помощником редактора журнала «Искусство и художественная промышленность», Рерих как будто уже сделал свой выбор. Ведь одним из инициаторов этого издания являлся Стасов, и можно было ожидать, что журнал станет ориентироваться на передвижников и защищать русское искусство от «декадентов», а заодно и всяких новшеств.
В течение 1897—1898 годов Дягилев, Бенуа и их друзья действовали еще более активно, чем Стасов. В январе 1898 года в Петербурге открылась организованная Дягилевым Выставка русских и финляндских художников. Собирая картины для русского отдела, Сергей Павлович оповещал художников, что эта выставка «должна служить объединением разрозненных сил и основанием для создания нового Общества». Говоря о последнем, Дягилев подчеркивал, что оно может преуспеть, лишь «когда будет ярко выражен дух единения и когда будет ясна сила общения единомыслящих».
На выставку дали свои картины К.Коровин, В.Серов, И.Левитан, М.Нестеров, А.Васнецов, К.Сомов, Александр Бенуа, Л.Бакст, М.Врубель и другие.
В.Стасов обрушился на произведения, появившиеся на выставке, в обзорах, опубликованных в начале 1898 года в «Новостях» и «Биржевой газете». Особенно ожесточенным нападкам подверглись в них Врубель, будущие «мирискусники» и все те, кого Владимир Васильевич относил к «декадентам».
Александр Бенуа, вспоминая зарождение «Мира искусства», писал: «Нами руководили не столько соображения «идейного» порядка, сколько что-то вроде практической необходимости. Целому ряду молодых художников некуда было деваться, их или вовсе не принимали на большие выставки — академическую, передвижную и акварельную, или принимали только частично, с браковкой всего того, в чем сами художники видели наиболее явственное выражение своих исканий... И вот почему Врубель у нас оказался рядом с Бакстом, а Сомов рядом с Малявиным. К «непризнанным» присоединились и те из «признанных», которым было не по себе в утвержденных группах. Таким образом, к нам подошли Левитан, Коровин и, к величайшей нашей радости, Серов. Опять-таки идейно — это были последние отпрыски реализма, не лишенные «передвижнической» окраски. Но с нами их связала ненависть ко всему затхлому, установившемуся, омертвевшему».
Выставка 1898 года способствовала организации нового общества и появлению его печатного органа. После небольшой дискуссии между инициаторами общество и журнал решили назвать «Миром искусства». Кроме Дягилева, Бенуа, Сомова, Бакста, Философова, Нувеля, в журнале согласились участвовать Серов, Репин, Левитан, B. и А. Васнецовы, Поленов, Нестеров, Врубель. К финансированию журнала удалось привлечь М.К.Тенишеву и C.Мамонтова.
Осенью 1898 года почти одновременно вышли в свет журналы «Мир искусства» и «Искусство и художественная промышленность», а в январе 1899 года под названием «Международная выставка картин» открылась первая выставка общества «Мир искусства». По сравнению с предыдущей выставкой 1898 года картин в русском отделе выставлено было больше. В нем были представлены Малютин, Малявин, Поленов, Е.Поленова, Трубецкой, Репин, собственно «мирискусники» и другие художники. Обращало на себя внимание усиление группы московских живописцев. Никакого идеологического единства между ними и инициаторами «Мира искусства» не было. Но если положиться на слова Александра Бенуа: «Нами руководили не столько соображения «идейного» порядка, сколько что-то вроде практической необходимости», то присутствие на выставке произведений очень разных, но, безусловно, ярких художников становится понятным.
Однако действительно ли Дягилев, Бенуа, Философов и другие идеологи «Мира искусства» были связаны между собой единством взглядов, допускавших терпимость к инакомыслящим? Принципиальные разногласия, выявившиеся между ближайшими сотрудниками журнала еще до появления его в свет, говорят об обратном.
Когда готовился первый номер журнала, Бенуа находился в Париже, и Нувель писал ему, что у Дягилева и Философова появилось «благоговейное поклонение» перед В.Васнецовым, а о нем как о большом художнике «и разговаривать не стоит», и что такого мнения придерживаются Сомов и Бакст, поэтому их прозвали теперь «иностранцами».
Бенуа отвечал Нувелю, что если «...Дима и Сережа (Философов и Дягилев. — П.Б. и В.К.) поклонились Васнецову, а вы нет, — и в таком случае я, разумеется, с вами...»
Позже, комментируя эту переписку, Александр Бенуа сообщал: «В значительной мере делом рук Философова следует считать первый номер журнала... Это он из смешанных соображений, в которые входили и религиозные и национальные переживания, а также и желание не слишком запугать общество, настоял на том, чтобы половина иллюстраций была отдана произведениям В.Васнецова, хотя весь наш кружок уже давно перестал «верить» в этого художника».
Разногласия между организаторами «Мира искусства» не исчерпывались диаметрально противоположными оценками творчества того или иного художника. Несогласованность по некоторым вопросам заходила так далеко, что даже статья самого Бенуа, посланная им для первого номера из Парижа, была отвергнута возглавляемой Дягилевым редакцией «как несовременная». По признанию автора, в этой статье он «не только не бросал камней в реализм и сюжетность, но, напротив, ратовал за них, выражая возможность их возрождения».
Первые номера журналов «Мир искусства» и «Искусство и художественная промышленность» озадачили многих современников. Враждебно настроенные друг к другу редакции, как бы сговорившись, поместили в них репродукции с картин В.Васнецова. Причем в «Искусстве и художественной промышленности» они шли в сопровождении большой статьи Стасова, а в «Мире искусства» — без всякого сопроводительного текста.
В первых номерах «Мира искусства» всеобщее внимание обратила на себя обширная статья Дягилева «Сложные вопросы», воспринятая как программа и эстетическое кредо новой группировки в целом. Эпиграфом для своей статьи Дягилев взял слова Микеланджело: «Тот, кто идет с другими, никогда не опередит их». Четыре части статьи были озаглавлены: «Наш мнимый упадок», «Вечная борьба», «Поиски красоты» и «Основы художественной оценки».
В первой части Дягилев писал об упадке трех существующих в изобразительном искусстве направлений — классицизме, романтизме и реализме — и отвергал возводимые на своих единомышленников обвинения в декадентстве.
Во второй части автор нападал на «узкоутилитарную тенденциозность», критиковал за нее Писарева, Рескина, Льва Толстого.
Грубые выпады, допущенные Дягилевым против Чернышевского, вызвали понятное возмущение демократически настроенной интеллигенции.
В третьем разделе статьи Дягилев полемизировал с некоторыми теориями красоты в искусстве, в частности со взглядами Рескина, Л.Толстого, Бодлера, Эдгара По, и выдвигал на первое место роль личности творца.
В последней части статьи, также посвященной утверждению индивидуализма, выдвигалось положение о том, что «красота в искусстве есть темперамент, выраженный в образах, причем нам совершенно безразлично, откуда почерпнуты эти образы, так как произведение искусства важно не само по себе, а лишь как выражение личности творца». Наконец, Дягилев затрагивал проблему национального в искусстве и призывал к широкому восприятию общечеловеческой культуры.
Энергичное и запальчивое программное выступление Дягилева вызвало резкие протесты его противников. Впрочем, и ближайших друзей Сергея Павловича не совсем устраивала односторонность некоторых выдвинутых им положений. Опирались они скорее на эмоции и интуицию автора, чем на логически и исторически обоснованные выводы, и местами, как, например, в анализе эстетических взглядов XIX века, явно отдавали дилетантизмом. Всего этого не мог не заметить более эрудированный в вопросах искусства Александр Бенуа, отлично понявший, почему его собственная статья показалась бы «несовременной» рядом с дягилевской.
В дальнейшем на страницах «Мира искусства» появлялось много высказываний, шедших вразрез с теми или иными программами и положениями, декларированными Дягилевым. Да и сам он в своей деятельности не очень-то строго их придерживался.
Тенденция привлекать на выставки не только самое новое, но и самое интересное, что могло предложить отечественное искусство, неизменно брала у Дягилева верх над всеми иными соображениями. Обращаясь к художникам с просьбами о картинах для выставок «Мира искусства», Сергей Павлович никогда не выдвигал условий, связанных со сформулированным им на страницах своего журнала кредо. Вообще все практические шаги Дягилева в организации объединения и выставок «Мира искусства» были продуманнее, тактичнее и шире тех идей, которые содержатся в его статье «Сложные вопросы», и не случайно в нашем искусствоведении преобладает мнение, что настоящим идейным вождем «Мира искусства» был Бенуа, а на долю Дягилева пришлась роль собирателя художественных сил вокруг этого движения.
Безусловно, Дягилев обладал счастливым даром привлекать талантливых и ярких людей, о чем свидетельствует состав участников выставок «Мира искусства». Их организация стала своего рода монополией Сергея Павловича.
Дягилев «вербовал» сторонников во многих областях искусства, так как «мирискусники» хотели распространить свое влияние не только на живопись, графику, но и на литературу, музыку, театр. Молодые и даровитые творцы находили поддержку своим новаторским поискам именно в «Мире искусства» и становились под его знамена.
Как ко всему этому относился Николай Константинович? Мог ли он чувствовать себя абсолютно на месте среди недругов молодого движения в русской художественной жизни?
С одной стороны, статьи Рериха в журнале «Искусство и художественная промышленность» как будто соответствовали взглядам Стасова. Критикуя «мирискусников», Николай Константинович писал: «Если редакция «Мира искусства» считает себя поборницей нового направления, то как объяснить присутствие на выставке произведений рутинно-декадентских, в своем роде старых и шаблонных?.. Подобная неразборчивость устроителей выставки мало хорошего приносит искусству; безвременно одряхлевшее, отжившее декадентство и новое, свежее направление — вовсе не одно и то же».
Однако не в пример Стасову Николай Константинович пользовался термином «декадентство» осторожно и, как бы подчеркивая независимость своего положения в журнале, подписывался псевдонимом «Изгой». В Древней Руси изгоями звали людей, стоящих вне общественных группировок.
Рерих не мог сработаться с редактором Н.Собко. Журнал по сравнению с соперничавшим «Миром искусства» получался пресноватым.
Через какой-нибудь год работы помощником редактора у Николая Константиновича возникают «крамольные» мысли о совершенно новом печатном органе, в котором участвовали бы и сотрудники «Мира искусства». В дневнике Рериха мы читаем: «Это хорошо было бы — подобная уния разрубила бы многие узлы и уравновесила бы многое». О неодобрительном отношении к своему журналу свидетельствует и такая дневниковая запись: «...Попку (Н.Собко. — П.Б. и В.К.) выперли из редакторов. Лучше бы закрыли совсем журнал. Попка сумрачен и еле со мной здоровается».
Мечтая об «унии» с сотрудниками «Мира искусства», Николай Константинович все-таки оговаривается — «со многими». Кто же те «немногие», с кем он предпочитал не сближаться? Судя по дневникам и полемике в печати, это были так называемые «западники».
Сильные западнические тенденции некоторых идеологов «Мира искусства» встретили в России довольно резкий отпор. В частности, Репин, чей альянс с «мирискусниками» продолжался считанные месяцы, в негодующем открытом письме, опубликованном в журнале «Нива» и перепечатанном в 10-м номере «Мира искусства» за 1899 год, отказался от участия в журнале, обвинив лидеров группы в пренебрежении национальными традициями и «пережевывании европейской жвачки». В полемическом пылу Илья Ефимович называет «мирискусников» «чужаками» в России.
Среди «мирискусников» наиболее ревностным рыцарем «европоцентризма» не без оснований считается Александр Бенуа, никогда не скрывавший, что он предпочитает «милую, родную Европу всему чужому!». Видимо, наиболее глубокую и объективную характеристику «западничеству» Бенуа дал близкий «Миру искусства» критик Сергей Маковский:
«Русский духовным обликом своим, страстной привязанностью к России, всем проникновением в русские идеалы и в русскую красоту, Бенуа в то же время не то что далек от исконной, древней, народной России, — напротив, он доказал, что умеет ценить и своеобразие ее художественного склада, и размах чисто национальных порывов сердца и мысли, — не то что он, обрусевший чужак, отравленный своим европейским первородством, но все же смотрит-то он на Россию «оттуда», из прекрасного далека, и любит в ней «странной любовью» отражения чужеземные и бытовые курьезы после петровских веков. Отсюда увлечение его Преобразователем, Пушкинским «Медным всадником», Санкт-Питербурхом и его окрестными парадизами и монплезирами, всей этой до жути романтической иностранщиной нашего императорского периода. Европейство Бенуа не поза, не предвзятая идея, не только обычное российское западничество. Это своего рода страсть души. За всю нашу европейскую историю, пожалуй, не было у нас деятеля, более одержимого этим художественным латинством, этой эстетской чаадаевщиной».
Дискуссии из-за оценок тех или иных явлений русской национальной культуры велись не только между «мирискусниками» и их противниками, но и среди ближайших сотрудников самой группировки. Первое междоусобное публичное сражение произошло по этому вопросу на страницах журнала «Мир искусства» после опубликования в нем статьи Философова «Иванов и Васнецов в оценках Александра Бенуа». Бенуа принял вызов, и полемика между двумя членами редакции зашла очень далеко и затронула многие проблемы, весьма отдаленные от первоначальной темы спора. Но для нас интересна именно последняя.
Дело в том, что в начале 1899 года в Петербурге состоялась выставка произведений В.Васнецова. Она привлекла к себе внимание различных кругов художественной и литературной общественности. Положительно и даже восторженно о художнике отзывались Репин, Рерих, Чехов, Римский-Корсаков, Горький, Шаляпин. Молодой Блок под впечатлением картин Васнецова пишет два стихотворения: «Сирин и Алконост» и «Гамаюн, птица вещая», которое кончается строками:
Предвечным ужасом объят,
Прекрасный лик горит любовью,
Но вечной правдою звучат
Уста запекшиеся кровью.
Историческая правда русского народа, выстраданная много веков тому назад в отчаянных схватках за свободную жизнь на своей земле, мало волновала Бенуа. Поэтому Бенуа считал, что Васнецов весь в далеком прошлом и его искусство не соответствует духу того культурного «возрождения» России, которое диктуется ей временем.
Впоследствии во многом изменятся у Александра Николаевича взгляды на творчество Васнецова и некоторых других русских художников. Но, исправляя одни «ошибки», он будет делать аналогичные же и не только в книгах, так как Европа навсегда останется «духовной Меккой» Бенуа-художника, Бенуа-искусствоведа, Бенуа-человека.
Недоверчивое отношение Николая Константиновича к «Миру искусства» в годы его зарождения в основном и было вызвано «западническими» тенденциями Бенуа и его единомышленников, а не стасовским жупелом «декадентства».
Николай Константинович никогда не поддерживал Стасова в его нападках на Серова, Нестерова и других «перебежчиков» из передвижнического стана, никогда не разделял мнения Стасова о таких европейских художниках, как Пювис де Шаванн, но сходился во взглядах на историю русского народа и его самобытной культуры.
С Александром Бенуа у Рериха обстояло иначе. Если не всегда, то во многих случаях оценки отдельных явлений современной художественной жизни, творчества отдельных мастеров у Рериха и Бенуа совпадали. Но пути постижения философского смысла бытия, а с ним и исторических судеб народов всегда круто расходились.
Из этого не следует, что Николай Константинович не прислушивался к Бенуа-искусствоведу, а последний полностью отвергал бы творчество Рериха. Художник и критик подчас находили общий язык и плодотворно сотрудничали.
|
|