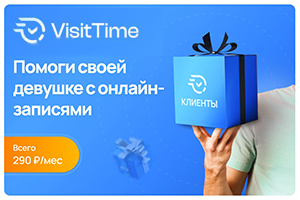Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Глава двенадцатая, содержащая возвращение к Началу, насколько это возможно
|
|
На побережье Эпира, в порту Салора, в полдневные часы рыбаки чинят сети или же вместо того дремлют в тени перевернутой лодки, покуривают трубки и возносят молитвы одному Божеству либо нескольким (по меньшей мере – Аллаху и Деве Марии), дабы избежать любого гнева свыше. Их прародители поступали точно также и возлагали жертвоприношения равными долями на разные Алтари. Однажды к этому побережью, распростертому под голубым куполом, – к побережью, мало отличимому от прочих (Корабли появляются здесь редко, и еще реже ступают на берег те, кто незнаком здешним рыбакам), – причаливает лодка, с которой сходит на берег молодой человек, – он одет по-европейски, однако обращается с приветствием на албанском языке (хотя и запинаясь), а не на языке Неверных. Рыбаки отвечают, но юноша как будто не слышит ничего – он оглядывается по сторонам, словно только очнулся ото Сна и не вполне убежден, вправду ли вокруг него существует осязаемый мир. Зачем он здесь? Он намерен, сообщает юноша – скорее самому себе, для собственных ушей – совершить путешествие на север, в страну жителей Охриды, – ему нужен проводник, два-три спутника, лошади – и рыбаки направляют его туда, где можно об этом сторговаться. Больше юноша не показывается – но едва проходит день, как рыбаков вызывает из праздности новое диво: другой молодой человек, также в европейской одежде, вступает на их забытый берег – и задает вопросы, Ответы на которые рыбакам известны – хотя они и переглядываются в изумлении, – а когда юноша скрывается, немногие христиане в растерянности осеняют себя крестом, словно их посетило сверхъестественное существо.
Первым из этих незнакомцев был, разумеется, наш Али: сюда, на этот полуостров – на землю Эллады – он добрался, полгода спустя, дилижансами – как к последнему месту назначения, определенному Судьбой. Покинув английский берег вследствие своего слишком успешно исполненного долга на поле Чести, он высадился поначалу на побережье Франции, где в стылой комнатке самой захудалой Гостиницы написал письмо Катарине и Уне: он желал довести до сведения Супруги, что оборонял свое имя от клеветы, в суть которой не станет ее посвящать, и к чему это привело; Дочери он хотел передать, что, хотя они и не виделись, его любовь к ней нескончаема и когда-нибудь он снова обнимет ее и поцелует. Далее Али передал мистеру Пайперу все наивозможные Полномочия и» Права, какие только сумел измыслить – не имея под рукой свода Законов, – с тем, чтобы добыть от Банкиров и Посредников средства, необходимые для длительного путешествия, – он уже тогда замыслил отправиться в дальний путь, не зная, когда из него вернется, – если странствия будут ограничены бренным сроком, то, видимо, не затянутся, – так думал Али, поскольку свеча его угасала, а дыхание таяло в воздухе дымком.
Выехав из Франции верхом, он в одиночку миновал Нидерланды и, почти незаметно для себя, оказался на поле Битвы, отмеченном Монументом, а еще более – богатым Урожаем, который был вскормлен разложением тел, столь щедро разбросанных тут не столь давно. Ватерлоо! Я не стану вновь чтить твою память – и того человека (бывшего и чем-то большим, и меньшим, нежели обычный Человек), который швырнул все приобретенное им для Человечества на этот зеленый стол только для того, чтобы добычу выхватили другие Игроки – единственная рискованная Ставка, им проигранная! Али погрузился в размышления, ненадолго оторвавшись от мыслей о собственном уделе ради мыслей об уделе Людского Рода, и ему пришло в голову – это не было продиктовано ни Гордостью, ни Тщеславием, а всего лишь минутной прихотью, – что вся разница между ним и тем великим человеком состоит в том, что он растратил меньшее богатство, но чувство вины от этого испытывает не меньшее. Али не «поразил тысячи» и уж тем более не «десятки тысяч» – он сразил своею рукой одного-единственного человека – однако же nos turba [46], и один или двое из числа смертных – уже множество, и, когда кровь льется потоком, страдания одного, кому они даются по его силам, не уступают страданиям многих – правило умножения здесь не действует, ибо каждый из нас страдает и умирает в одиночку, хотя возрастаем и процветаем мы совместно – спросите у индийского гимнософиста, как это возможно – но это так!
Али покинул поле сражения – пересек Рейн – взошел на Альпы – видел Лавину – стремительный горный поток – Глетчер, – но, поскольку среди этих картин оставался самим собой, не отдаваясь им Душой, то не обрел чаемого спокойствия. Передвигаясь таким образом – то в седле, то на корабле, то пешком, – он добрался наконец до берегов, мной описанных, – до дома: слово, неведомое ему ни на одном языке и ничего не говорившее его сердцу.
Али отправился из Салоры с несколькими сопровождающими – и провел немало дней в седле, ночуя где придется и питаясь чем попало (и то и другое мало его заботило), прежде чем веяние ветерка, клочки облаков, неподатливость почвы пробудили в нем дремавшие до того чувства. Однажды вечером над Али, как если бы небесные мстители преследовали его от прежнего жилища, простерлась громадная серая туча, и он ощутил на заросшем бородою лице ледяное дуновение, пронизывавшее его до костей на Солсберийской равнине. Едва он нашел кое-какое укрытие на старом турецком кладбище, как буря разразилась с невиданной силой – хлестал ливень, а раскаты грома гремели величественно и грозно, словно Господь корил Иова, напоминая тому о его малости и о всемогуществе Создателя. Когда грандиозная вспышка молнии озарила надгробия и когтистые ветви деревьев, Али увидел перед собой (или же так ему почудилось) еще одну, чужую фигуру – не из числа его спутников – фигуру Разбойника или Грабителя, хоть они и не действуют в одиночку – но при следующей вспышке ее и след простыл!
В Янине Али расплатился и распрощался со своим драгоманом и со слугами, снял европейское платье и вместо него облачился в туземное одеяние. Заткнул за широкий кожаный пояс меч, когда-то подаренный ему пашой, – меч, привезенный из Англии, теперь далекой и неосязаемой, будто сновидение. Далее Али пустился в путь один и поднялся с равнины к подножию албанских гор, очутившись в один из вечеров на перевале, откуда открывался вид на Столицу того самого паши, которому он когда-то служил и чей меч носил на поясе. Закатное солнце золотило минареты, недвижный воздух отдавал тленом, каменистая дорога оставалась той же, что и прежде, – но сам город переменился. Владычество паши подошло к концу – и там, где некогда в ожидании его Милостей собирались толпы просителей – где в темных накидках расхаживали турки, доставлявшие послания от султана, – где сновали чернокожие рабы и выступали покрытые попонами кони под мерную дробь огромных Барабанов и выкрики мальчиков с Минарета, – теперь царило безмолвие, внутренние дворы пустовали, и лишь кое-где торчали мнимые калеки, слишком обнищавшие или слишком ленивые, чтобы подыскать себе иное занятие, да ковыляли хромые клячи – и это там, где некогда высоко вскидывали головы и позвякивали упряжью 200 иноходцев паши!
Али недолго задержался там, чтобы поразмыслить над бренностью земного великолепия. Он переменил лошадь, навьючил корзины с поклажей и отправился дальше в одиночестве – к обагренным вершинам за чертой города; по ночам, завернувшись в плащ, спал на земле, если не удавалось выпросить приюта где-нибудь в Сарае или Хлеву; продвигался вперед и вперед, пока, сам не зная, по каким приметам, – не встретив ничего знакомого, ни поворота, ни памятной вершины или разлога, ни поселения, – не почувствовал вдруг, что оказался на родных холмах! Однако это были уж не те холмы – ибо «нельзя вступить в одну и ту же реку дважды»: река уже иная, и мы не те, что прежде. Али тщетно вглядывался в себя, стараясь найти того мальчика, который некогда бродил здесь, под этим небом нарывался на приключения, любил, дрался, ел и спал, – но он пропал бесследно. Взрослый человек – чьи мысли, даже если он обращается к своей душе, звучат по-английски, – обводит взглядом голые камни и безжизненные уступы и думает: как безрадостно все, что меня окружает! – Но с какой неистовой силой притягивают Али родные места! Спускаясь на равнину по склону, образованному потоком и заваленному камнями, Али размышлял: «Там я бродил… Там пас стадо… Там, в давно заброшенной крепости, укрывался от грозы… А там – там…» Но при этом он даже мысленно не называл имени той единственной, которая бродила вместе с ним, однако в груди у него таилось это имя, как во чреве женщины таится Дитя – и точно так же оно росло и крепло.
Али спустился по склону в кедровую рощу, где ожидал (хотя и не мог в том признаться) увидеть источник чистой воды – не тяжелой воды, как говорят албанцы, но легкой: они способны определить воду на вкус с той же тонкостью, с какой знаток распознает различные сорта Кларета. Источник оказался на месте, прикрытый пирамидкой из камней, – приблизившись, Али стал незамеченным свидетелем перепалки мужчин и женщин, стоявших по берегам ручья. Путник уяснил, что пререкания шли вокруг права брать воду: мужчины запрещали женщинам приближаться к источнику, а те возражали – громко и поистине мужественно, так что скорого разрешения Спора не предвиделось; но тут появился Юноша – лицо его, во всяком случае, было еще безбородым – с длинным ружьем и пистолетом, заткнутым за пояс. Али заметил, что женщины приободрились, а мужчины растерялись – кратким словом и взмахом руки юноша прекратил Дебаты; мужчины (не без сердитых выкриков и воинственных жестов) удалились, позволив женщинам наполнять кувшины. Юноша стоял поодаль, словно наблюдая за ними, – ружье он вскинул на плечо, придерживая приклад ладонью, как обычно поступают с длинноствольным оружием албанцы.
Когда женщины, водрузив кувшины на головы, отправились по тропе восвояси, Али двинулся к юноше – тот обратился к незнакомцу с приветствием – и Али утратил дар речи.
Красота присуща не одному лишь прекрасному полу – исход спора в пользу женщины не был бы предрешен, выступи судьей некий Тиресий, обладающий богатым опытом и наметанным глазом. Но вот смешение двух родов красоты встречается редко – причем красоту оно не приумножает, а губит, как мужскую, так и женскую – последнюю в особенности. Щекотливый, бесспорно, вопрос, но Али им не задавался: с первого взгляда он понял, что перед ним стоит девушка – причем красавица – и такая, что его сразила немота и слова приветствия замерли на устах. Девушка, нимало не смущенная, отстранила ружье и дружески протянула Али правую руку, как сделал бы всякий мужчина при встрече с незнакомцем – открыто и спокойно, окидывая его хладнокровным изучающим взглядом – тем самым, какой старались усвоить все мальчики и все Юноши, которых Али знавал на службе у старого паши. И все же она, как и Али, замолчала, когда он подошел к ней вплотную, – молчание ее было вопрошающим – хотя и по иной причине, нежели у Али.
«Странник, я тебя знаю?» – спросила наконец Дева-Юноша голосом, приглушенным от догадки, о которой Али и не подозревал.
«Думаю, что нет, – ответил Али. – Хотя в давние годы я жил здесь, но долгое время отсутствовал, и человек, которого ты перед собой видишь, совсем не тот, кем я был тогда».
«Да-да! – подхватила она. – Не тот человек – и я тоже не была прежде той, кого ты перед собой видишь. Назови мне свое имя».
«Меня зовут Али».
«Что ж, тогда, – произнесла девушка и села, словно не могла устоять и ноги ее подкосились. – Тогда я не стану называть себя – нет, не стану!»
Ей и не нужно было называть своего имени, которое ты, Читатель, угадал страницей-другой раньше, – Али отстал от тебя в сообразительности, поскольку не знал (да и не мог знать), какого рода повести стал персонажем, но что тебе наверняка известно! Однако догадка забрезжила у Али в сознании – он тоже опустился рядом с женщиной-воином, устремил взгляд на нее – и не в силах был вымолвить ни слова.
Согласно утверждениям – или предположениям – древних авторов, легендарные Амазонки обитали в краях, именуемых ныне Албанией, и старик Эвгемер, случись ему разбирать этот вопрос, предположил бы, что рассказы о воинственных женщинах, восходящие, насколько мне известно, к Гесиоду, возникли на основе здешних обычаев. Коль скоро у этого сурового народа все не черное считается белым, а все не женское – мужским, Женщина во всем подвластна Мужчине: при необходимости она – вьючное животное, а при рождении – Товар, продаваемый будущему мужу, едва только ее отлучат от груди, за столько-то «пара» – мелких монет наличными, остаток же уплачивается с передачей из рук в руки по достижении девушкой подходящего возраста. (Некогда на столь же холодном расчете основывались браки Царственных Особ: возможно, так продолжается и теперь – хотя у британских монархов взаимная симпатия и перевешивала все прочие соображения.) Брачные узы, заключенные в пеленках, не могут быть расторгнуты по достижении совершеннолетия: отвергнутая Супруга или Супруг пятнают честь семьи, и оскорбление должно быть смыто кровью. И все же (молю читателя о терпении – суть моей Проповеди прояснится, а тем временем Али и девушка в мужском одеянии так и взирают друг на друга в изумлении) – могло случиться так, что девушка по достижении брачного возраста отказывалась выйти замуж за уготованного ей мужа. Если она выказывала непреклонную решимость и храбро противилась любому нажиму, пренебрегая даже угрозами для жизни, ее порой прощали – но с одним непременным условием: отрекшись от суженого и от готового принять ее дома, упомянутого в договоре, она перед Советом Старейшин давала торжественную клятву, что не вступит в союз никогда и ни с кем! Теперь – навеки оставаясь незамужней, никому не подчиненной и независимой – она не вправе считаться женщиной и должна сделаться Мужчиной – поскольку быть никем ей нельзя. Ее одежда, повадка, оружие, обязанности, которые она выполняет (или от которых уклоняется), лошадь – все должно стать мужским: для всякого глаза она обязана следовать мужской природе – и горе той, кто об этом забудет! – за ее жизнью ревниво следит не один дом, а два – да и сама Дева не безоружна!
В памяти Али вдруг всплыл этот диковинный устой жизни: ему вспомнилась старуха, которую он знал ребенком, – жившая одиноко, без мужа, точно Монахиня, – и он понял не только что за девушка перед ним, но и кто она такая.
«Иман! – выдохнул он. – Это ты!»
Тут Иман отворачивается, словно устыдившись, что Али застал ее в таком виде, – хотя наедине с собой она была воплощением горделивого довольства и взирала на мир, словно он ей принадлежал. Но тотчас Иман вскидывает голову и взглядывает на Али – она первой распознала его, товарища детских лет, – и смеется – так он переменился – Али смеется в ответ – и говорит, что в сердце и мыслях у него она по-прежнему Дитя – точно такая, какой он видел ее в последний раз, – Иман отвечает тем же – теперь им необходимо подольше всмотреться в глаза и губы, руки и волосы – в облик, знакомый издавна, и в облик новый, доселе незнакомый, – язык им не повинуется, хотя сказать нужно многое. Наконец Иман робким и нежным движением – теперь от ее мужественности не осталось и следа – заворачивает свободно висящий рукав Али, чтобы увидеть давний памятный знак. Потом закатывает и свой рукав: у нее на руке точно такая же отметка, изображенная ею самой словно бы наугад, по памяти, кое-как – но точно такая же. И тогда годы, их разделившие, исчезают, будто их и не было вовсе, и оба становятся теми, кем были, – единой душой на два существа, без препон и преград! Однако, когда Али тянется к руке, которую прежде почти не выпускал из своей, Иман отстраняется, словно почуяв опасность.
«Расскажи, – просит Али, – жив ли наш престарелый дедушка? Расскажи мне, что с тобой происходило, почему ты стала такой. Разве некому было тебя опекать?»
«Дедушка умер, – отвечает Иман. – Умер давно – я покажу тебе, где он лежит. Он не переставал горевать по тебе. Пока он не умер, мне позволялось жить одной и ухаживать за ним, но потом старейшины задумали выдать меня замуж – за старого Вдовца, нуждавшегося в Служанке, – а я отказалась».
Отведенная в жилище Вдовца, Иман отвергла его притязания – боролась с ним свирепее тигра (уж Али-то знал, как) – и при малейшей возможности убежала на Пустошь, не думая, останется жива или нет. Пойманная соплеменниками, она в яростной решимости сражалась и с ними: клялась, что, если ее вернут к назначенному fiancé [47], она убежит снова, или ночью перережет ему горло, или наделает еще много дел – каких именно, в точности она и сама не знала, но только они станут «ужасом земли». Во избежание побега Иман связали кожаными ремнями, однако она перегрызла узы и убежала вновь – была снова схвачена – и тогда, не заручившись ничьей поддержкой, потребовала разрешения принести обет Целомудрия – тот самый, что предусмотрен законами.
«Ты настолько ненавидела этого старика, что пожертвовала всем, лишь бы избавиться от его притязаний?» – спросил Али – Иман же ответила, что не питала ненависти к нему – ни к другим мужчинам – нет-нет – причиной тому была не ненависть, – тут она опустила глаза и натянула капюшон пониже, чтобы он не увидел ее лица.
Так она не любила ни разу? Прожила все эти годы – Весну своей жизни – в отречении от мира, подобно монахине? Неужели ни один Юноша из числа тех, кто сторожит стада, или разъезжает верхом на службе у паши, или охотится на Кабана, не заставил ее сожалеть о своем поступке, о сделанном ею выборе? «Что ты, о каком выборе? – воскликнула Иман. – Выбор у меня был невелик – либо жить с нелюбимым, либо умереть. Я решила не умирать – вот и все – и вот…» Она вскинула голову, и на губах у нее заиграла улыбка, а в глазах вспыхнули огоньки: «И вот, я разъезжаю верхом, я охочусь, я имею слово в Совете. Разве этого мало? Больше любви – или нет? Скажи мне».
«Немногое известно мне о любви, – отвечал Али, – разве что ее цена – не знаю, что можно взять за нее взамен. Иман! Теперь, когда я нашел тебя – а ты меня, – я вижу, что ты потеряна для меня столь же безвозвратно, как если бы я и не возвращался из той проклятой страны, куда меня отвезли!»
Иман молчала – она выпрямилась, побудив и Али встать с места. Проникновенная нежность выразилась в ее чертах, а глаза, устремленные на него, наполнила неизбывная печаль: этот взгляд – было единственное, что в ней нисколько не переменилось. «Пойдем, – произнесла она. – Я отведу тебя в Совет, и мои собратья радушно тебя примут: ведь ты почитался мертвым – и вот вернулся. Не спрашивай больше ни о чем!»
Молчанием встретили возвращение Блудного Сына суровые Пастухи: когда Али объявил свое имя, большинство из них не выразило никакой радости – но и неодобрения тоже – один без улыбки протянул ему руку – другой с любопытством осмотрел его лошадь, поклажу (что там внутри?) и попросил показать меч, знак былой милости прежнего паши, – а третий отвернулся, не ответив на Приветствие – по той же самой причине: Али (как он слышал) состоял в воинстве у паши, который истребил весь его род. Али попытался описать им свои похождения среди Неверных, но они мало что поняли из рассказа – посмеялись, сочтя все шуткой или блажью, – скоро им наскучило нагромождение небылиц, в которых они Али заподозрили, – и на том он с ними расстался. Тем не менее права Али в Совете никто не оспаривал – ему подыскали кров и (когда ладони его загрубеют) обещали найти работу.
С Иман, конечно же, дело обстояло иначе – с ней он словно бы открыл книгу, давным-давно захлопнутую и закрытую на застежки, – книгу времен ранней юности; иные страницы он забыл или превратно запомнил – иные до сих пор знал наизусть. Али с Иман, как бывало прежде, лежали рядом в тенистой долине, вслушиваясь в сонное полуденное безмолвие – и припоминали, какие чувства переживали тогда, не умея их назвать. Али ощущал, как в душе у него пробиваются давно заглохшие прозрачно-чистые ручьи. Теперь-то он знал, как их назвать, – и знал, куда некогда они готовы были устремиться, – знала об этом и Иман – но теперь обоюдное целомудрие береглось данным ею обетом, как прежде – детской Невинностью: их наполнял прежний восторг, не находивший выхода. Рука Иман касалась руки Али – и тут же отдергивалась – она отводила глаза – сохраняя на лице улыбку, – Али вздыхал и отворачивался – они должны были избегать уединения – и оба понимали это.
Едва лишь обнаружилось (и довольно скоро), что Али не желал ничего другого, как только быть возле Иман, – что переменилась и она – и не желала ничего другого, как только будить его по утрам, скакать верхом рядом с ним в полдень и вместе с ним веселиться по вечерам, как настроения среди соплеменников начали омрачаться. Вспомнились рассказы о том, как в детстве они были неразлучны, – у Источника и близ Очага за ними следили столь же пристально и подозрительно, что и за парочкой в шелках и бархате, шушукающейся на лондонских или батских Балах-маскарадах, – и даже куда придирчивей, поскольку здешние последствия могли оказаться еще более роковыми, а расплата гораздо суровей: тут каждый заранее видел себя Палачом – рука бралась за оружие с той же легкостью, что и губы раздвигались в улыбке. Однако у наций, именуемых цивилизованными, виселица карает совместное прегрешение только тех, кто на самом деле принадлежит к одному полу, независимо от одежды и внешнего убранства – здесь же властвует Закон иной. В этом исхоженном вдоль и поперек безлесном краю среди множества удобных местечек нельзя найти ни одного, где влюбленным удалось бы избежать недреманного Ока, – стоило Иман и Али уединиться, дабы излить друг другу сердце, спустя час-другой словно бы невзначай вблизи появлялся наблюдатель, проходивший мимо с напускным равнодушием и все же бравший на заметку малейшие подробности сомнительного свидания. Вскоре это сделалось для них невыносимым – они, составляя друг для друга целый мир, не в силах были избавиться от мирского глаза!
«Что же, тогда я уйду, – заявил наконец Али. – На тебя я навлекаю одну только опасность. Лучше, если мы расстанемся – будем, как прежде, в разлуке! – лишь бы ты не погибла из-за меня».
«И уходи! – вскричала Иман, вскочив на ноги. – Нашел меня – а теперь оставь! Но знай, для меня это равносильно смерти!»
«Для меня тоже – но ты живи – будь, чем была, – отпусти меня и прости!»
«Ты боишься смерти? Я – нет!» С этими словами Иман выхватила из-за пояса пистолет – готовая (в чем Али не сомневался) покончить сначала с ним, а потом с собой – абсолютистка, подобно всем ее соплеменникам! Однако она позволила Али мягко отнять у нее оружие – и, будто девочка, расплакалась у него на груди.
«Иман! – заговорил снова Али. – Если ты бросаешь вызов смерти – крепче держись за жизнь – для этого потребна не меньшая Отвага, – зато и награда, коль ее завоюешь, – куда щедрее мрака и погребального Костра».
«На что дерзнешь ты – дерзну и я, – воскликнула Иман, и ее темные глаза зажглись тигриной отвагой и решимостью. – Можешь на меня положиться!»
«Я всегда был в тебе уверен, – отвечал Али, – и всегда буду. А теперь вперед!»
Так обстояло дело, когда Али открыто объявил о своем желании обратиться к Совету Старейшин клана, который разрешал важные споры и выносил суждения по всем вопросам. На обращение Али ответили не сразу, но, после некоторых колебаний, согласились его рассмотреть – и спустя какое-то время, по прибытии из дальних сторон важных представителей, Совет должным образом был созван. В собрании вскоре воцарилась надлежащая Торжественность – и после того, как в сосредоточенном молчании было выкурено по трубке, Али дали слово. Али начал с самых восторженных похвал присутствующим, какие только смог восстановить в памяти на родном языке, а затем принес Их Превосходительствам нижайшие извинения за то, что не предстал перед ними раньше, дабы выказать свое послушание, – речь его была выслушана с полнейшей невозмутимостью, приличествующей особам с чувством собственного достоинства. Далее Али предложил устроить в честь своего прибытия праздник – столь громкое заявление вызвало у некоторых слушателей смешки – или скорее в честь своего возвращения домой, к своему народу, чтобы уж никогда более не пускаться в скитания (тут он, окинув взглядом всех присутствующих, задержался на Иман, которая сохраняла полную серьезность). Для пиршества, сказал Али, будет доставлено все необходимое, причем полностью за его Счет: это замечание было встречено одобрительно, и собравшиеся, один за другим, выразили свое согласие. Расходясь, старейшины благосклонно кивали Али и улыбались; для пиршества был назначен благоприятный день, хотя в это время года все дни выглядели одинаково благоприятными; снова – в знак полного единодушия – раскурили трубки и несколько раз выстрелили в безоблачно-голубое небо.
Обычно считается, что наши порочные пристрастия несхожи с пристрастиями Мусульман: приверженцы ислама избегают крепких напитков, предпочитая трубку и Мальчиков, тогда как мы неравнодушны к бутылке и Девицам – но это мнение справедливо только отчасти. Во владениях Султана и в краях Правоверных есть немало стран и народов – и хотя в пределах Албании выпивка встречается не повсеместно, обитатели этой земли называют себя самыми отъявленными бражниками из всех последователей Пророка и способны осушать емкости ловчее многих – пока не покажется дно бочки. Али пришлось пуститься на поиски – хотя и недолгие, – чтобы запастись достаточным для затеянного Праздника количеством бурдюков с вином и сосудов с ракией: так албанцы называют местный Бренди. Пиршество по необходимости устраивалось alfresco[48], поскольку для всей общины нельзя было найти достаточно просторного помещения, да к тому же на открытом воздухе удобнее стрелять из ружей: там пороха не жалели. Приглашены были все – за исключением тех, кто состоял в кровной вражде, – то есть все, кто в эти недолгие часы готов бьш поклясться, что будет палить только в воздух: под «всеми» подразумевались, естественно, мужчины, в число которых входила и Иман.
«Не пей ничего – делай только вид, – мимоходом, словно невзначай, шепнул Али Иман. – Я тоже не стану. Будь готова, когда я подам сигнал!» Иман не ответила – как и подобает Воину, который и без слов дает понять Собрату по оружию, что согласен со всем, – никогда еще Иман не представлялась Али столь схожею с отважным и неустрашимым мужчиной – он тайком улыбнулся при мысли о том, как на самом деле обстоит дело и как странно устроен мир.
Празднество началось на закате – запылал огромный костер, Старейшин препроводили к почетным местам (всего лишь коврам, наброшенным на камни), Музыканты принялись за пронзительно-надрывные мелодии, невообразимые для тех, кому не довелось их слышать, и незабываемые для всех прочих. На вертеле еще с полудня жарился целиком козленок, начиненный Рисом с Изюмом; теперь его разделили на части – их охотно поедали с плоских Лепешек, служивших тарелками, – мехи с Вином проворно передавались из рук в руки. Выпивка возымела немедленный эффект: веселье сделалось безудержным – громкие голоса затянули Песню, если ее можно так назвать, – грянули выстрелы – ружья заряжали снова – и вновь гремели выстрелы. Когда сгустилась тьма и искры, взмывая, растворялись в черноте, затеяли пляску – как приступают к поучениям на квакерских собраниях – Дух (а в ином случае Спиртной Дух) неудержимо побуждает и к тому и к другому. Первыми выступили гибкие подростки, змеевидной лентой пронесясь через сборище: движения были томными, а лица одновременно и горделивыми, и бесстрастными – истолковать их было трудно, – пляска ускорялась по воле дудок и барабана, и скоро к танцорам, вскочив, присоединились и другие.
За всем этим Иман постепенно передвинулась, не вызвав ни малейшего недоумения (смеясь с сотрапезниками и поднимая чашу, ни разу не опустошенную), к самому краю пирующих, как ей и подобало согласно обычаю – хотя она и считалась мужчиной, – дабы под влиянием Бахуса ее не задел обидчик. Там она приметила, где стоит быстроногий скакун, принадлежавший Али, – оседланный и с готовой поклажей, – а также где находятся кони гостей, по статям значительно ему уступавшие.
И вот выпивка льется рекой – полноводнее, чем реки в тех краях: свободно и с избытком – уже и самые стойкие забулдыги еле держатся на ногах – кое-кто из старших уже погрузился в Забытье, – но прочие, поддавшись демонической власти вина, продолжают самозабвенный танец. Юноши кружатся в бешеном вихре, иные задирают рубашки до коричневых сосков – чтобы исполнить clause du ventre[49]. Какой-то седовласый гуляка, с пеной на бороде, настолько распалился, что ринулся к юношам с предосудительным намерением, не в состоянии только решить, кого из них хватать, – те со смехом увертываются от сатира, и тот падает на колени. Вскоре тех, кто не кружится в танце, сваливает сон или терзает рвота; даже танцоры начинают падать на землю один за другим, будто кегли, – и в поднявшейся суматохе, которая отвлекла всеобщее внимание, Али подает Иман знак.
Поодиночке они выскальзывают из круга пирующих – никем не замеченные – уводят лошадей – подальше от отблесков угасающего костра – там, схватившись за руки, переводят дух, вскакивают в седла – и бесшумно скрываются – исчезают, словно призраки при первом ударе утреннего колокола!
Итак, повесть окончена: любовь и отвага – единение душ – быстроногие скакуны – рассказано обо всем. Куда направятся влюбленные – как будут жить – как любить – вопреки козням света – как состарятся и, однако, останутся прежними – все это, согласно общепринятым правилам, описывать незачем. Но если наша повесть похожа на жизнь – что, надеюсь, хотя бы отчасти правда (впрочем, возможно, в ней больше занимательных перипетий и меньше сомнений, не воплощенных стремлений, долгих часов Скуки и проч., и проч.), – тогда она сходствует с жизнью по крайней мере в одном отношении, а именно: ничем не заканчивается, ибо такова особенность Жизни, которая начинает (или продолжает) новую историю, как раз когда завершается прежняя – подобно тому, как волна набегает на волну и одна сменяется другой.
Посему вглядитесь в оголенные взгорья над Морем, где странный путник ведет за собой усталую лошадь, – он поминутно останавливается, прислушиваясь, не донесется ли до ушей нечто с безлюдных холмов – помимо орлиных криков или стенаний ветра, – но ничего такого не слышит – и потому продолжает свой путь. Он отлично знает, кого ищет: он незамеченным следовал за ними по пятам – и немного отстал из опасения, что его обнаружат, а потому сбился со следа, однако не сомневается, что где-то поблизости, в какой-нибудь скальной Пещере, укрылись те, за кем он гонится, – точно так же поступил бы и он на их месте. И сейчас, обогнув острый выступ громадной желтой плиты, он видит то, что с уверенностью уловил слухом: возле устья темной пещеры стоит лошадь, истомленная, как и его собственная, и там, в жаркой тени того самого камня, подальше от глаз, он опускается на землю – словно готовясь нести стражу или дожидаться появления беглецов, чтобы их схватить (сказать трудно), – но, недвижный и безмолвный, он все же не может подслушать идущий внутри пещеры разговор.
О чем же говорит эта усталая пара, что свершила столь дальний побег и все еще не избегла опасности, – о чем говорят они, лежа рядом на холодном полу Пещеры и держа друг друга за руки? Почему девушка плачет – теперь, после того, как столько миль она наравне с любимым, без единой жалобы делила все трудности?
«Не могу ответить, почему, – шепчет она Али, в ответ на его настойчивые расспросы. – Не спрашивай больше».
«Мы сделали что-то дурное? Нет, ничего».
«Дурного мы не сделали – это так».
«Ты хотела бы, чтобы я не возвращался – чтобы все шло заведенным порядком – а я ничего не испортил?»
Иман не ответила на это, но поднялась с места, отошла от Али и села поодаль – опустив глаза, захватила с серой земли пригоршню праха – той субстанции, которую мы именуем Прародителем и последним Уделом, – и рассеянно пропустила пыль сквозь пальцы. «Не знаю, – проговорила она, – что для меня большее горе: то, что ты был оторван от меня, когда мы были детьми, – или что мы сейчас вместе».
«Что такое ты говоришь? Разве я не старался сделать все возможное, чтобы ты стала моей по достижении совершеннолетия? Когда меня увез всадник паши, я слышал твои крики – и мое сердце надрывалось от плача – так зачем ты говоришь такие слова?»
«Мой Али! – Иман подняла взгляд, полный волнения и сострадания. – Есть то, о чем ты не подозреваешь, – роковое знание – суть его дошла до меня, когда я жила одна, – ты обрел бы его и сам, не будь твои мысли заняты другим, – об этом давно забыли, но я докопалась, что к чему, и теперь мне никак не выбросить это из головы».
«Скажи», – потребовал Али, хотя в глазах Иман прочитал, что лучше этого не делать.
«Знаешь ли ты, мой самый дорогой и единственный, как мы с тобой оказались в этих краях, среди этого народа?»
«О себе, – отозвался Али, – теперь я знаю. Раньше не знал. Знаю, что мой отец – англичанин, он силой взял жену бея, главы племени, и зачал меня. Бей убил мою мать, а меня отослали прочь».
«Это так, – кивнула Иман. – И меня вместе с тобой – туда же, куда и тебя, – жить там, где жил ты. Али! Эта несчастная женщина, твоя мать, родила не одного ребенка! Я ее дочь, как ты – ее сын!»
Темноту пещеры рассеивает только один источник света: через отверстие в дальней стене проникает узкий солнечный Луч; он медленно прополз по шершавым стенам и теперь прямо уперся в недвижно и порознь сидящую пару; быть может, Али знал о том, что сказала ему Иман, – с давних слов престарелого Пастуха – и, хотя отказался тогда вникнуть в их смысл, наверное, все же понял до конца – так что ставшее известным только сейчас было ведомо ему всегда.
«Скажи мне, какой грех страшнее, – произнес Али, – нарушить обет Целомудрия и разделить ложе с любым мужчиной – или с родным братом?»
«Оба неискупимы. Если совершить один, какое значение имеет другой?»
«Тогда обними меня – раз ты бежала со мной».
«Нами завладеет Иблис, не иначе».
«Мне все равно, лишь бы с тобою вместе».
«И мне!»
Любовь может притязать на многое – хотя и не имеет полных прав на все – так твердо заявлено в моей Повести, дающей тому образцовые примеры – и вот последний. На ту любовь, ради которой наши герои готовы были пожертвовать целым миром, этим самым миром наложен запрет – ибо, в силу обстоятельств предписанная детям Адама, она была затем строго воспрещена детям их детей – а почему, спрашивать незачем, ибо этот запрет начертан на составе Мироздания и в нашей смертной природе точно так же, как Десять Заповедей были запечатлены на Скрижалях, – таково предписание свыше – и таковым оно должно оставаться навеки; и Мойры (в обличье мужчин и женщин, вооруженных перьями острее мечей и судебными Кодексами, разящими как пули) не успокоятся до тех пор, пока всякий прецедент не будет вычеркнут из памяти бесследно, словно небыль. Vide [50]: к пещере, окрестности которой странный Сторож (помянутый выше) незаметно покинул, движется врассыпную через холмы ватага всадников, хорошо вооруженных: они воспламенены Гневом и Возмущением, охвачены жаждой Мести; они без устали шли по еле уловимому следу грешников – и наконец почти их настигли. Тем, кто внутри пещеры, становится известно об их присутствии только из-за выстрелов в воздух, которыми обмениваются преследователи, давая друг другу знать о своем продвижении (сами они не подозревали, что добыча совсем рядом), – Али и Иман взбираются вдвоем на одну лошадь: вторая, на которой скакала Иман, совсем выдохлась, и ее пришлось бросить. Начальным их намерением было добраться до Побережья, а оттуда к причалу, где Али сошел по возвращении с корабля, – однако Преследователи (а их немало) отрезали намеченный путь, и теперь они должны уклониться в сторону, хотя и придерживаясь прежней Цели. Али без устали шпорит коня, Иман крепко его обнимает, прижавшись к плечу щекой, – день и ночь, с редкими привалами – им удается ускользнуть от погони! Ведь Мойры отнюдь не всемогущи – или же время от времени меняют свои решения и отпускают пойманную душу на волю – так порой поступает Удильщик – не из необходимости, но по прихоти – ему довольно сознанья Власти: казнить или миловать, дарить жизнь или ее отнимать.
Итак, впереди показалось Море, но вблизи нет ни одного людского жилища; голубой простор широк: это – и путь к свободе, и последнее препятствие. И – хотя я только что утверждал обратное – один-единственный выносливый соплеменник беглецов не отстал вместе с прочими, не отказался от преследования и не повернул обратно: он, незаметный как тень, прокрался – неутомимо – бесшумнее кошки – и теперь, когда изнеможенные Али и Иман стоят на берегу в растерянности, прижавшись друг к дружке, он через густую траву подползает все ближе и ближе.
«Али», – шепчет Иман, прильнув к его плечу, – и это слово, которое она бы и выбрала, окажись перед нею выбор, становится последним: проклятый одиночка, распираемый беспредельной Добродетелью, выпрямился, на расстоянии нескольких ярдов укрепил в песке подставку для Мушкета и прицелился – Али ничего не замечает, пока тело его возлюбленной внезапно не сотрясается у него в объятиях, словно от страшного удара, нанесенного невидимым врагом, – и только затем он слышит грохот выстрела, последовавшего за вспышкой. Бывает, что свод рассыпается на глазах, если вынуть из него замковый камень, – сторожевая башня в гавани мгновенно рушится и исчезает в волнах, размывших ее основание, – стая голубей одновременно разворачивается в воздухе, чтобы опуститься на землю, – так и Али в этот миг осознал, что всякая надежда, ценность всей жизни, все богатство, дарованное или обещанное ему Небом, отняты у него навсегда – да и не были ничем иным, как ловушкой! Он выпустил из рук безжизненное тело девушки, не в силах его удержать – бережно, как только мог, уложил ее на землю – и увидел на дюне ее Убийцу, который с полнейшим хладнокровием готовился произвести новый выстрел – дело было еще не доведено до конца! Али делает шаг навстречу, раскинув руки в знак того, что не вооружен, и ждет предназначенного ему выстрела – ждет с нетерпением – стрелок уже целится – но вдруг оборачивается, заслышав позади, у гребня дюны, какой-то шорох. Что же он видит? Убийца хватает мушкет и, повернувшись к Али спиной, направляет его на того самого одинокого Соглядатая, которого мы уже заметили раньше – но только не разгадали. Это он! Его лошадь с величайшим упорством взбирается по неверному песку, вот он уже приблизился вплотную к ошеломленному Убийце – в руке его длинный Пистолет, который он, ни секунды не мешкая, разряжает прямо в лицо недругу, и тот кувырком скатывается вниз по склону – сраженный наповал!
Все это Али наблюдает недвижно – не шевельнувшись, видит, как всадник спускается к нему по склону, и замечает в его облике что-то знакомое – не сходство с другими мужчинами – но образ, который Али известен, который постоянно носился в его воображении, – если только перед ним не новоявленный Призрак, возникший вопреки яви, где на песке простерт мертвый албанец, а загнанная лошадь храпит от усталости. Как начинают бурлить от нагрева вода или масло, так и внутри Али медленно вскипают чувства, он выхватывает наконец из-за пояса свой меч и бросается навстречу близящемуся всаднику, рывком стаскивает его из седла, швыряет со сверхъестественной силой на гальку и упирает острие меча в горло Чужака – теперь уже переставшего быть Незнакомцем.
«Погоди, что ты делаешь? – довольно спокойно спрашивает поверженный именно тем голосом, какого и ожидал Али. – Не я ли сразил твоего врага – и вот моя награда?»
«Во имя неба, скажи мне, кто ты – и почему преследуешь меня по всему свету?»
«Скажи, что меня не знаешь, – отвечает поверженный. – Отвергни меня, если можешь».
«Если я тебя и знаю, – говорит Али, – то лишь как Тень, от которой не могу отделаться, а она выслеживает меня, ненавидит, ищет моей погибели и сейчас спасла мне жизнь – когда худшего зла мне нельзя было причинить! Я не знаю тебя!»
«Я лорд Сэйн», – произносит поверженный.
«Не смей надо мной смеяться! – восклицает Али. – Я видел его мертвым. Ты – не он».
«Не он – но его наследник».
«Что? Его наследник! У тебя есть на это права? Предъяви их – и получишь все! Не стану же я цепляться за имя?»
«Вложи меч в ножны. Смерти моей ты не хочешь. Говорю тебе, что я – лорд Сэйн: ибо я его сын, твой брат – старший брат!»
При этих словах – неведомо как и почему – Али уверился, что он услышал чистую Правду – и встретился глазами с глазами брата. И все же не дрогнул, не смягчился – по-прежнему упирая острие меча в горло противника.
«Позволь мне встать, – сказал этот противник, его брат. – Предстоит совершить печальный обряд. Я помогу тебе, если ты примешь мою помощь. Потом я изложу свою историю. Тебе она может сослужить службу, а если нет – расправься со мной по окончании рассказа, как то было определено Шахразаде, хотя моя история – совсем не сказка».
Али в отчаянии выпрямился – и отбросил меч на песок. Да, это правда – он вовсе не желал смерти незнакомца. Безумец перед ним или одержимый злым духом, говорит он правду или нет – Али не заботило – ничто на свете его не трогало, кроме мысли о недвижном теле, лежавшем на камнях; руки и ноги Иман были бессильно раскинуты; угасшее лицо застыло и побледнело. Али почувствовал, как из него самого уходит жизненная сила, колени его подкосились – и он упал рядом с сестрою, положив голову на коченеющую грудь. Узел, туго-натуго стянувший его дух, – узел, завязанный его отцом в начале жизненного пути, казалось, теперь вот-вот его задушит, прервет дыхание – ничего другого Али не желал! – и отцветшее, изнуренное сердце разорвется наконец.
«Взгляни, – проговорил его враг или друг, – видишь вон там, на Берегу, сухой валежник и остов брошенного судна – колючий Терн – давай сложим все это для погребального Костра. Разве это не обычай твоих сородичей?» Али ничего не ответил, однако поднялся с земли. «Идем, – продолжал тот, – пока еще светло, а молва не достигла людских жилищ. Острый меч тебе пригодится – сруби вон тот терновник, возложим его на костер!»
Али проделал все это – по-прежнему не проронив ни слова. Оба работали до конца дня, пока не соорудили для Иман ложе; Али завернул ее в длинный мужской плащ с капюшоном, который она носила, именуясь мужчиной, – а затем и в свой собственный, плотнее укутав лицо и руки, поскольку не в силах был смотреть на то, как их будет пожирать огонь. Вокруг одра они раскидали обломки Плавника, в изобилии выброшенные на берег, и ветки терновника, срубленные Али. Они трудились бок о бок, нагромоздив высокое ложе – с тем, чтобы пламя занялось быстро и костер скоро прогорел. Далее спутник Али извлек из своего вьюка трутницу и с помощью сучьев и морских водорослей разжег огонь, который Али не позволил ему поднести к погребальному костру, – этот долг исполнил он сам, с протяжным стоном – лишь так он был способен отдать дань скорби – да, сердце его было разбито, хотя сам он об этом и не знал: ведь он сохранил жизнь, зрение, свободу – но, вопреки утверждениям Поэтов, наши Горести не разрывают сердца на клочки, и те продолжают биться, даже разбитые и без надежды на исцеление.
С вечера до полуночи оба простояли на песке, иногда опускаясь на колени. Высокое пламя завидели в ближней деревушке, и несколько смельчаков подобрались ночью посмотреть, в чем дело, – увидев подле костра две фигуры, они удалились в благоговейном страхе, спасаясь от Лукавого жестами-оберегами. Костер пришлось возвести повторно, пока огненная геенна в его сердцевине не исполнила должное – и там остался один только Пепел: в нем слабо мерцали красноватые угольки, переливаясь жаром, который, казалось, таил в себе жизнь, но ее там не было. Когда ночь подошла к концу, костер почернел, зачах и угас, оба плакальщика – священнослужителя – участника похорон (как бы ни называть тех, кто отдал покойной последний долг и свершил все необходимое) покинули останки и приблизились к морю, над которым предстояло взойти Солнцу (если предстояло), и разделили между собой хлеб с вином.
«Расскажи мне, – заговорил Али, – все, о чем должен поведать, как обещал. Думаю, лучшего способа провести день не будет. А потом мы с тобой расстанемся – надеюсь, навсегда».
«Согласен», – ответил его спутник и приступил к повести, которая будет изложена в следующей Главе.
|
|