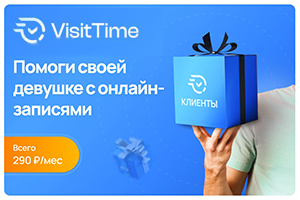Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Выбор жанра
|
|
Планируя произведение, писатель должен поставить перед собою вопрос о его жанровой форме. От этого во многом зависят и характеры и особенно композиция произведения, его язык, наличие в нем лиризма, сатиричности, юмора. Этой важной проблеме писатель уделяет много сил и внимания. Мысль о том, в каком жанре писать, возникает у писателя на различных этапах его подготовительной работы, иногда даже до образования у него определенного замысла. Так, например, у Гоголя «вертится на уме комедия». Он полон желания разработать эту новую для себя форму: «Я помешался на комедии», «рука дрожит написать комедию». Выпрашивая у Пушкина подходящий сюжет, Гоголь обещает: «духом будет комедия из 5 актов и — клянусь — куда смешнее чорта». У писателя нет еще определенного сюжета — он заботится пока только о том, чтобы его произведение было комедией, притом пятиактной!
Выбор жанра сравнительно легок для писателей, работавших по преимуществу в одном роде поэтического творчества. Таковы лирики Тютчев, Аполлон Майков, таков в значительной мере и Фет, который почти никогда не обращался к эпосу. В драматургии к такой «одножанровости» более других писателей приближался Гольдони, из современных писателей — Погодин, который стремился к предельной специализации и ничего, кроме пьес, не писал (лишь в последнее время Погодиным написан роман «Янтарное ожерелье»). Однако далеко не все писатели удовлетворялись одной жанровой формой. Шекспир писал лирические стихотворения и исторические хроники, комедии и трагедии; Мольер создавал не только комедии, но и интермедии, фарсы, балеты и пр. Поистине беспредельной широтой отличалась жанровая палитра Пушкина. Прозе Горького и поэзии Маяковского присуще богатство повествовательных форм. Тем актуальнее был для них выбор жанра, который наиболее соответствовал бы данному замыслу.
Писатели прошлого уделяли этому вопросу немало внимания. Так, Шиллер сообщал Гёте о своей хотя бы и временной специализации в области одного жанра: «Да и год-то нынешний — год баллад, а будущий, по-видимому, будет годом песен». Для Пушкина в 30-х годах «поэзия, кажется... иссякла», он «весь в прозе, да еще в какой». Чрезвычайно любопытны и те общие жанровые определения, которые писатель дает своему творчеству, которыми он отграничивает себя от собратьев по перу. Известны слова, которые Жорж Санд однажды сказала Бальзаку: «Вы создаете человеческую комедию, а я хотела создать человеческую эклогу». В этом определении необычайно ярко охарактеризовано творческое своеобразие французской романистки.
Всякий литературный жанр имеет свои структурные особенности и, стало быть, преимущества. Анализируя вопрос о коллизии, Гегель говорил о том, как существенно «приспособить» изобретенную художником «ситуацию к данному определенному роду и виду искусства. Сказке, например, дозволяется много, что было бы недопустимо в другом виде художественного изображения»[66].
Наличие этой постоянной взаимосвязи прекрасно понимали и писатели. Бальзак был твердо убежден в том, что «каждый сюжет требует различных красок» и, стало быть, связан с различными жанрами. Для Пушкина было бесспорно, что «характер Кавказского пленника приличен более роману», нежели поэме, и он действительно разработал его в широкой эпической форме «романа в стихах», то есть «Евгения Онегина». Исходя из этих же соображений о взаимосвязи жанра и прочих сторон поэтической структуры, Некрасов долго выбирал форму для стихотворения «Поэт и гражданин», пока не остановился наконец на своеобразной форме диалога, заключающей в себе особые удобства для подцензурного выражения Некрасовым его революционно-демократических идей. Определенные грани разделяют друг от друга автобиографию и воспоминания, эпистолярную и мемуарную форму и т. д.
Решая для себя этот трудный вопрос о жанре, писатель нередко стремится оттолкнуться от традиционной терминологии. «Назовите это стихотворение сказкой, поэмой, повестью или никак не называйте», — пишет Пушкин, и эта внешняя беззаботность его тона должна подчеркнуть пренебрежение поэта к догматическим терминам 20-х годов. Короленко выражает, в сущности, ту же тенденцию, решив повременить с печатанием произведения: «пусть лучше в моей повести, романе, исторической хронике, или как еще там будет называться, появятся эти данные в виде картин впервые». Тургенев в вопросе о жанре занимает противоположную позицию, стремясь к наибольшей четкости определения жанра: «Начал переписывать вещь — право не знаю, как назвать ее, во всяком случае не повесть, скорее фантазию, под заглавием «Призраки».
Как ни важно учитывать индивидуальный подход писателя к жанру, нельзя на основании этого считать излишней самую проблему. Подобный нигилизм был глубоко чужд Горькому, указывавшему на то, что, в отличие от романа, «рассказ приучает к экономии, ясности» и что пьеса требует в зависимости от содержания различной жанровой спецификации: «Вы написали ее акварелью, а такие вещи необходимо писать жирными масляными красками».
Писателю часто бывает неясной жанровая специфика его произведения; устанавливать ее приходится постепенно. Фурманов, по его собственному признанию, «не смотрел» на «Чапаева» и «Мятеж» «как на чисто художественные произведения (в прежнем толковании этого термина), как на повесть, рассказ, роман. Потому и форма необычная, потому там и документы, телеграммы, воззвания и т. п. Я писал исторические, научно проработанные вещи, дав их в художественной форме». Из этой неясности жанрового задания «Чапаева» проистекала неопределенность его подзаголовка: «1. Повесть. 2. Воспоминания. 3. Историческая хроника. 4. Художественная историческая хроника. 5. Историческая баллада. 6. Картины. 7. Исторический очерк... Как назвать? Не знаю».
Более четким был подход Серафимовича к структуре «Железного потока», который мог быть и бытовым романом, но мало-помалу превратился в эпопею. Автор отдавал себе отчет в возможности иной жанровой трактовки: «Мое произведение, конечно, выиграло бы, если бы я дал более широкое полотно, обрисовав и бытовые черты героев... Но мне, по-видимому, было не под силу справиться с такой широтой художественного охвата, и поэтому я отметал все, что в обстановке похода не служило основной цели яркого освещения коллективных стремлений и общих переживаний массы».
«Василий Теркин» был вначале определен Твардовским как «книга для бойца»: такое «жанровое обозначение... не было результатом стремления просто избежать обозначения «поэма», «повесть» и т. п. Это совпадало с решением писать не поэму, не повесть или роман в стихах, то есть не то, что имеет свои узаконенные и в известной мере обязательные сюжетные, композиционные и иные признаки. У меня не выходили эти признаки, а нечто все-таки выходило, и это нечто я обозначил «книгой для бойца».
Последнее, однако, не было жанровым обозначением, «Василий Теркин» в конце концов определился как поэма.
С большим трудом «вырабатывается» в творчестве писателя новый для него жанр. Возьмем Герцена — как сложен и противоречив его путь от романтической повести 30-х годов к художественным мемуарам «Былого и дум»! «Былое», несомненно, облегчает появление «дум», поскольку Герцену и «в ней хочется выразить мысли, заповедные в душе». Однако при всей родственности автобиографических установок этот писатель рано начинает сознавать, что у него «нет таланта к повестям», что он пишет «разговоры, диссертацию». «Дело решенное — повести не мой род», — записывает Герцен, и все же, «несмотря на заклятие, повесть опять бродит в голове». Все более рельефно вырисовывается перед ним замысел — впервые пишется «тетрадь о себе», хотя бы и с некоторыми пропусками. Старое противоречие между «повестью» и «личным» замыслом разрешается в 40-е годы в том смысле, что для Герцена «повесть — рама для разных ски́ цов и кроки́» (то есть эскизов и набросков. — А. Ц.). Его внимание все больше привлекает к себе «арабеск, в котором шутка сбивается с глубокой мыслью, сердечный порыв с летучей остротой».
Свободная форма эта сочетается с богатым содержанием — жизненного опыта у Герцена накапливается все больше и больше. Писатель решается рассказать историю пережитой им семейной драмы. События последних лет сплетаются с воспоминаниями Герцена о его «первой юности». Сначала он хочет сказать о последней «коротко», однако затем замысел расширяется. «С ужасом» чувствует Герцен, что «ни один человек», кроме него, не знает истины, и это заставляет его вместо одной части «Былого и дум» написать четыре — и все-таки не удовлетвориться написанным. Новый жанр не только найден, но и реализован: «Это просто ближайшее писание к разговору: тут и факты, и слезы, и теория» в их художественном синтезе, столь характерном для герценовских мемуаров.
Накопленный Герценом материал не вмещался в узкие рамки романтической повести. Не следует, однако, игнорировать и эту роль чисто количественного фактора — диапазон жанра, его объемную «вместимость». Это особенно важно для молодого писателя, который самонадеянно берется, например, за писание романа, не учитывая того, что сделанных им наблюдений едва хватает на рассказ или повесть. Чаще всего расширение объема жанра мотивировано тем, что имеющийся в распоряжении писателя материал не вмещается в узкие границы первоначально избранного им жанра, выплескивается за его пределы. Именно этим обусловливалось превращение «Валленштейна» из пятиактной драмы в чрезвычайно сложную по конструкции трилогию. Многое у Шиллера «решительно отказывалось уместиться в тесных границах трагедии». У Бальзака пример подобного разрастания представлял роман «Утраченные иллюзии», который первоначально должен был быть небольшой повестью. Тот же процесс характерен и для творчества Достоевского: «Преступление и наказание» и «Бесы» он задумал как сравнительно небольшие повести, предельно концентрированные по объему.
Несоразмерность замысла с бурно растущим материалом не раз ощущали писатели различных направлений; его неоднократно переживал даже такой мастер небольшой эпической формы, как Гаршин. Тургенев объясняет замедление высылки в редакцию рассказа «Степной король Лир» тем обстоятельством, что он у него «под руками вырос». Замысел писателя, подобно дереву, пускает все более глубокие корни, разработка его приводит к тому, что прежние объемные расчеты писателя становятся нереальными; вместе же с ними меняется и жанровая структура. Так случилось, например, с «Соловьиным садом» Блока: содержание, которое первоначально должно было уместиться в небольшом стихотворении, разрастаясь, потребовало для себя целой поэмы.
Закону разрастания жанра не противоречат и довольно частые случаи распада романного жанра на комплекс повестей, объединенных между собой общей идеей и героем. Лермонтов уже в извещении о «Герое нашего времени» справедливо называет его «собранием повестей». Помяловский предполагает разбить роман «Брат и сестра» на несколько самостоятельных повестей; Чехов пишет роман в форме рассказов.
«Я, — сообщает Чехов в 1889 году Суворину, — пишу роман!! Пишу и пишу, и конца не видать моему писанью. Начал его, т. е. роман, сначала сильно исправив и сократив то, что уже было написано. Очертил уже ясно девять физиономий. Какая интрига! Назвал я его так: «Рассказы из жизни моих друзей», и пишу его в форме отдельных законченных рассказов, тесно связанных между собою общностью интриги, идей и действующих лиц. У каждого рассказа особое заглавие. Не думайте, что роман будет состоять из клочьев. Нет, он будет настоящий роман, целое тело, где каждое лицо будет органически необходимо». Трудно судить о том, что получилось бы из этого любопытного в жанровом отношении замысла Чехова. Он характеризует мастера малой и средней повествовательной формы, взявшегося за такое большое эпическое полотно, которое все же было бы только составным. Для Чехова в равной мере показательно и то, что он поставил перед собою такое жанровое задание, и то, что он его не осуществил.
Во всех этих случаях происходил, в сущности, тот же процесс разрастания жанра, который только принимал несколько более сложную форму «романа в повестях».
Прежде чем написать произведение в каком-либо определенном жанре, писатель нередко испытывает возможности различных поэтических родов, транспонируя материал в новую, более соответствующую ему, форму. Виды этого «транспонирования» жанра разнообразны. Произведению, сначала задуманному в прозе, по зрелом размышлении придается стихотворная форма. Так, переделывается первоначально написанный в прозе «Тассо» Гёте, равно как и его «Ифигения». Лишь по истечении года работы над «Валленштейном» Шиллер убедился, что пролог не может быть написан в прозаической форме, и переделал его. Переработка эта не была механическим переложением прозы в стихи.
«Никогда до этой работы, — признавался Шиллер, — я не убеждался с такой очевидностью, как велика взаимная зависимость, связующая в поэзии содержание и форму, даже чисто внешнюю. С тех пор как я перерабатываю мой прозаический язык в поэтически-ритмический, я подсуден уже совершенно иному суду, чем раньше; даже многие мотивы, казавшиеся вполне уместными в прозаическом одеянии, оказываются непригодными для меня; они годились для повседневного обиходного рассудка, голосом которого, очевидно, является проза; стих же безусловно требует связи с воображением, и таким образом мне пришлось стать поэтичнее также во многих моих мотивах. По правде, следовало бы, собственно, все возвышающееся над заурядностью задумывать, по крайней мере, в начале, в стихотворной форме, ибо пошлость никогда не выступает с такой очевидностью, как выраженная в связанной речи».
Наряду с превращением прозаических жанров в стихотворные имеет место и противоположный процесс. Гёте сообщал Шиллеру, что «по зрелом размышлении» он остался верен «любезнейшей прозе», гораздо более соответствующей этому сюжету. Шиллер советовал другу употребить в одном случае «не гекзаметры, а восьмистрочные стансы»; однако Гёте нашел, что это «лучше всего подошло бы к прозе». Иногда транспонирование в прозу остается неосуществленным. «Я хотел писать эту поэму в стихах, но нет. В прозе лучше», — пишет Лермонтов в 1831 году. Однако его «Демон» и в дальнейших редакциях оставался в стихотворной форме, очевидно оттого, что она представляла определенные преимущества для реализации романтического замысла этой поэмы. Таких преимуществ уже не ощущает для себя Гаршин, когда он переделывает первоначальный стихотворный набросок «Пленница» в рассказ «Attalea princeps». Сравнение обоих произведений между собою показывает, как выиграл от этой переработки замысел Гаршина, который получил теперь несравненно более широкое эпическое раскрытие.
Нередки случаи, когда от эпической формы писатель обращается к драме, позволяющей ему гораздо резче изобразить намеченные замыслом конфликты и напряженную борьбу. Трагедия Ибсена «Бранд» первоначально была написана в эпической форме, водевиль Чехова «Свадьба» переделан был — к явной для себя выгоде — из его раннего рассказа «Свадьба с генералом». Однако то, что увенчалось удачей при переделке в водевиль комической новеллы, было бы исключительно трудным, если бы писатель имел дело с большой эпической формой. Достоевский не препятствовал попытке «извлечь драму» из его романа «Преступление и наказание», но вместе с тем предупреждал инсценировщицу о том, что «почти всегда подобные попытки не удавались, по крайней мере вполне. Есть, — указывал он, — какая-то тайна искусства, по которой эпическая форма никогда не найдет себе соответствия в драматической».
От драматического жанра писатель нередко обращается к эпосу и лирике. Гёте был «почти убежден, что сказание о Телле может быть обработано эпически». В другом случае он же указывает на то, что «многое решительно отказывается уместиться в тесных границах трагедии». Доде, первоначально написавший пьесу «Фромон-младший и Рислер-старший», затем переработал ее в широкое эпическое полотно романа. Образцом чисто лирического транспонирования драматического замысла может служить история «Медвежьей охоты» Некрасова, в которой твердый фабульный остов стихотворной драмы заменен был лирическими монологами на общественные темы. Укажу, наконец, на своеобразный эксперимент Пушкина, который переделал трагедию Шекспира «Мера за меру» в поэму «Анджело», стремясь тем самым испытать художественные возможности эпического жанра.
Помимо своей художественной функции, транспонирование в новую жанровую форму имеет и экспериментальную ценность. Гёте не раз предлагал переделать всякое поэтическое произведение в прозу с целью испытания. Блок проверял для себя драму особым способом — написав в прозе биографию ее героя Бертрана; это испытание путем нарочитой «прозаизации» показало ему, что «все верно».
Возникая и развиваясь, жанр приобретает обыкновенно все более разработанную форму. Некоторые характерные особенности жанра «Евгения Онегина» наметились уже в замысле поэмы «Таврида», явившейся, таким образом, эмбрионом нового, рождающегося жанра. В «Обыкновенной истории» Гончарова и в «Рудине» Тургенева в несколько схематическом виде наметились те черты общественно-психологического романа, которые нашли наиболее полное выражение в «Обломове» и «Дворянском гнезде».
Однако жанр развивается не только «по прямой», в пределах одного художественного качества, — он и существенным образом видоизменяется. Первые главы «Чайльд-Гарольда» представляют собою путевой дневник в стихах, в дальнейшем диапазон поэмы резко увеличивается. Любопытна жанровая трансформация «Евгения Онегина». Первоначально Пушкин называл его поэмой, позднее — романом, притом совсем особого рода: «Я теперь пишу не роман, а роман в стихах — дьявольская разница». В первоначальной стадии работы над этим романом Пушкин, по его собственным признаниям, «захлебывался желчью»; но уже вскоре он начал отрицать сатирическую направленность своего романа.
Только классицизм имел представление об определенных, раз навсегда регламентированных, жанрах поэтического творчества. Все наследовавшие ему течения решительно порвали с этой догматичностью. Сентиментализм, романтизм и реализм со всей силой утвердили значение в этой области творческого почина великого художника, который создает новый жанр, противоречащий традиционным воззрениям на его границы. И писатели отдают себе отчет в этой жанровой противоречивости написанного произведения. Лев Толстой детально обосновывает жанровое своеобразие созданного: он уже во время работы «боялся», что его «писание не подойдет ни под какую форму». «Что такое «Война и мир»? Это не роман, еще менее поэма, еще менее историческая хроника. «Война и мир» есть то, что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось...» И тем не менее Толстой продолжает писать, ибо (это необычайно характерно для него) хотя произведение не походит на повесть, стихотворение или роман, но оно «нужно» его читателю.
Длителен путь писателя к этому жанру, наиболее «конгениальному» его дарованию. Двадцать лет пишет Крылов, пока не останавливается наконец на обессмертившей его имя форме басни. «Это истинный ваш род, наконец вы нашли его», — говорит Крылову Дмитриев. Некрасов прав, утверждая в отношении Фета, что «поэмы не его дело». Зато какое безмерное удовлетворение для писателя — найти жанр, полностью соответствующий его замыслу и вместе с тем природе избранного им материала! Это чувство охватывает, например, Шевченко, убедившегося в том, что никакая другая форма, кроме героической поэмы, не идет к его сюжету: «поэма или ничего! И я начал сочинять поэму».
Добиться этого слияния замысла, материала и жанра писатель может только с помощью размышления о путях собственного творчества. Ибо здесь, как и везде, «важное дело — знать предел и сферу своего дарования» (Белинский).
Глава девятая
ОБРАЗ
„Перевоплощение“
Поэт мыслит образами, он не доказывает истины, а показывает ее», — более ста лет тому назад писал В. Г. Белинский. Проблема поэтического образа — одна из самых центральных проблем литературоведения. Образ для писателя не только материал, но и специфический метод познания жизни. Силой созданных им образов писатель воспроизводит действительность. Художник слова не строит, подобно ученому, абстрактных умозаключений — он создает образы. В образы эти вложена колоссальная сила «характеризирования»; как указывал Гончаров, «одним умом в десяти томах не скажешь того, что сказано десятком лиц в каком-нибудь «Ревизоре».
С образа, увиденного в жизни, нередко начинается творческий процесс художника слова. В этом смысле примечательно признание Ибсена: «Прежде чем занести на бумагу одно слово, мне надо вполне овладеть возникшими у меня образами — заглянуть во все уголки их души. Я всегда исхожу от индивидуума. Явления, сценические картинки, драматический ансамбль — все это приходит после само собою, и я нисколько об этом не беспокоюсь, раз только я вполне овладел индивидуумом во всей его человечности. Мне необходимо также видеть его перед собою воочию, всего, с внешней стороны до последней пуговицы, его походку, манеру, голос. А затем уже я не выпущу его, пока не совершится его судьба».
В голове у Чехова, по его собственному признанию, создается «целая армия людей, просящихся наружу и ждущих команды». Какими методами должен действовать писатель, чтобы выпустить «наружу» эту «армию людей», созданных силой его вдохновенного труда? Как помочь читателю «увидеть и услышать» эти образы, как обеспечить им самостоятельное бытие? Задача эта сложна и ответственна, она требует от писателя громадных усилий. Однако, не решив проблемы образного воплощения, он теряет право называться мастером художественного слова.
Горький называл литературу «человековедением». «Искусство, — указывал он, — начинается там, где читатель, забывая об авторе, видит и слышит людей, которых автор показывает ему». Он не признавал писателей, которые «людей не жалеют», их «жизни не любят и не знают». Начинающему беллетристу Горький советует: «Знаете что? Бросьте-ка писать. Это не ваше дело, как видно. Вы совершенно лишены способности изображать людей живыми, а это — главное».
В понятие образа включается не только персонаж, но и картина природы, метафора или сравнение, та или иная деталь описания и пр. Однако в большинстве случаев в центре внимания писателя находится реальный образ человека. Работе писателя над персонажем и будет посвящена настоящая глава. Нас будет занимать здесь: 1) связь образа с той или иной жизненной моделью («прототипом»), 2) внутреннее содержание образа («характер»), 3) его внешние черты («портрет») и, наконец, 4) степень его жизненной характерности («тип»). Однако, прежде чем обратиться ко всем этим вопросам, остановимся на переживаниях художника слова во время его работы над образом.
У многих писателей эта часть труда является исходной и определяющей. Тургенев не раз подчеркивал, что, только оставаясь на почве конкретно-чувственных образов, он сохраняет способность к художественному творчеству: «Как только я отхожу от образов, я совершенно теряюсь и не знаю, с чего начать. Мне все кажется, что можно с полным правом утверждать обратное тому, что я говорю. Когда же я описываю красный нос или светлые волосы, то волосы действительно светлые, а нос красен — и этого никак не опровергнешь! Чтобы у меня что-нибудь вышло, надо мне постоянно возиться с людьми, брать их живьем».
Необходимость творческой «возни» с образом ощущается каждым художником. Для Гончарова творить — значит прежде всего создавать образ. Он осуществляет задачу «персонификации», часто не подвергая еще возникающие в нем образы контролю своего сознания: «Рисуя, я редко знаю в ту минуту, что значит мой образ, портрет, характер; я только вижу его живым, перед собой — и смотрю, верно ли я рисую, вижу его в действии с другими... У меня всегда есть один образ и вместе главный мотив: он-то и ведет меня вперед — и по дороге я нечаянно захватываю, что попадется под руку, т. е. что близко относится к нему. Тогда я работаю живо, бодро, рука едва успевает писать, пока опять не упрусь в стену. Работа между тем идет в голове, лица не дают покоя, пристают, позируют в сценах, я слышу отрывки их разговоров — и мне часто казалось, прости господи, что я это не выдумываю, а что это все носится в воздухе около меня и мне только надо смотреть и вдумываться». У писателей этого типа идея произведения оформится позже. Внимание их еще безраздельно отдано созданию человека, все более четкому видению героя и окружающих его людей. Для таких писателей вообще «самое приятное — думать над образами», определять основы и формы их жизненного поведения.
В одной из своих бесед Тургенев наметал следующую последовательность этапов создания поэтического образа: «Я встречаю, например, в жизни какую-нибудь Феклу Андреевну, какого-нибудь Петра, какого-нибудь Ивана, и представьте, что вдруг в этой Фекле Андреевне, в этом Петре, в этом Иване поражает меня нечто особенное, то, чего я не видел и не слыхал от других. Я в него вглядываюсь, на меня он или она производит особенное впечатление; вдумываюсь, затем эта Фекла, этот Петр, этот Иван удаляются, пропадают неизвестно куда, но впечатление, ими произведенное, остается, зреет. Я сопоставляю эти лица с другими лицами, ввожу их в сферу различных действий, и вот создается у меня целый особый мирок... Затем нежданно-негаданно является потребность изобразить этот мирок, и я удовлетворяю этой потребности с удовольствием, с наслаждением».
Здесь четко выделены основные этапы работы писателя над образом: сначала жизненная встреча, поражающая его воображение, за нею — вглядывание в модель, сопоставление ее с другими и то, что инженер назвал бы «техническим испытанием» модели.
Создаваемый образ затем вводится в «сферу различных действий»; тем самым определяется разнообразие его социальных реакций. Запечатлевшись в сознании художника, образы эти как бы поступают в «кладовую» писательской памяти. В момент творческого возбуждения они вновь окажутся в сфере сознания и будут уже восприниматься как «давние знакомцы» художника.
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей... —
писал об этом процессе Пушкин («Осень»). Образ живого человека предстает перед писателем во всей конкретности и пластичности. Флобер извещает одного из друзей: «Образы Бувара и Пекюше все больше и больше вырисовываются передо мною». Заинтересовавший писателя человек представляется ему на более или менее определенном фоне: герои исторического романа «видятся» Короленко действующими «в степи, ночью». Художественное дарование позволяет писателю создать образ во всем многообразии его жизненных примет и особенностей, — так, Ибсен обычно «знал каждое созданное им лицо с головы до пят». Созерцая «прелестный» образ Адельгейды в трагедии «Гец фон Берлихинген», Гёте «просто влюбился в него» — перо писателя «бессознательно увлекалось ею». Пушкину его черкешенка «мила, любовь ее трогает душу». «Классики, — признавался себе Блок, — любили своих героев. А я люблю обывателей «Розы и креста». Так единодушно заявляют об этой своей «любви» писатели различных литератур; эпох и направлений.
Жизнь писателя протекает среди персонажей, созданных силою его воображения. Л. Толстой говорил: «Точно так же, как узнаешь людей, живя с ними, узнаешь свои лица поэтические, живя с ними». Художники мировой литературы на все лады признавались в том могучем и впечатляющем воздействии, которое оказывал на них рождающийся образ. Тургенева эти образы «осаждают», «мучат», «преследуют», Гончарову они «не дают покоя», Писемскому «снятся... и смотрят, и живут, и не дают заснуть». Бетховен так говорил о рождении образа: «Он всходит и растет, я вижу и слышу образ во всем его протяжении, предстоящим, как в слитке, перед моим духом». В сущности, то же могли бы сказать о рождении образа и художники поэтического слова.
Писатель увлекается созданными им образами до того, что воспринимает их как реально существующих людей. В научной литературе многократно цитировалось заявление Бальзака: «Я еду в Алансон, где живет госпожа Кармон» или его предложение спорящим с ним на житейские темы друзьям «вернуться к реальности» и «поговорить об Евгении Гранде». Глубокой верой в реальность своих героев отличался и Диккенс — собственная выдумка действовала на него как подлинная жизнь.
Писатель как бы вновь переживает страдания созданных им людей. Гёте, как ребенок, плачет над Ифигенией. Диккенс проливает безутешные слезы, рассказав о драматической смерти героини «Лавки древностей». Тургенев вспоминал: «Когда я писал сцену расставания отца с дочерью в «Накануне», я так растрогался, что плакал... Я не могу вам передать, какое это было для меня наслаждение». А. Н. Толстой вспоминал, что когда он «описывал смерть генерала в романе «Две жизни», теперь — «Чудаки», то «несколько дней ходил разбитый, будто и вправду пережил смерть». Все эти примеры говорят о том, что в отношении к создаваемым образам писатель как бы утрачивает представление о границе между литературой и жизнью.
«С двух часов дня я пишу «Бовари». Описываю прогулку верхом, сейчас я в самом разгаре, дошел до середины; пот льет градом, сжимается горло. Я провел один из тех редких дней в моей жизни, когда с начала до конца живешь иллюзией... Сегодня... я был одновременно мужчиной и женщиной, любовником и любовницей и катался верхом в лесу осенним днем среди пожелтевших листьев; я был и лошадьми, и листьями, и ветром, и словами, которые произносили влюбленные, и румяным солнцем, от которого жмурились их полные любви глаза». Так переживал Флобер любовные свидания своей героини Эммы Бовари.
Как объяснить эти многочисленные случаи «сопереживания» писателя? Как объяснить, например, способность Бальзака жить судьбами людей, созданных его воображением, которую он сам называл своим «вторым зрением»? Идеалистическое литературоведение считало, что подобная «способность жить во всех людях» является естественным следствием гениальной «отзывчивости» художника на все явления действительности. С точки зрения сторонников этой теории, «душа» писателя как бы «переселяется» на время в «тело» изображаемого им лица.
Нет нужды подробно критиковать в наши дни скомпрометированную теорию так называемого «перевоплощения». Она неверна вдвойне: во-первых, писатель далеко не полностью входит в положение тех, кого он изображает; во-вторых, он ни на одно мгновение не перестает быть самим собою. Бальзак гениально рисует в новелле «Гобсек» дошедшую до предела скупость ростовщика, но он сохраняет между собой и образом известное расстояние, он дает оценку. Художественный образ всегда запечатлевает в себе определенное отношение к нему автора, хотя и не является простым концентратом авторских переживаний. Сказать, что Пушкин перевоплотился в «Скупом рыцаре» в образ старого барона, — значит одновременно утверждать и слишком много и слишком мало. Правильному пониманию вопроса мешает уже двусмысленный и ненаучный термин «перевоплощение», предполагающий возможность качественного перерождения писателя во время творчества. Гораздо уместнее говорить здесь о «вчувствовании» художника во внутренний мир своих героев, о «вживании» его в события их личной жизни. То и другое вполне возможно и объясняется творческим опытом писателя, добытым путем наблюдения над действительностью, путем эксперимента, наконец, личным участием его в жизни.
Современные Пушкину критики, имея в виду письмо Татьяны к Онегину, спрашивали: «Где умел он найти эти страстные выражения, которыми изобразил томление первой любви?» В действительности Пушкину незачем было перевоплощаться в душу Татьяны. Люди, с которыми он непрестанно сталкивался и которых он наблюдал, книги, которые он прочел, страстные увлечения, которые он пережил, научили Пушкина проникать в глубину психологии любящей женщины. Не о перевоплощении нужно говорить здесь, а о свойственной всякому художнику способности понимания человеческой психики, о «чтении в сердцах», которым он был обязан своему гениальному дарованию, культуре и богатству накопленного им жизненного опыта. Мусоргский, признававшийся, что он «жил Борисом и в Борисе», Флобер, говоривший, что он «сам был Антонием», не переставали быть великими художниками, стоящими над Борисом и Антонием и имевшими поэтому возможность критически отобразить своих героев. Так «вчувствование» и «вживание» писателя в определенную сферу действительности закономерно завершается художественной ее объективацией. Когда Флобер говорил: «Надо усилием разума перенестись в своих персонажей, а не привлекать их к себе», он имел в виду присущее художнику умение выбрать из материала то, что для него особенно существенно, верно и глубоко его интерпретировать.
Общеизвестна реакция Достоевского на рассказ А. П. Милюкова о маленьком петербургском мальчике, который попросил встретившегося ему пастуха дать ему поиграть на дудке. Как только мальчик начал играть, городовой сурово запретил ему это, и ребенок с грустью бросил дудку и убежал. Выслушав этот рассказ своего друга, Достоевский с жаром возразил ему: «Неужели вам этот случай кажется только забавным?! Да ведь это драма, серьезная драма!»
Мемуарист любовно сохранил для нас чудесную устную новеллу Достоевского! [67]Великий художник слова был глубоко взволнован рассказом Милюкова. За его анекдотической, «забавной» окраской он уловил глубокий внутренний трагизм. Почти мгновенно создал Достоевский глубоко реалистический образ безвинно страдающего ребенка. «Бедный мальчишка» раскрыт им во всех контрастах своей недолгой, но драматической жизни — в счастливом деревенском детстве и петербургской трудовой «каторге». Рассказ этот полон острой бытовой наблюдательности: упоминания о. вонючем дворе, о мычащей «по-деревенски» корове, о дудке, на минутку взятой у пастуха «за последний грош», говорят о том, что Милюков бережно донес до нас повествовательную манеру Достоевского. Этот сжатый устный рассказ свидетельствует о величайшей способности Достоевского жить интересами своих обездоленных и униженных героев.
То, что обычно называли «перевоплощением», было бы невозможно без глубокого проникновения Достоевского в действительность, без умения его мысленно перенестись в новые жизненные условия и представить себе это постылое существование «бедного ребенка». И в то же время здесь перед нами не только объективная действительность, но и субъективированное преломление ее через призму мировоззрения художника слова. Именно эти идеологические предпосылки открывают дорогу к тому, чтобы сообщенный Милюковым жизненный случай силой художественного воображения Достоевского превратился в яркую картину противоречий «природы» и «культуры», в глубокий анализ страданий маленького человека. Каким бы разнообразием своих форм ни отличалось «перевоплощение», оно всегда представляет собою результат субъективного подхода художника к действительности. Это обстоятельство в гигантской степени повышает его творческую функцию.
Способность художника «жить одной жизнью, наполненной другими», в громадной мере обогащает работу его воображения. «Слушая этих людей», Бальзак, по его собственному признанию, «приобщался к их жизни... ощущал их лохмотья на своей спине... шагал в их рваных башмаках; их желания, их потребности — все передавалось моей душе, или, вернее, я проникал душою в их душу». «Возвращаясь степью» во время своей поездки в Приуралье, Короленко «точно перенесся в те времена, встречал на дорогах тех людей». Созданные таким путем образы становились особенно ощутимы художником, особенно дороги ему, ибо, как однажды признался Л. Толстой, «пережитое с людьми, которых описывал, сильней личных воспоминаний».
Каким бы отрицательным и отталкивающим по своему социальному содержанию ни был художественный образ, он является созданием писателя, который любит его как эстетически прекрасное явление. Об этом не раз напоминал Горький. «Холодной обработкой» с человеком ничего не сделаешь, только испортишь его, поэтому писатель должен немножко любить свой материал — живого человека, или хотя бы любоваться им как материалом... Мармеладов, Карамазов-отец и многие другие, подобные им герои Достоевского — отвратительны, но совершенно ясно, что они сделаны Достоевским с величайшей любовью...»
|
|