
Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Часть третья. Так малярийный плазмодий попадает из слюнной железы комара в организм человека и размножается в его кровяных «шариках».
|
|

Так малярийный плазмодий попадает из слюнной железы комара в организм человека и размножается в его кровяных «шариках».
И здесь же, в Питомнике, внимание мое как-то привлекли бочоночки, сработанные добротно кем-то из листа на... энтомологические статьи.
Вернемся, однако, в годы сороковые... Там, далеко далеко, за седыми Уральскими горами, за далекою Волгой, гремела самая кровопролитная, самая жестокая из войн; мой Крым, мой Дом и Двор были уже германские, и горе мое не знало границ. Тревожно и голодно было и здесь, в глубоком тылу; до насекомых ли было, когда завтра будет нечего есть, если не удастся подзаработать после школы слесарно-паяльным трудом поллитровку молока или полсотни рублей, а на рынке, благо, он был рядом, выбирай, что купить на них: либо полупрозрачную с синевой «оладью» из мороженой картошки, либо стакан табакасамосада... Но все равно насекомые звали меня к себе, да так основательно, что я сразу после десятилетки — это была весна сорок четвертого — оказался на должности помощника энтомолога Исилькульской малярийной станции. Собственно, энтомолога нам не полагалось, лишь «пом», — но и это было счастье; предложил мне эту работу заведующий станцией эвакуированный врачленинградец М. А. Чернятин.
Никто сейчас не знает и не помнит — материалы эти засекречены, — как в Исилькульском районе, да и во многих других районах Омской области свирепствовала малярия. Крохотные паразиты плазмодии, выедая содержимое красных кровяных телец и тут же размножаясь, дружно выходили «наружу», и человека валил с ног тяжелейший приступ лихорадки. Через два дня — еще, и еще, и еще...

Позы комаров: кодекса (сверху) и анофелеса (малярийного).
А переносили эту заразу комары из рода Анофелес, чьи слюнные железы, которые я рассматривал в микроскоп, порой распирало от плазмодиев. Сядет такой комаришко на кожу человека, воткнет свой тончайший хоботок и, чтобы легче было сосать, впрыскивает туда немного своей слюны. Так поступают самки всех комаров кровососов, и дело кончается от силы зудом или прыщиком; другое дело у анофелеса: со слюной он впрыскивает несколько сот малярийных плазмодиев — но при условии, если перед этим кусал малярийного больного.
— Регулярная проверка качества ссылок по более чем 100 показателям и ежедневный пересчет показателей качества проекта.
— Все известные форматы ссылок: арендные ссылки, вечные ссылки, публикации (упоминания, мнения, отзывы, статьи, пресс-релизы).
— SeoHammer покажет, где рост или падение, а также запросы, на которые нужно обратить внимание.
SeoHammer еще предоставляет технологию Буст, она ускоряет продвижение в десятки раз, а первые результаты появляются уже в течение первых 7 дней. Зарегистрироваться и Начать продвижение
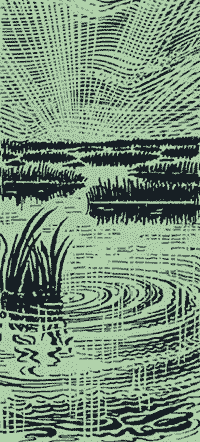
Взрослые комары зимовали в надворных погребах, на потолках сеней, сараев, чуланов, — но попробуй в скудном свете коптилки найти их тут, когда «потолок» — это редкие жерди, на которых уложен слой веток с засохшими листьями, а поверху — дерновые пласты. Тем не менее моей обязанностью было тщательно выявлять места этих зимовок, исследуя степень зараженности комаров плазмодиями. А личинки их развивались в многочисленных болотах и болотцах, которые обрабатывались так: мы собирали дорожную пыль, сеяли ее, смешивали затем с ядом — парижской зеленью, и ручным вентилятором опыливателем «РВ1» опыляли с берегов и кочек болота... При этом, кроме комариных личинок, гибло великое множество безвредных водяных и надводных тварей, но что было делать, когда, бывало, вся деревня, включая председателя колхоза, лежит вповалку в приступе, и некого «выгнать» в поле, а на поле том полынь забивает реденькую немощную пшеничку, и мизерный паек военных исилькульских времен, если когда и удавалось получить его в многосуточной очереди, был горекпрегорек в буквальном смысле этого слова — от полыни...
Особенно «полюбилась» комарам и плазмодиям деревня Лукерьино, что на северо-востоке Исилькульского района: в дни приступов — все до одного на лавках, полатях, полу и трясутся в лихорадке, укрывшись то тулупом, то какой-нибудь рванью; А кожа у них желтая, особенно желты ногти и белки глаз: это от лекарства ядовитожелтого цвета под названием акрихин, которое мы развозили по селам мешками. Все же оно немного помогало; с утра до ночи мы обходили все избы, «кормили» народ акрихином, «кололи» его плазмоцидом, приговаривая навсегда запомнившееся: «Кислогогорькогосоленого не есть, в бане не мыться, ног не мочить!». А у всех всех поголовно плюс к тому надо взять из пальца по капле крови для анализа, пробивая кожу «иглой Франка» — эдакой щелкающей рубилкой с пружиной и ножомзубилом, который не всегда с первого раза пробивал заскорузлые, блестящие от труда и земли пальцы стариков, женщин и детишек: мужчин в деревнях практически не было, а малярия не щадила никого. Лечить их было трудно, выявлять — еще труднее: лечение нужно строго периодическое относительно дней и часов приступов, а попробуй в них разберись, когда человек болен одновременно трехдневной «обычной» малярией да вдобавок тропической (название — неудачное, она валила сибиряков почем зря), приступы которой следуют через день, а то и чаще...
— Разгрузит мастера, специалиста или компанию;
— Позволит гибко управлять расписанием и загрузкой;
— Разошлет оповещения о новых услугах или акциях;
— Позволит принять оплату на карту/кошелек/счет;
— Позволит записываться на групповые и персональные посещения;
— Поможет получить от клиента отзывы о визите к вам;
— Включает в себя сервис чаевых.
Для новых пользователей первый месяц бесплатно. Зарегистрироваться в сервисе

Комаров вечерами охотно поедают стрекозы — чем не биометод?
Малярия в Сибири давно и абсолютно побеждена (хоть крохотен мой вклад в это дело, но он все-таки был), и комарованофелесов теперь тут никто не боится, и правильно делает: слюнные железы их стерильны. Не стало больных малярией — и болота перестали быть ее «рассадниками», «исчадиями зла», и не нужно их теперь «нефтевать», как раньше (нам в Исилькуль нефти не перепадало), опылять парижской зеленью с дорожной пылью; наоборот, эти неглубокие, полные Жизни водоемы очень нужны Природе и подлежат теперь не осушению и «мелиорированию», а всяческой охране: в них зарождаются ручьи и реки, они смягчают и увлажняют климат, они дают пищу и убежища великому множеству насекомых, моллюсков, ракообразных, рыб, червей, птиц...
Работая в Исилькульской малярийной станции, я изъездил, а больше исходил — у нас была лишь одна тощая лошаденка — весь район, каждое село, деревню, аул, хуторок даже с одною землянкой: их тогда, до укрупнения, было очень много — раскинутых по степям, колкам, заозерьям этого края, ставшего мне родным до каждого кустика, муравейника, полянки.
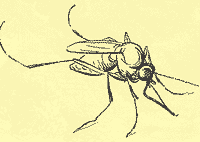
Комар начинает вонзать свой «шприц» в кожу. Футляр («ножны») при этом изгибается и отводится назад.
И вдруг, ранним майским утром, на бреющем полете — в Исилькуле тогда базировалось летное училище — трескучий У2, и темная перчатка летчика в кожаном шлеме кидает за борт кипы листовок (и когда их успели напечатать!) — Победа! Долгожданная, вначале почти невероятная, но пришедшая таки к нам, ко мне, ко всем. А на пустыре-стадионе — стрельба: салютуют кто чем может — берданками, самопалами; вдруг забухало еще громче — это на поляну притащили из военкомата в Исилькуле учебное ПТР — противотанковое ружье...
...Через некоторое время, когда разрешат проезд в другие города, я укачу в Таджикистан работать в астрономической обсерватории (ныне — Институт астрофизики). Этот период будет очень недолгим, но навсегда запомнятся черные южные ночи, с необыкновенно яркими звездами, с непривычно низкой над горизонтом полярной, бетонная тумба в сталинабадском Ботсаду (Сталинабадом с 1929 по 1961 год называлась столица Таджикистана Душанбе), на ней — «метеорный патруль» — установка с несколькими фотокамерами, направленными во все стороны неба; тявканье шакалов в темных кустах, трели множества ночных насекомых, а когда закончишь работу и включишь фонарь — десятки здоровенных фаланг веером разбегаются от моего астрономического пункта. Напомню, что фаланги — это существа вроде пауков, но не с двумя, а с четырьмя ядовитыми крючьями, на человека никогда не нападают. И еще запомнилась — в Крыму такой не бывает — особенная, жгучая сухая жара, когда полуденное солнце поднимается почти что к зениту...

Сквозь дымку лет Средняя Азия вспоминается мне Страной Тысячи и Одной Ночи. Ну а одна из чудесных тамошни; бабочек — павлиноглазка Мейрис хуттбни — изображена без прикрас и с натуры.
А потом у меня будет Урал: это отец повезет меня испытывать все тот же свой «вибратор для сухой добычи золота» в Миасс Челябинской области. Но польют холодные осенние дожди, «сухой» добычи не получится, и, вернувшись из дальнего Ленинского прииска в Миасс, мы совершенно обнищаем, и будем ходить по городу, стучать в окна: «Хозяйка, не надо ли чего починить?» — и отец садится чинить испортившуюся за военные годы швейную машинку, а я — стенные часы; гонорар — миска вареной картошки да от силы десятка в придачу — как раз на ночлежку; ранним утром — снова по домам... И все же нас, двух бродяг, возьмут в швейную промартель: одного механиком, другого, то есть меня — на должность секретаря машинистки (печатать я научился в Симферополе раньше, чем писать) — с ночлегом то на конторских столах, то в подвалах этого же здания.
А потом настанут совсем уж черные времена: отец угодит в больницу, а я — в Златоустовскую тюрьму, где просижу ровно полгода, после чего меня, двадцатилетнего, осудят на двадцать же лет, и повезут этапом по лагерям Карабаша, Кыштыма, Уайльдов; и превеликим чудом я уцелею — если только можно назвать чудом умение рисовать человечьи портреты, а рисованию в детстве, если помните, научили меня мои друзья насекомые.

Прибор, на котором я работал, — метеорный патруль — состоял из семи фотокамер, «карауливших» метеоры.
И они, насекомые, прилетали ко мне сюда, за высокий лагерный забор, принося на трепетных крылышках привет с Воли, воспоминания о несбывшихся Науке, Жизни, Природе, теперь бесконечно далеких и недосягаемых. Да, да: в этих страшных прямоугольниках, увенчанных вышками с вооруженными часовыми, несмотря на то, что всю траву в лагерях тогда тщательно пропалывали, — появлялись милые моему сердцу желтушки и белянки, бархатницы и голубянки, стрекозы и даже небольшие бронзовки. А потом улетали сквозь колючую проволоку ограды — и как я им завидовал!
Порою в барак залетали слепни — здоровенные глазастые мухи, те самые, которые донимают на пастбищах коров и лошадей. Как-то я привязал такому слепню за ногу длинную нитку, но непрочно, на один узелок — чтобы вскоре развязалась. Другой же конец нити привязал к сделанному мною бумажному легкому самолетику. Был солнечный день. Слепень взлетел, но, почувствовав сзади груз, сделал с натугой пару кругов; а потом полетел прямо, буксируя мой нехитрый летательный аппарат. А впереди по курсу — вышка с часовым... Он глазел в другую сторону; но вот белый махонький планер, ярко освещенный солнцем, начал набирать высоту — это мой живой «буксир» решил перевалить через ограду — и привлек внимание человека с винтовкой.

Бабочки «альпинистки» памирских высокогорий: горная огневка (сверху), кокандская пестрянка, толстоголовка Штаудингера, Сартская Атамандия, бархатница Мани.
И серая длинная нитка, и землистого цвета слепень, при столь быстром движении, конечно, не были видны охраннику на фоне широкой, тоже серой, полосы запретной зоны у забора, — а вот белый «самолетик» летел будто бы сам, набирая высоту и как-то «разумно» поворачивая то вправо, то влево.
Тут надо сказать, что попытки перебросить за зону записку с камешком строжайшим образом наказывались — пятнадцатью сутками карцера, а то и добавкой срока, и часовые имели насчет этого специальную инструкцию — глядеть в оба. А тут не то что записка с камнем, а явно рукодельный бумажный планер улетает — из лагеря! — не то кем-то ведомый, не то управляемый на расстоянии, а в нем, поди, записка, а может, что и похлеще (а был он просто из белой бумажки).

Бабочки, прилетавшие в наш лагерь через забор с колючей проволокой: репейница, бархатница, пеструшка, шашечница, голубянка, червонец.
Часовой вытаращил глаза, передернул затвор винтовки; самолет как бы в ответ на это резко свернул в сторону, возвращаясь в лагерь, но затем сделал крутой вираж, и, огибая вышку уже справа, перевалил через забор на ту сторону — на волю. Солдат вскинул винтовку, — а я гляжу издали и думаю: неужто стрелять станет? За ложную тревогу однако не похвалят, особенно за стрельбу в противоположную от лагеря сторону — а там их казармы, штаб, офицерские дома...
Охранник, стуча сапогами по деревянному полу вышки, заметался из угла в угол: что делать? Схватив телефонную трубку, начал было вопить в нее что-то нечленораздельное, как вдруг самолет опять повернул и пошел прямо на него... Служака оцепенел; бросив трубку, снова вскинул к плечу винтовку, но ствол в его дрожащих руках ходил ходуном...
И далась же моему бедолаге слепню эта вышка!

У меня чудом сохранились с давних лет эти крупинки уральского самородного золота, нарисованные, как и насекомые, из под микроскопа...
Влекомый им планер облетел ее дважды, затем еще раз побывал глубоко в зоне, и лишь после этого, круто забирая вверх и резко увеличив скорость, растворился в небесной синеве; надеюсь, моя нитка вскоре от него отвязалась.
По телефонному звонку горе охранника на пост взбежали двое военных. На вышке поднялся гвалт: один, с мертвенно бледным лицом, бестолково махал рукою, показывая, как «сам» летел самолет, а ефрейтор разводящий крутил пальцем у виска — ты, мол, такой сякой, тронулся тут на вышке от жары иль страху, — и увел его вниз, оставив наверху другого солдата, уже не с винтовкой, а с новеньким автоматом.

А того горечасового на вышке я больше не видел...
Дело-то могло кончиться много хуже: отвяжись нитка от мушиной ноги раньше, вблизи от вышки, или поверь тот ефрейтор словам часового — немедленная «генеральная проверка», со «шмоном» (повальным обыском), посадкой в карцер всех подозреваемых; допросы, общее ужесточение режима — как при каждом ЧП...
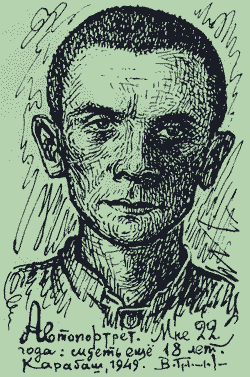
Лагерные мои «университеты» длились шесть лет — до смерти Сталина, и радостным теплым летом пятьдесят третьего я оказался на воле с полностью снятой судимостью (В. С. Гребенников. Мои университеты. «Наука и жизнь», 1990 г., № 8.). Куда ехать? А в Горький (Ныне — Нижний Новгород): с тамошними астрономами у меня когда-то был крепкий контакт. Увы — не взяли... Пришлось, скрепя сердце, устроиться в клуб художникомоформителем, благо художнический опыт был у меня уже изрядным. Там появился у нас сын Сережа, а еще через полгода мы махнули в Страну моей Юности — Исилькуль, к его привольным степям, милым грибным и ягодным колкам, полянам и опушкам, к его щедрым садамогородам, к обильному всякой всячиной рынку, где в прохладе мясного лабаза оттягивали крючья тяжелые свиные и бараньи туши, говяжьи грудины и бока, а на бесконечных прилавках теснились пирамиды из огурцов, помидоров, яблок и прочей садовоогородной снеди.
Это было олицетворение щедрости и плодородия замечательного края; здесь, на рынке, била ключом славная, богатая жизнь с бесподобно живописной толчеей телег, лошадиных грив, весов, мешков с мукою, яркими плюшевыми кофтами казашек, увешанных монетами, кучерявыми спинами и лбами баранов, пиалами с шипящим кумысом, серебряными узорными отделками ремней и подвесок на одеждах стариковказахов в сапогах выше колена на круто изогнутых колесом ногах — от того, что эти ноги всю жизнь сжимали туловище коня; кого-то из них я, наверное много лет назад потчевал акрихином и ставил им противомалярийные уколы...

Исилькульский натюрморт. В ту счастливую пору этюды и картины получались у меня сочными и радостными...
Только тут я почувствовал в полной мере свое Второе Рождение на свет, вдохнул по-настоящему истинный Воздух Свободы — чистейший воздух бескрайние исилькульских степей, плодороднейших полей, с их заливистыми кузнечьими трелями, с их медоводушистыми многоцвет ными лугами, с друзьями моего детства насекомыми, с торжественновеличавыми закатами, подобных которым я не видел больше нигде в стране.
Энтомологов, однако, тут уже не требовалось — с малярией давно покончили и я поступил в железнодорожный клуб художником (сейчас в этом здании — историко-краеведческий музей, с мемориальным залом В. С. Гребенникова). Рисовал я рекламы, писал афиши, делал декорации к спектаклям портреты передовиков; после работы этюдник на плечо — и в Питомник, в леса и степи: писать природу, а то и просто городские дворики и милые сердцу домишки. Репродукции с сохранившихся этюдов тех времен — на соседних страницах. А потом, обзаведясь оптикой — опять же самодельной! — стал писать этюды с насекомых, но теперь крупные, с метр или больше — уже масляными красками. Бывало, этими насекомьими этюдами были сплошь увешаны все стены нашего жилища; масляные краски — материал для этого «жанра» живописи чрезвычайно трудный, многие этюды не получались, да и вообще большую часть их я дарил знакомым, а когда накапливалось слишком много — совал в печку: молодой, мол, напишу еще сколько надо, успеется...

Исилькульская весна. Этюд маслом.
А теперь страшно жалею: любой этюд, большой иль малый, удачный иль не очень — это не только неповторимый документ, но и частица Души, отделенная от нее безвозвратно, навеки; как бы украсили те мои этюды эту книгу!
Меня попросили возглавить кружок изобразительного искусства Дома пионеров — параллельно с работой в клубе. Работали мы с ребятами больше под открытым небом, а в непогоду и зимой — на клубной сцене. Все это было очень нужно, очень интересно, но все более отдаляло меня от шестиногих любимцев. Программа детской изостудии не предусматривала изображения насекомых, а мне так хотелось поделиться с ребятами этим своим опытом, куда более богатым, чем натюрморты с крынками.

После дождя. Вид из нашего окна. Этюд маслом.
Кружок стал большим, обрел известность; его заметили омские художники, и через несколько лет его удалось преобразовать в специальное учебное заведение — детскую художественную школу, куда я полностью перешел из клуба. Наконец-то облегчилось мое общение с Миром Насекомых: я имел твердый выходной, а главное, двухмесячный летний отпуск. И не только вернулся на насекомьи любимые поляны, но организовал свой первый энтомологический заказник.
Все бы хорошо, но и омские художники, и мои коллеги преподаватели «ополчились» на моих насекомых, точнее на меня, рисующего с помощью оптических приборов — это, мол, «не искусство». Мне было предложено немедля бросить изображение насекомых — «иначе уберем с должности директора школы». И смех, и грех...
Тем временем у окон нашей квартиры стали прогуливаться милиционеры и какие-то молчаливые типы «в штатском», иногда заглядывая в подъезд, а то и в квартиру, на дверях которой была странная, не как у всех, надпись: «Осторожно — шмели!», а из дырочек в оконной раме, рядом с яркими сигнальными знаками, вылетали какие-то небольшие, но весьма «подозрительные» существа — кто их знает, может, дрессированные или чем-нибудь зараженные, а проследить, к кому их направлял хозяин, нет решительно никакой возможности из-за стремительности их полетов. На подоконнике можно было снаружи узреть сосуды с какой-то живностью, какие-то странные устройства, и пополз по городу слушок: «А Гребенников то — разводит микробов!».

Исилькуль. Декабрьское утро. Большая картина маслом.
Перед окном нашей квартиры всю ночь ярко горело некое устройство: сверху — ртутная лампа, под нею воронка и банка с какими-то бумажными полосками типа телеграфных лент, в которых чего-то такое шевелилось: — Сигналит американским спутникам!.. Насылает на нас лучи!.. Держит связь с другими планетами!.. — последнее, впрочем, не без основания: некоторые исилькульцы помнили мою домашнюю астрономическую обсерваторию, — и так далее. А это была лишь светоловушка для ночных насекомых...
Все это теперь я вспоминаю с улыбкой. Но обидно лишь вот за что: среди моих бывших учеников — дизайнеры, архитекторы, инженеры, пейзажисты, жанристы, декораторы, оформители, ученые искусствоведы, а вот художников-анималистов нет ни одного. Не разрешили мне тогда учить детей тому, что вы видите теперь на этих страницах, и мне пришлось уйти из моей любимой «Художки», которую я часто вижу во сне.

«Посланцы другого мира», прилетавшие ко мне на свет лампы: мучная огневка, совкаметалловидка, глазчатый бражник, серебристая лунка, молочайный коконопряд, желтая медведица...
Когда выйдет эта книга, «Художке» моей исполнится сорок лет...
Дабы не утомлять читателя, опущу описания своих побегов с семьей от торжествующих «победителей» в совсем уж дальние края — в Тернопольскую область Украины, куда меня позвали как специалиста практика по разведению шмелей, затем под Воронеж, где я организовал второй энтомологический микрозаповедник, затем... Но пора главу эту, про мои Дороги, кончать, а в приложении к ней дать несколько практических советов и заданий.
Юного же художника, любящего живность, хочу порадовать и обнадежить: времена сейчас совсем другие, и ценится не так «бумагодокумент», как результат работы; в нашем же деле — умение не только самому понимать, чувствовать, оберегать Природу, но и «зажигать» этим других. Так что смело рисуйте Мир, увиденный и в лупу, и в микроскоп, и в телескоп, и сквозь иллюминатор космического корабля, и никто вам не помешает, не сочтет за чудака или тем более за разведчика, который посылает тайные сигналы врагам нашего народа, окопавшимся на других Галактиках...
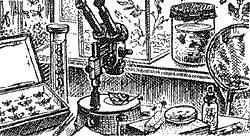
|
|
