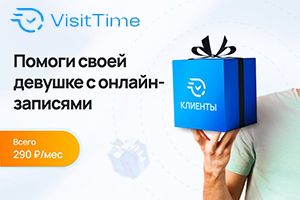Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Евгений Красницкий. Случайная глава.
|
|
Лекарка Настена возвращалась домой, привычно изображая всем своим видом - выражением лица, походкой и осанкой - сложный комплекс уверенности, мудрости и сосредоточенности, присущий обладательнице тайного знания. Лекарка лечит не только лекарствами и наговорами, но и верой больного в ее способность победить недуг, а вера эта слагается из множества мелочей, в том числе, и из внешнего вида.
Проходя мимо колодца, она вежливо, но с достоинством ответила на приветствия прервавших разговор женщин, не замедляя шага, сумела задержаться взглядом на всех четырех лицах поочередно, словно запоминая: кто и как с ней поздоровался и делая какие-то, ей одной известные выводы, об их здоровье и настроении. Нельзя упускать ни одного случая, напомнить о том, что лекарка всех знает, обо всех помнит и видит такое, что сокрыто от глаз простых смертных. И это тоже давно стало привычкой и исполнялось само собой - не отвлекая от мыслей, не изменяя настроения.
А настроение было отменным. Как-то так уж удачно сложился день: в нескольких домах хозяева похвастались намечающимся богатым урожаем, жар у холопки ратника Григория из десятка Фомы оказался обычной простудой, и не очень сильной, младший сын обозника Леонтия бросил, наконец, костыли - сломанная нога срослась, как надо, сотник Корней разговаривал ласково, интересовался: все ли хорошо, не надо ли чем помочь? И то сказать: почему бы ему ни быть ласковым, если Настена с уверенностью подтвердила, что у ключницы Листвяны, по всем признакам, ожидается мальчик? Сама Листвяна зазвала отобедать и развлекала Настену приличной к случаю беседой, не изводя расспросами на медицинские и ведовские темы, как это делало подавляющее большинство баб, которым удавалось втянуть лекарку в разговор, и, хотя была Листвяна бабой с двойным, если не с тройным, дном, обычного раздражения она у Настены сегодня не вызывала.
Обозный старшина Бурей, узрев лекарку, прервал процесс любимого времяпрепровождения - наблюдения за жизнью села поверх забора, вылез на улицу и с радостным оскалом, способным напугать до икоты даже взрослого мужика, поинтересовался: усердно ли работают посланные им к Настене для починки крыши, холопы. То, что при этом, будучи на восемь лет старше лекарки, Бурей величает ее матушкой, уже никого не удивляло - привыкли, а то, что на жуткой роже обозного старшины имеет место приветливое выражение, могла разобрать только сама Настена.
У самых речных ворот лекарку перехватила Февронья - та самая баба, которую Настена задействовала для сеанса " сексотерапии", вытаскивая корнеева внука с кромки между явью и навью. Что ж поделаешь, если еще не старая, вполне здоровая баба страшно страдает от бездетности, не решаясь передать мужу слова лекарки о том, что вина за бесплодный брак лежит на нем, а не на ней? " Гульнуть налево" Февронья тоже отказывалась наотрез, хотя Настена и обещала сама подобрать подходящего " донора" и обеспечить " конфиденциальность", рассказывать же несчастной бабе, сколько мужиков в Ратном воспитывают не своих детей, лекарка не позволила бы себе никогда. Так, вот, и пришлось убеждать, мол, парень без памяти - даже и знать ничего не будет, кровь у Лисовинов добрая - ребеночек будет здоровым, да и во внешности дитя не будет ничего такого, что могло бы натолкнуть мужа Февроньи на ненужные мысли. Тем паче, что внешность Михайле уже " подправили" - сестра граблями, да Марфа лучиной, теперь сходство сможет уловить только очень острый, опытный взгляд, при условии, что будет знать, что искать. А вот знать-то никто и не будет. Короче, дала себя уломать баба, теперь, вот, смотрит коровьими глазами.
Не произнося ни слова, Февронья лишь с надеждой смотрела на Настену и судорожно комкала в руках холщевую сумку. Настена по матерински улыбнулась, сказала несколько ободряющих, но на самом деле ничего не значащих, фраз, а сама внутренне замерла от вдруг возникшего ощущения: " Получилось! ". Февронья, конечно же, еще ничего не почувствовала - времени-то прошло, всего ничего, а Настена обостренным ведовским восприятием уловила легкий отблеск (пока только отблеск) того внутреннего света, который озаряет женщин несущих в себе росток новой жизни.
Февронье она ничего не сказала - побоялась сглазить, да и уверенности полной не было, но настроение сделалось по-настоящему радостным. И наплевать, что улыбка одной из баб, встреченных у колодца была вовсе и не улыбкой (ведунью не обманешь), и вслед Настене, когда она отошла достаточно далеко, наверняка была сказана какя-нибудь гадость. Лекарка давно приучила себя все замечать и запоминать, но держать чувства в узде. При нужде, она без особого труда могла бы заставить ту же Варвару, якобы лицезревшую превращение юлькиной косы в гадюку, валяться у себя в ногах и лизать сапоги. Но то - при нужде, а не для собственного удовлетворения. Сейчас же радость от удачи и без того перекрывала любые неприятные мелочи. Тем более, что радость была редчайшей - многослойной.
Во-первых, чисто женская - помогла зародиться новой жизни, сохранила разваливающуюся семью и (чего греха таить) в очередной раз " объехала" бородатого козла, и в мыслях не допускавшего, что беда была, как раз в нем, а не в жене. Во-вторых, обычная, человеческая - помогла хорошим людям. В-третьих, профессиональная - все верно рассчитала и заставила события идти тем путем, который был нужен: ох, не только и не столько лекарствам тела и умы подчиняются! Ну, и в-четвертых... да, об этом никому не расскажешь, даже дочке... пока. Ни Мишка, ни Корней не знают, что в Ратном скоро появится еще один Лисовин, если, конечно, будет мальчик. Соломку-то подстилать надо не только там, где упадешь, а и в других местах... на всякий случай.
Радостно на душе, и самочувствие иное. Сразу же как-то забылась несколько излишняя тучность, шаг сделался легким, чуть ли не девичьим, где-то внутри заиграл один из тех ритмов, которые лекарские пальцы, надавливая на нужные точки, передавали телам больных, вытаскивая их из уныния, страха, отчаяния или слабости, мышцы лица легли свободно, лоб стал, как будто, выше и светлее... хорошо стало, одним словом, хоть пой. Настена приблизилась к створу Речных ворот и... словно натолкнулась на стену.
На противоположном берегу Пивени из-за деревьев выехала верхом Юлька в сопровождении кого-то их мишкиных отроков. Они были еще далеко, подробностей не разглядеть, а Настена уже поняла: что-то не так - матери такое чувствуют, для этого вовсе не обязательно быть ведуньей. Как будто бы все нормально - юная лекарка ловко соскочила наземь, властным жестом передала отроку поводья, что-то коротко приказала, отрок послушно кивнул и поворотил коня. Как будто бы все было нормально, но...
Как только всадник скрылся за деревьями, Юлька перестала быть привычной Юлькой - ссутулилась, повесила голову и медленно побрела к мосткам через Пивень. Мать, стоящую возле створки ворот она не заметила, да и вообще, вряд ли замечала что-либо вокруг - весь ее вид свидетельствовал о каком-то тяжком горе, захватившем сознание настолько, что окружающий мир сделался чем-то неважным, второстепенным. И это Юлька, сызмальства приученная держать себя на людях достойно, как бы тяжело не приходилось!
Уже подходя к берегу, дочка мазнула рукавом по лицу, не то, утирая нос, не то, смахивая слезы, Настена не разобрала. Сердце защемило жалостью и тоскливым предчувствием, мгновенно разрушившими недавнюю радость, и как-то сразу стало понятно, что девчонку пригнала домой не какая-то мелочь, представляющаяся катастрофой в тринадцать лет, а что-то действительно серьезное.
Когда Юлька, сойдя с мостков, повернула прочь от ворот в тыне и побрела вдоль берега в сторону лекарской избушки, Настена, наконец, стронулась с места и размашистой, почти мужской, походкой зашагала вдогонку дочери. Догнав, не стала ни окликать, ни расспрашивать, просто пошла рядом.
В последнее время во взаимоотношениях между матерью и дочкой произошли существенные перемены, и Настена все чаще стала ловить себя на мысли, что Юлька ведет себя с ней не как с матерью, а как со старшей сестрой или, наоборот, как с выжившей из ума древней старухой. Все было, вроде бы, понятно - дочка стремительно превращалась из девочки в девушку, ведовской силой уже превзошла мать, но иногда так хотелось задать ей трепку... Останавливало лишь непреложное правило: с лекаркой ничего нельзя делать против ее воли, ни к чему нельзя принуждать - потеряет уверенность в себе, тут же потеряет и лекарскую силу. Было, впрочем, и еще одно обстоятельство - Настена прекрасно понимала, что своим суровым, лишенным всяких сантиментов и нежностей характером, сама превращала дочку в ощетинившегося во все стороны колючками ежика.
Но кто же объяснит соплюшке, что под любым, самым суровым и строгим внешним видом скрыто любящее материнское сердце, кто расскажет, как выхаживала она почти нежизнеспособное крошечное существо - наследницу многих поколений ведуний-лекарок, сколько слез выплакала, как сама терзалась, превращая, через боль и тяготы, слабое и безвольное тельце в крепкий и энергичный организм? Какими словами описать, через что ей - ведунье - пришлось переступить, чтобы самой, по своей воле, предать дочку обряду крещения? Сколько любви и нежности было вложено, сколько бессонных ночей, сколько раз приходилось ради пользы душить в себе жалость и сострадание... Не расскажешь, сама поймет, когда сама родит - дети отдают долги не родителям, а своим детям, на том и стоит род людской от Одинца и Девы.
" Во многой мудрости много печали" - говорят христиане. Правду говорят! Любая бы мать начала со слов: " Что случилось, доченька? ", а Настена молчала, хотя точно такие же слова так и рвались наружу. Молчала, потому что знала: одно неверное слово, даже не слово, а интонация, и слезы у Юльки мгновенно перерастут в озлобление - великую цену запрашивают светлые боги славянские за ведовское искусство, а если смертные еще и дерзают подправить работу богов, цена и вовсе может стать непомерной.
Так и шли, рядом молча, и неизвестно, кому из ведуний было тяжелее - младшей или старшей. Младшей было больно только за себя, а старшей - и за себя, и за младшую, но старшая знала, что почти из любого трудного положения можно найти выход, и еще она знала, что время лечит. У молодых лечит, а старикам до забвения просто не дожить. Светлые боги, какой же старухой она себя сейчас чувствовала!
Юлька ничем не показывала, что замечает идущую рядом мать. Шла молча, глядя себе под ноги, была напряжена, как тетива лука и так же готова отозваться на любое прикосновение, но ни слова, ни жеста. Наконец, Настена не выдержала:
- Расскажешь, что случилось?
- Ничего... все хорошо. - Голос дочери не дрогнул, ни всхлипов, ни вздохов.
- Совсем все хорошо не бывает никогда, - Настена тоже ничем не выдала своего состояния, чего ей это стоило, знала только она одна - а тебе сейчас плохо. Ну-ка, что надо делать, когда больному плохо, а сам он ничего рассказать не может?
- Признаки болезни искать... - голос Юльки был спокоен до безжизненности, но хоть отвечала, и то хлеб.
- Признаков нет, ты здорова, значит, что-то произошло. Я хочу знать: что?
И это - тоже плата за ведовское искусство. Обычная баба уже давно орала бы на дочку или на пару с ней обливалась бы слезами, а Настена держала сама себя, будто кузнец клещами раскаленную поковку, и жгло ее так же, как железо в горне, но оказаться слабее дочери - погубить все. Вот и получалось, вместо: " доченька, милая, кровинушка моя, да кто ж тебя изобидел? " - " я хочу знать...".
Настена сначала спросила, а потом поняла, что не вовремя - сказалось эмоциональное напряжение - они, как раз, подошли к дому, и у Юльки, пока проходили в калитку, потом заходили в дом, был повод не отвечать. Войдя в жилую клеть, дочка уселась на лавку и, уставившись взглядом в пол, принялась переплетать перекинутую на грудь косу. Еще один тревожный признак. Движения рук, наново переплетающих нижнюю часть косы, были характерны для всех девиц без исключения. Означать они могли все, что угодно: чисто машинальное, привычное действие, способ занять руки, когда не знаешь, куда их девать, кокетство, при общении с парнями, томную меланхолию, сопровождающую девичьи грезы и т. д. и т. п. - существовало множество оттенков и нюансов. Только, вот, Юлька не делала этого никогда - от проблемы " куда девать руки? " Настена избавила дочку внушением и объяснениями давным-давно, к кокетству она склонна не была, да и вообще, ни в какие нормы и правила не вписывалась, то-то подружек, среди ратнинских дев, у Юльки не было ни одной.
Так хотелось сесть рядом с дочкой, обнять... Настена пересилила себя и занялась домашним хозяйством - разворошила и вздула угли в печи, подвигала туда-сюда горшки со снедью, протерла, и без того стерильно чистую, столешницу. Взялась, было, за веник, но подметать было нечего, принялась перебирать развешенные для просушки пучки трав, но поняв, что даже не смотрит, за какие травы берется, вздохнула и села напротив дочери, положила локти на стол, сплетя между собой пальцы, и очень внимательно вгляделась в Юльку.
- Так что же случилось, Гуня?
Ласковое прозвище " Гуня", звучавшее в устах Настены только в моменты особой душевной теплоты и близости, было маленьким секретом " кодового языка" матери и дочки. Настена употребила его непреднамеренно - само вырвалось, но оказалось, что вырвалось правильно и вовремя - Юлька отозвалась:
- Мы с Мишкой поругались...
- Удивила... а то вы раньше ни разу не ругались!
- Не поругались... не знаю, как сказать... - Юлька подняла голову, блеснув мокрыми дорожками на щеках. - Нету такого слова... мама, это - насовсем...
- Понимаешь, значит, что сама беду накликала? Перешагнула черту, которую нельзя переходить? - Настена читала в глазах дочери, как в раскрытой книге, ей ли - ведунье - не уметь, дочке ли пытаться утаить что-то от матери? - Да, он теперь не будет ТАК смотреть - на тебя одну, не будет ТАК улыбаться - тебе одной. Вообще на тебя глядеть не станет.
Настена била словами наотмашь, не жалея, потому что... жалела. Не впервой (сколько женских и девичьих слез пролито было в лекарской избушке!), но впервые такое пришлось делать с дочерью. Била, в сущности, самоё себя, но иначе было неправильно и невозможно.
- И вернуть уже ничего нельзя! Знаю, Гуня: хочешь вернуть. Но не вернешь.
И тут Юльку, наконец, прорвало! Будто ветром сорванная с лавки, то ли с криком, то ли с рыданием, она кинулась к матери в сами собой, помимо воли Настены, раскрывшиеся объятия, и, перемежая слова всхлипами и плачем, заговорила, хоть и прерывисто, но не бессвязно - острый ум не поддался даже истерике:
- Мама! Я же не первая... такая дура... Ты же все можешь, все умеешь... Что же мне теперь?.. Как все будет?.. Ты все знаешь, есть же средство... Что делать, мама?!
Ну, вот: уже не сестра и не выжившая из ума старуха... Все вернулось на круги своя, жизнь вообще любит водить людей по кругу и не всякому дано круг этот разорвать. Так же, как и не дано знать: к счастью этот разрыв или к беде. Но, Макошь пресветлая, до чего же сладкими, порой, бывают слезы, как легко они размывают панцирь воли и тайных знаний, способный выдержать почти любой удар судьбы!
В маленькой избушке, спрятавшейся от посторонних глаз за прибрежными деревьями, плакали, облегчая душу, две женщины...
* * *
Солнце уже скрылось за деревьями, но его лучи еще подсвечивали редкие облака, словно разметенные в вышине гигантской метлой. Глядя на них, знающие люди сказали бы, что нынешняя ночь, а может быть и завтрашний день, будут ветреными. Только, вот, заниматься метеорологическими наблюдениями было некому. Стариков, традиционно снабжавших односельчан метеопрогнозами прибрала недавняя эпидемия, а приближение непогоды воины ратнинской сотни и сами прекрасно чувствовали старыми ранами, практически независимо от возраста.
Люди и животные заканчивали дневные дела и готовились к ночи. Мужики прибирали инструменты и снасти, готовили что-то для завтрашних работ, да поторапливали мальчишек, припозднившихся с выездом в ночное, бабы снимали с веревок белье, ставили киснуть молоко на ночь, собирали на стол к ужину... да мало ли дел по хозяйству - делай не переделаешь. Отец Михаил, с немалым облегчением проводив тетку Алену восвояси, мрачно взирал на накрытый стол и аккуратно устроенную постель, терзаясь сомнениями и разрываясь между необходимостью исполнять предписание епископа Туровского и потребностью провести ночь в молитвенном бдении, разумеется, натощак. Коровы жевали жвачку и шумно вздыхали над своей коровьей судьбой, собаки самозабвенно чесались, выкусывали блох из шерсти и заинтересованно принюхивались к запахам еды, струящимся из открытых дверей и волоковых окошек, куры копошились и квохтали, обсиживая шестки - всяк знал свое место и дело, от веку привычное и неизменное.
Настена и Юлька сумерничали, не зажигая света - сидели на лавке обнявшись и, если бы их увидел сейчас кто-то посторонний, то мог бы и не признать. Обычно строгое, даже суровое, лицо Настены помягчало, обрело черты доброты, даже, нежности, а Юлька, обычно ерепенистая и упругая, как занозистая доска, умудрилась свернуться мягким, теплым клубочком где-то у матери подмышкой, уткнувшись носом сбоку в мощный настенин бюст.
Мать и дочь негромко разговаривали. Настена - спокойно, неторопливо, с длинными паузами и обволакивающими интонациями, но не сбиваясь на " лекарский голос", потому что Юлька этот секрет уже знала и пользоваться им умела достаточно хорошо. Юлька - иногда сбиваясь на взволнованную скороговорку, но и ее собственная поза и умиротворяющее тепло, исходящее от матери настолько не соответствовали торопливой речи, что, начав частить, юная лекарка почти сразу же сбавляла темп, невольно копирую неторопливый говор матери.
- Так что же случилось, Гуня? - Настена, все так же обнимая Юльку одной рукой, другой заправила за ухо дочке выбившуюся прядь волос. - Что ты такое сотворила, что самой теперь тошно? А?
- Я его стукнула... сильно... туда...
- За дело, хоть?
- За дело! То есть, я тогда думала, что за дело, а потом... да я вообще тогда не думала! Так неожиданно все...
- Ш-ш-ш. - Настена, вроде бы ласково погладила дочь по волосам, а на самом деле слегка придержала начавшую поднимать голову Юльку. - Не спеши, Гуня, ты же чувствуешь Мишаню, можешь понимать больше, чем глазами видно. Давай-ка, с самого начала: с чего все началось...
- Да, чувствую... он мне так в спину дал... не телесно - мысленно, я думала, убьет. Как сбежала, не помню.
- Ну уж и убьет. Хотя... Мишаня может. - Настена помолчала, раздумывая. - И все ж, с чего у вас началось? Только не спеши, вспоминай не только то, что он сказал или сделал, но и что при этом чувствовал, думал. Ты же можешь.
- Могу... а тогда не могла - злая была очень. Он с Мотьки все заклятия снял, даже те, которые мы не смогли... и наши тоже снял.
Рука Настены, лежащая на плече у Юльки чуть заметно дрогнула, но голос она сумела сохранить спокойным:
- Все? И наши тоже?
- Угу.
- Как с Татьяны?
- Даже легче, мама. - Юлька подняла глаза и выглянула из-за настениной груди, как зверек из норки. - Помнишь, он после Татьяны в беспамятство впал? А тут даже и не почесался.
- И что ж ты?
- Ну... наговорила ему всякого... - Юная лекарка снова спрятала взгляд, немного помолчала и продолжила: - Я же разозлилась... лицом обожженным попрекнула, гневом Морены пугала, псом смердящим обозвала... еще глупости... всякие... мол, грешник - Христа и светлых богов в одну кучу свалил...
- И что Михайла при этом чувствовал? - Настена с трудом удержалась от крепкого словца, но добивать Юльку, когда той и без того было так плохо... - Обиделся, разозлился? Что ты ощутила?
- Ничего... не до того было... Дура я, только себя и слышала.
- Будет тебе казнится-то, Гуня. Первый раз, что ли, Михайлу облаяла? А может ты ничего не почувствовала, потому что ничего и не было? Знаешь, ругань ведь, как обувка снашивается, если долго трепать. Привычно делается и не задевает уже.
- Да я про лицо первый раз... должен был обидеться.
- И?
- Отшутился. Он часто так... как с ребенком капризным... Понимаешь, мама, он иногда так глянет... или скажет что-то... как будто ему не четырнадцать, а сорок. Знаешь, как обидно...
- Только обидно? - Настена улыбнулась и потрепала дочку по волосам. - А может быть, приятно? Такой сильный, умный, храбрый, везучий и - твой.
- Ну, да... мой... Он ничей. Нинея говорила, что он ни светлых богов, ни в Христа не верит... Ой, мама! - Юлька вскинулась и расширенными глазами уставилась на мать. - Никому требы не кладет, а удачливый! Это что? От Чернобога... или от Сатаны?
- Не поминай на ночь! - резко оборвала дочь Настена, потом сделала над собой усилие и снова заговорила мягким спокойным голосом: - Нет в Мишане ничего от темных сил, было б - ты сама почувствовала бы.
- Но как же, мама... - Юлька испуганно глянула в самый темный угол избы, словно ожидая, что прямо сейчас оттуда вылезет Мишка с рогами, с клыками и обросший шестью. - Ой, мамочка!..
- Не бойся ничего, Гунюшка. - Настена одной рукой притянула дочку к себе, а другой снова погладила ее по голове, мысленно досадуя сама на себя: сутками не смыкать глаз у постели единственного чада получалось само собой, а вот путно приласкать кровинушку так и не научилась. Не жалела Настену жизнь, ласк покойной матери она почти и не помнила, а бабка была женщиной суровой - на подзатыльники не скупилась, а приголубить сиротку... - Не знается Мишаня ни с кем из нави, хоть нашей, хоть христианской, хоть какой другой. А удачливость... Один он, не на кого ему надеяться, а потому, всегда настороже, каждый шаг рассчитывает. Думаешь, чем ты его прельстила? Покойно Мишане подле тебя, почти не приходится за собой следить, да и разговаривать с тобой можно не только о том, о чем все другие девки тараторят - душой ты ему даешь отдохнуть, нельзя же все время, как натянутый лук быть, никто такого не выдержит.
Настена умолкла и затянула пузу, раздумывая: стоит ли говорить о том, в чем сама была не очень уверена? Юлька тоже помалкивала, как-то по-своему осмысляя сказанное матерью. Наконец ведунья решилась и заговорила снова:
- А еще, уважает он тебя.
- Ну, уж... уважает...
- Да! Мишаня к тебе после морового поветрия очень сильно переменился - понял, что ты жизнью ради больных рисковала. Для других - есть болезнь, есть и лекарь, все само собой разумеющееся, как если бы: есть туча, есть и дождик, иначе и быть не может. А Мишаня понял. Для воина, тот, кто собой рискуя, другого спас, роднее брата кровного делается. Он, в отличие от остальных, в тебе это увидел и оценил. Бабу по достоинству оценить, с уважением отнестись, с благодарностью... редко это у них бывает, даже у самых лучших. А уж признать равной себе... почитай, никто из них не способен, явь - мужской мир. Мишаня же способен, это - редкость, повезло тебе.
- А я его...
- Вот и объясни-ка: за что? Не за то, ведь, что на ругань твою отшутился? А?
- Он как-то догадался, что Мотьку на капище Морены держали, и что мы с тобой его об этом забыть пытаемся заставить. Мы же добро творили, а он: " Увели, как телка с привязи", а потом еще хуже: " Мужчины Макоши не служат, себе в услужения забрать хотите"... Дурак! Что он понимает?
- Такой ли уж дурак, Гуня? Ты же видела: Мотя, за избавление от кошмаров, рабом нашим готов был стать.
- Но мы-то его рабом делать не собирались!
- Доченька, доченька... - Настена тихонько покачала головой. - Учится тебе еще... Есть сила, которая заставляет раба на волю рваться - очень большая сила, казалось бы, нет ничего сильнее ее, да только в том-то и дело, что " казалось бы". Совсем вольным, свободным от всего на свете человек быть не может - нормальный человек. А ненормальный... Если он свободен от общежитийный правил, то становится бродягой перекати-поле - ни с кем не уживается, нигде корней надолго не пускает, для всех неудобен, противен. Если он свободен от долга и обязанностей, то ему верить ни в чем нельзя - предаст, обманет, украдет и совесть его мучить не будет. Если он свободен от преданности роду, обычаям, земле - он враг! Приведет на свою землю иноземцев, принесет чужие нравы и предательством это не сочтет. Ну, а если он свободен от совести, любви, сострадания, то и не человек он, а зверь, убить такого - явь от скверны очистить.
Пойми, Гунюшка: нет и не может быть полной, ничем не ограниченной свободы, во всем есть мера и соразмерность. Это, как с лекарствами - одно и то же средство может и вылечить, и убить, вся разница в мере. Каждый из нас опутан узами обычаев, подчинения, любви, привязанности... много всякого. А мы еще и новые оковы на себя накрутить стремимся. Не понимаешь? А подумай-ка: какими цепями дитя к себе мать приковывает? Однако рожаем! А? Вот и Мотя... Не принял он уз, привязывающих его к жрицам Морены, как вырваться сумел, даже не представляю - от них так просто не уйдешь. Беда, наверно, какая-то приключилась - христиане капище погромили или еще что-то... Мы, ведь, с тобой так и не дознались, не желает парень вспоминать, страх ему память запер. Но у Свояты ему лучше показалось, а раз так, то и привязался, потому и уходить не хотел - не верил в лучшую долю. Потом к нам привязался, еще крепче, чем к Свояте. Вот и все рабство. И никто Матвея из такого рабства освободить не может. Гнали бы, не ушел!
Умный, Мишаня, а не догадался, что не освобождает Матвея, а меняет одни узы на другие - от нас к себе. А может и догадался, да так и задумывал. Ну-ка, доченька, признавайся: почувствовала, что Михайла одни узы на другие поменял, оттого и разозлилась?
- Ну...
- Даже и не думай врать мне! Почувствовала?
- Да он же не только от нас Мотьку увел! От светлых богов к Христу, тоже! Мотька теперь таким же святошей, как Роська станет!
- Не станет! - с уверенностью возразила Настена. - Матвей на капище Морены так смерть понял, как нам с тобой и не снилось, а воин, понявший врага, втрое сильнее. Добрым лекарем Матвей станет, сильным, страстным бойцом за жизнь, а коли одна страсть душу захватила, другой туда пути уже нет - не бывать Матвею святошей. Будет лекарем, только б не помешал никто... Придется мне с Михайлой, насчет Матвея, поговорить... хм! - Настена хмыкнула и, улыбнувшись, покрутила головой. - Сопляк же еще, а ведь не говорить - думать вместе придется. Кто бы рассказал, не поверила бы...
Ладно, с Матвеем понятно, а тебе, дочка, я вот что скажу... Ты еще не знаешь, что такое жить без любви. Когда никто о тебе не вспоминает, и никто тебя не ждет. Когда мужчины проходят мимо тебя, как мимо пустого места. Когда в доме не пахнет мужиком. Да, да - плохо пахнет! Но придет пора и этот запах станет для тебя самым родным. И ты готова будешь дышать им и днем и ночью. И это тоже называется узами - узами любви, семейными узами.
Словами этого не расскажешь, Гунюшка, язык слов - мужской язык, а наш - язык чувств. Языком слов о чувствах не поведаешь, а если попытаешься, бледная тень получится. Нет, это можно только ощутить, пережить, пропустить через себя и... помнить всю оставшуюся жизнь. Тем более, что не многим удается сохранить это - не растратить на суетное, не погубить в озлоблении, не утопить в обыденности - жизнь по всякому оборачивается.
Не врут христиане: Бог есть любовь. Сильнее любви нет ничего, ее даже Морена одолеть не может. Если любовь есть, то все беды, несчастья, горести, болезни, увечья - все преодолимо. Хочешь - верь, не хочешь - не верь, но, даже если она безответная, тот, кто ее познал, ни на что не променяет и никогда не забудет, а уж если взаимная... Любовь - свет, любовь - радость, любовь - сила...
Настена осеклась, некоторое время помолчала, потом усмехнулась.
- Вишь ты как... Сама сказала, что словами не объяснить, и сама же объяснять взялась... старею, видать.
- Ну что ты, мама...
- Ладно, ладно... Попробую тебе так объяснить, чтобы понятно было... на простых вещах, хотя... и они тоже не просты. - Настена, слегка склонив голову, задумалась, Юлька терпеливо ждала. - Вот, подумай: есть человек, за чьей спиной можно укрыться чуть ли не от всех земных бед - от скудости, неприкаянности, от людской злобы... И никто не посмеет тебя обидеть, а если посмеет... Притчей во языцех стало то, как страшна мать, защищающая своих детей, но почему никто не вспоминает, как муж защищает свою женщину? Жизни не жалеет! И не в тягость ему это, а дело чести, потребность! Вспомни-ка, как в прошлом году Михайла тебе зеркало в подарок принес. Вспомнила? Ты тогда редкий случай увидела - в мальчишке мужчина проклюнулся, он понял, что ему есть кого защищать. Можешь еще вспомнить, как Фаддей Чума озверел, когда свою Варвару раненой увидал, хоть и была она сама виновата - вылезла любопытствовать, дура, а все равно попер Фаддей, хоть и не на тех, кто в Варвару стрелу пустил, но попер не задумываясь. Да и ты уже этой сласти испробовала. Помнишь, хвасталась, как к тебе в Младшей страже уважение выказывают? Думаешь, только из-за тебя самой? Нет, еще и потому, что видят, как к тебе их старшина относится.
Но и муж, сколь бы крепок не был, тоже за женщину прячется, хотя никто из них в этом никогда не признается, а многие и сами того не понимают. Мужам уверенность в себе нужна, не меньше, чем нам - лекаркам. Женщина эту уверенность может дать. Мужам место нужно, где голову приклонить, где покойно, приятно, надежно. Женщина это место может обустроить. Муж смысленный перед другими гордится не только богатством, доблестью или умом, но еще и тем, какая у него женщина. А стать мужниной гордостью женщина может только сама, никто за нее этого сотворить не способен.
Вот так, доченька, мужчины и женщины друг в дружке опору и обретают, вот так их жизнь зависит от того, как между ними все сложится. Лишиться всего этого, как вдовы лишаются, или вообще не познать, как бабы-вековухи, горше смерти. Ну, и напоследок, то, что тебе уж и совсем понятно должно быть. Женщине без мужчины жить, просто-напросто для здоровья вредно.
- А... а как же ты, мама?
- А что я? - Настена отвернулась и, хотя в избушке стало уже совсем темно, принялась что-то смахивать со стола ладонью. - У лекарок стезя особая, с простыми бабами нам равняться нечем.
- А если бы отец...
- Юлька! Ты сколько раз обещала?!
- Мам...
- Не отец он - бугай племенной! Сделал свое дело и ушел! Обо мне не вспоминает, а о тебе и слыхом не слыхивал!
- А я его найду и всю женилку отобью напрочь! Или Миньке скажу, он его на куски порубит!
- Заступница... - Настена еще крепче прижала к себе дочку и тяжело вздохнула. - Думаешь, ему сладко было, как быку на случку?.. Полтора месяца в лесу прятался, чтобы не заметил никто, пока бабка не сказала, что уходить можно. - Голос Настены предательски дрогнул. - Даже не попрощался...
- А Лукашик?
- Как прознала? - Если Настена и смутилась, то по голосу ее этого совершенно не чувствовалось. - Или по селу уже треплют?
- Не-а, никто ни гу-гу. Но я ж, какая-никакая, а ведунья.
- Ведунья... - Голос Настены снова потеплел. - Богатырша, за веником не видно... А Лукашик... вот уж, за чьей спиной ни от чего не укроешься. На гуслях, конечно, бренчит бойко, да только и в голове один звон. Даже и язык-то за зубами держит не сам, а потому, что я ему мозги вправила. Мог бы ратником стать, я б ему наставника нашла, так нет - ему пустозвону и в обозе хорошо!
- Может его в Младшую стражу пристроить?
- Староват, восемнадцать скоро. А! - Настена пренебрежительно махнула рукой. - Такой до седых волос мальчишкой будет. Отец его покойный - Проня Гусляр - таким же был. И женился-то не как люди. Вдова Пелагея Проньку как-то с дочкой в сарае застала, да поленом ему все ребра и пересчитала, а через неделю, так скособоченного, под венец и погнала, чуть ли не тем же поленом. Не тот бы случай, так бы и помер холостяком. Лукашика я ни у кого не отнимаю, девки вокруг него, конечно, хороводятся - веселый, но замуж за пустозвона - разве что, совсем с горя великого... ну или поленом, как папашу с мамашей.
- А Бурей? - Юлька, по девичьему легкомыслию уже позабыв, с чего начался разговор, бессовестно пользовалась редким настроением матери, а Настена то ли не делала вид, что не замечает, то ли действительно поддалась настроению.
- Бурей? Бурей - пес. Такой пес, который за хозяйку жизнь отдаст, не задумываясь, и такой, около которого душой отмякаешь, если к страховидности его привыкнуть сможешь. Защитник - да, преданный - да, умом... тут, как посмотреть - в Ратном и дурнее его народу полно, только застрял он где-то посредине между человеком и тварью бессловесной, да такой тварью, что ее и медведь стороной обходит. Страшной тварью, но ты его не бойся - он не только сам тебя никогда не тронет, но и никому другому даже пальцем... - Настена внезапно умолкла, поразившись внезапно пришедшей в голову мысли. - Гунюшка... а ведь если бы Михайла тебя сегодня отлупил, а Бурей об этом дознался, я бы его удержать не смогла. Убил бы он Мишаню... может быть... или Михайла его...
- Что-о-о?
- Да нет, я знаю, что сильнее Бурея в Ратном мужчины нет, разве что Андрей Немой, но Михайла... нет, не страшнее, он вообще не страшный, а... опасный... да, опасный. Меня еще тогда что-то зацепило, когда он от волков отбился и мать к нам привез. Помнишь?
- Помню, только ничего такого...
- Ничего такого? Ты вдумайся: мальчонка, только что от смерти спасся - не сбежал, а победил, и что же? Голос спокойный, говорит толково, руки не трясутся, лицо не бледное. Сделал все правильно, как муж смысленный...
- Ага, и меня отчитал, когда язык распустила...
- Вот, вот. - Настена покивала головой. - И Корзень говорил: на устиновом подворье - первый бой, со взрослыми ратниками! А он все до мелочи запомнил, словно со стороны смотрел... Да! Словно со стороны! Вот оно!
Настена зацепила указательным пальцем нижнюю губу и оттянула ее вниз, что делала только в состоянии сильного волнения или глубоко задумавшись. Юлька, приоткрыв рот, настороженно уставилась на почти неразличимую в темноте мать, контуры фигуры которой выделялись на фоне слабого свечения тлеющих в печке углей. После долгой паузы, Настена, отстранив от себя дочь, положила ей руки на плечи и, вглядываясь в едва различимое пятно юлькиного лица, спросила:
- Ты никогда не замечала, что в Мишане, как бы два человека уживаются? Один - мальчишка, обычный, как все, а второй - холодный разум... нет, не холодный, а... как бы это... в самую суть вещей глядящий.
Юлька снова испуганно стрельнула глазами в темный угол, но теперь все углы в избушке были темными, она поежилась и неуверенно ответила матери:
- Я же говорила: он иногда... как взрослый с ребенком, даже, как старик... Знаешь, я как-то только сейчас подумала... вот, он отшучивается, когда другой бы или обругал, или рукам волю дал... Так же часто бывает: отец или прикрикнет, или подзатыльник даст, а дед, за то же самое, пожурит, улыбнется. Я же много в других семьях бываю, приходилось видеть.
Хорошо, что было темно. Настена даже зажмурилась от хлестнувшей по сердцу пронзительной жалости к дочери. " Я же в других семьях бываю", Макошь пресветлая, столь щедро одарить и тут же так беспощадно обделить, что за чужим счастьем тайком подглядывать приходится. Как же так? Знать и помнить чуть ли не обо всех жителях Ратного, а собственную дочь... Сыта, обута-одета, лекарскому делу учится с радостью, ярости озверевшей толпы не ведает, костра на месте родного дома не видела и собственной обделенности жизнью не сознает. Разумом... но душа-то тепла просит! Да не защиты от мирских бед она в Михайле ищет, как баба в муже, а доброго, всепрощающего дедушку, заботливого отца! В мальчишке? Потому, что никогда не жила в нормальной семье? Или потому, что он может глянуть из детского тела стариковскими глазами? Из детского тела... От нахлынувшего ощущения жути, перекрывшего даже чувство жалости к дочке, Настена замерла, позабыв, что все еще отстраняет от себя Юльку положенными ей на плечи вытянутыми руками.
Темно-то было темно, но Юлька обостренным ведовским восприятием, что-то такое почувствовала. Поведя плечами она выскользнула из-под Настениных ладоней и сама обхватила мать руками.
- Мам, ты чего? Я же не знала, что Бурей... А Минька не опасный... и не бешеный вовсе, врут на него со зла... он добрый... Мама, ну перестань!
Юлькина ладошка осторожно размазала по щеке Настены одинокую слезу.
- Все так, Гунюшка, умничка моя...
Усилием воли лекарка попыталась взять себя в руки, получалось плоховато - хоть и знала, что успокоить себя порой бывает труднее, чем мечущегося в бреду больного, но сегодня выходило, как-то уж совсем туго.
- Поздно уже, давай-ка, доченька, спать ложиться. Утро вечера мудренее... Да! Ты же голодная, ведь не ужинали мы, а ты и не обедала, наверно. Сейчас...
- Погоди, мама! А как же теперь Минька... Как я?
- Может быть, все-таки завтра?
- Ну, мам!
- Ну, хорошо, хорошо... Минька, говоришь? Значит, перестала его бояться? А?
- А я и не боя...
- Ой ли? А кто, почитай ни разу за весь разговор Михайлу по имени не назвал, все " он", да " он"? Словно Нечистого накликать боялась, да по углам все зыркала.
Юлька ничего не ответила, только смущенно засопела и закопошилась, снова устраиваясь у матери под боком. Какой там муж-защитник? Вот она главная опора и защита - мама, все знающая, все умеющая и способная укротить одним словом, да что там словом - взглядом, любого врага: хоть человека, хоть зверя, хоть... не к ночи будь помянут.
- Значит, ты Михайлу из-за Матвея... двинула?
- Нет, мам. Он... Минька как-то еще догадался, что мы с тобой им крутим, так прямо и сказал...
- Что-о-о? Мы Михайлой? Да с чего он взял?
- Ты же сама говорила, что его Нинее отдавать нельзя...
- Да ты... - От возмущения у Настены даже не сразу нашлись слова. - И ты ему такое ляпнула?
- Нет, он сам... я ничего такого...
- И ты его ударила?
- Ага...
- И этим подтвердила его догадки пустые!
- Ой, мама...
- Нет, ну надо ж такой дурехой быть! - Настена возмущенно шлепнула себя ладонью по бедру. - И Мишка тоже хорош - додумался! Да вы там все с ума посходили! Куда Анька-то смотрит? Вроде, здравая баба, и Лешка ее муж бывалый... Или только друг на друга пялятся? Так там же еще и Илья - не все пока мозги пропил...
- Да Илья там за все время ни разу не напивался!
- Ну, да! Еще не хватало ему на глазах у учеников под забором в мокрых портках валяться!
- Тебя послушать, так все дураки...
- А ну, придержи язык! - не дала Юльке договорить Настена, потом умолкла сама и сделав несколько глубоких вдохов, заговорила уже спокойным тоном: - Дите ты еще, дите... Ладно, что сделано, то сделано, уже не воротишь. Запомни, дочка, накрепко: когда говорят, что муж голова, а жена шея, и куда шея захочет, туда голова и повернется, мужчины только посмеиваются, даже и не всегда вслух, но про себя посмеиваются. Однако, стоит какой-нибудь бабенке, от " великого ума", в это всерьез уверовать, да еще вид показать - по этой самой шее ей однажды и накостыляют! Не можешь - не берись! А если можешь - по-настоящему, по-умному - то этого никто никогда не заметит, даже и в голову не придет! А теперь скажи-ка: Михайла зло говорил, про то, что мы им крутим, или посмеивался?
- Не то, чтобы посмеивался, но как-то так... мол, вы думаете, что я не замечаю, а я все понял.
- И сама дурой выставилась, и меня выставила, благодарствую, доченька.
- Я ж не нарочно...
- Еще не хватало, чтобы нарочно! Ладно, это - не самое страшное. Слушай дальше... вот уж не думала, что доведется тебе такое объяснять, но, раз уж сама не понимаешь... Такой удар, какой Михайла от тебя получил, мужчины, если их женщина ударила, считают хуже удара в спину - наравне со змеиным укусом держат. А что с ужалившей змеей творят, тебе, я думаю, объяснять не надо? И еще: такой удар, на какое-то время, мужа перед бабой беспомощным делает. Пусть на краткое время, но унижение это запоминается надолго, бывает, на всю жизнь. И случается, что, казалось бы, все забылось, месяцы или годы миновали, помирились давно, но случись бабе того мужа в неловкое положение поставить, или высмеять, даже пошутить неудачно - все! Только кости хрустят, а он потом и сам удивляется: чего на него накатило?
Нечасто такое бывает, но случается. Бабка моя почти шестьдесят лет лекарсвовала и за все это время пять таких случаев видела - две бабы калеками остались, а троих насмерть. Мне тоже одну такую у мужа отбивать довелось...
- Спасла?
- Помогли... Только проку-то? Всех передних зубов лишилась и говорить потом только шепотом могла... Да не ее дуру жалко, сама виновата - язык до пупа. Дочка у них маленькая была, так со страху в уме повредилась... насовсем, ничем не помочь было. Лушку убогую помнишь?
- Это которая у своей матери на могилке зимой насмерть замерзла?
- Она...
В избушке вновь повисла тишина, мать и дочь, каждая по-своему, переживали рассказанную Настеной историю. Юлька, по правде говоря, Лушку убогую помнила не слишком хорошо - маленькой еще была, но разговоров слышала много, лишь об истиной причине ее болезни не знала.
- Мам, а его как-нибудь наказали за это?
- Если б убил, сотник бы решал, а так - семейное дело. Казнился он сам потом, переживал сильно, а меньше, чем через год его в бою убили. Неслучайно, как я думаю.
- Как это, неслучайно? Каялся, сам смерти искал?
- Чтобы дочку болезную сиротой оставить? Думай, что говоришь, да бабьей болтовни поменьше слушай.
- А что ж тогда?
- Да пойми ты: муж, битый бабой - не муж. Даже если не видел никто и не насмехаются, он-то сам помнит. Для смерда или ремесленника, еще туда-сюда, а для воина потерять уверенность в себе - смерть в первом же бою. Если пересилит себя - нескольких врагов уложит, кровью слабость свою зальет - будет жить, а если не сможет, то смерть. Слабые на войне не живут. Я-то, когда жену у него отнимали, тоже ему врезала, да еще на людях.
- Туда?
- Да что ж ты... - Настена беззвучно шевельнула губами. - Других мест нету, что ли? Я же тебе показывала, как надо в ухо дать, чтобы оглушить! Туда, не туда... Его два раза бабы побили, и все об этом знали, что после этого от воинского духа осталось? Как наказали, как наказали... Я его наказала - к смерти приговорила! Я! А ты - Михайлу!
- Ма... - Юлька обеими руками зажала себе рот, в ее распахнутых глазах отразился красноватый блеск последних углей, дотлевающих в печи.
- Да! И не смотри на меня так! Михайлу до тебя уже дважды бабы били - сестра граблями и Марфа лучиной. И оба раза он отбиться не смог, другие выручали. А теперь ты. А он зарок дал тебя защищать, ему на тебя даже руки поднять нельзя. Ты только вдумайся: ты его бьешь, подло, как змея, жалишь, а он даже ответить не может!
- Как же... что ж теперь? Мама, его же убьют!!!
- Может и убьют... а может и нет. - Настена опустила голову, плечи обвисли, рука, которой она обнимала Юльку за плечи, словно потяжелела. - От него самого зависит... чувствует ли он себя униженным, утратил ли дух мужества... Глядишь и обойдется, если душой крепок.
- А он... крепок?
- Да не знаю я! - Настена отстранилась от Юльки и беспомощно всплеснула руками. - Не знаю!
- Ты? Не знаешь?
Лекарка снова положила руки на стол, сцепив пальцы, и заговорила глядя прямо перед собой, в темноту:
- Не знаю, не дано. Светлые боги разделили людей пополам, не для того, чтобы обе половинки во всем одинаковыми были. Есть многое в нас, чего они никогда не поймут, и есть нечто в них, для нас непостижимое. Казалось бы, ну что там может быть такого? Злые, грубые, чувствами обделены, самовлюбленные - только себя видят и слышат, простые, как чурки деревянные, а поди ж ты, не понять! Иной разумом тяжел, как наковальня, мыслями и делами прямой, как бревно, а вдруг так просветлеет, таким понимающим и чувствующим сделается - чуть не в Ирий тебя вознесет... а потом опять - козел козлом. И что с ним делать? Ты видела, как они по праздникам стенка на стенку ходят? Глядеть тошно: у одного нос набок свернут, у другого глаз заплыл, у третьего зубов недочет, а на модах восторг, чуть не в пляс пускаются! Это можно понять? С железом убойным тетешкаются, как с дитем, а оно... оно им любовью отвечает! Железо смертельное! Это возможно постигнуть? Порой глянешь - сущий петух в курятнике - всех холопок перетоптал, чуть ли не на каждую бабу масляными глазами пялится, а жену любит! По-настоящему, без притворства! В это можно поверить?
- Но, мам... ты же их лечишь. И не только тела... и я уже умею.
- Мы знаем, хоть и не понимаем. Знаем. Или чувствуем. Ты, вот, понимаешь, почему на них так твой лекарский голос действует? Знаешь, что действует, чувствуешь, как они отзываются, подчиняются... А причины понимаешь? Но мы-то хоть знаем, а они и знать о нас ничего не хотят, кроме одного... кобели.
- Минька не кобель...
- Угу. У каждой из нас хотя бы один " не кобель" есть, только он потом вдруг козлом оказывается... или хряком.
- А ведь ты их боишься, мама. Ни разу не сказала " муж" или " мужчина", все время: " они", " иной", " козел", " кобель"...
- Боюсь, доченька. - Настена шумно вздохнула и продолжила говорить, все так же глядя куда-то в темноту. - В каждом из них зверь дремлет. Чутко, в любой миг вскинуться готовый. Хороший воевода умеет этих зверей, когда надо, пробудить всех разом. И тогда - победа, и убитых почти нет. Но не попусти светлые боги этим зверям в обыденной жизни пробудиться. Если у одного или нескольких, еще ничего - справиться можно, но если у многих...
Настена замолкла, Юлька тоже сидела не шевелясь и не издавая ни звука, было понятно, что мать вспомнила толпу, в которой зверей пробудил не воевода, а поп. Затянувшуюся паузу прервал звук удара ладонью по столу и, не то злой, не то досадливый, голос матери:
- И убить-то этого зверя нельзя! Знаю способ, почти любая баба это сделать способна, но нельзя! Лишился зверя внутри - не муж! Рохля, размазня, скотина тупая и ленивая. И изменить зверя тоже нельзя, потому что и без того, больше, чем у половины уроды внутри. У того же Лукашика сущий глухарь - поет, ничего вокруг не слышит и не видит. Только глухарь раз в год токует, а Лукашик все время. А есть такие... Тьфу, даже говорить неохота!
В избушке в очередной раз разлилась тишина. Темно и тихо, даже сверчок голоса не подает, только слышно, как за стенами слитно шелестят листья под порывами разгулявшегося ветра. Юлька беспокойно пошевелилась на лавке и неуверенно произнесла:
- Так тогда... мама, все же понятно.
- Да? И что ж тебе понятно? - отозвалась Настена. Несмотря на саркастическое построение фразы, в голосе ее не чувствовалось насмешки, скорее, раздумье.
- Ну, ты говорила: не понять, не постигнуть, не поверить... А если они так своего зверя тешат? То есть не тешат, а кормят, только не мясом, там, или другой едой, а чувствами. Вот помахали они кулаками, друг другу рожи синяками украсили - зверь насытился и радуется, и они вместе с ним. Или этот, который, как петух в курятнике... У каждого зверя, наверно, свое любимое яство есть - одному одно подавай, другому другое... А кто не может зверя удоволить, хмельным его заливает, чтобы душу когтями не драл.
- Хм, а оружие? Как мертвое железо любить способно? А?
- Так оно - продолжение руки, само шевелиться должно, в бою раздумывать некогда.
- Ну, дочка, это каждый дурак знает. Упражняйся, пока оружие тебе, как собственное тело подчиняться не станет. Подчиняться! А тут - любовь...
- Да не о том, я, мама! Я подсмотрела, как дядька Алексей Миньку учит. " Ощути себя клинком. Ты весь напряжен, чуть не до дрожи, тебя огонь жжет нестерпимо, а загасить это пламя можно только вражьей кровью. Сил уже нет терпеть, а тебе все мешают: вражье оружие тебя в сторону уводит, щит и доспех препоны ставят, враг увернуться норовит. Прорвись, проломись, пробейся, растолкай и расшвыряй всех, обойди, извернись, обмани и настигни! Обопрись на руку, а через нее на все тело, они тебя поддержат, помогут, им тоже невмочь этот жар терпеть". Страстно так говорил, как будто его и вправду жжет. Я не знаю... я пробовала себя клинком представить, не могу. Молнией могу, а клинком нет.
- В том-то и дело, что не представить... - Настена помолчала и опять в сердцах хлопнула ладонью по столу. - И ведь разум умудряются сохранить! Алексея послушать - безумец, крови алчущий, ничего вокруг не видящий и не понимающий, а сколько лет степняков резал, и ни изловить, ни убить его не смогли! Выходит, сохранял здравомыслие?
Лекарка обернулась к дочери, словно ждала от нее ответа на свой вопрос, но Юлька думала о своем:
- Так, может, и Минька сохранит... ну, здравомыслие?.. А, мам? Он же спокойный такой, а иногда и вообще, как будто и не здесь...
- Не от мира сего... - негромко проговорила Настена, потом повернулась к дочери, взяла ее за руку и требовательно, тоном строгой лекарки, велела: - Ну-ка, что ты там говорила про то, что он к тебе, как к капризному ребенку относится?
- Так я ж уже рассказала...
Юлька осеклась, потому что Настена, без окрика или замечания, одним требовательным сжатием пальцев, заставила ее сменить тон и сосредоточится, теперь это был уже не разговор матери с дочерью - ведунья работала.
- Иногда ведет себя, как старик - заговорила Юлька тоном старательной ученицы - там, где мальчишка обругал бы или драться полез, он или отшутится или снисходительно так глянет. Бывает, что как бы со стороны на все смотрит. А еще Митька клялся, что однажды глянул на Михайлу, а у того лицо стариковское. Я тогда не поверила, а теперь... даже и не знаю.
- Что-то еще замечала?
- Ну... умный он, знает много... Да! Я еще заметила, что он в Младшей страже властвует так, будто иначе и быть не может, а отроки это чувствуют и подчиняются, хотя и постарше его на год-полтора есть.
- Снисходителен и в праве повелевать не сомневается. - Задумчиво пробормотала Настена. - Что-то ты еще поминала... что-то меня зацепило... - Лекарка приподняла руку потеребить нижнюю губу, но не донесла пальцы до рта. - А! Ты его попрекала, что он и Христа и светлых богов в кучу свалил. Так?
- Так.
- А как это было?
- Я сама не видела, мне Роська рассказал. Минь... Михайла, когда с Моти заклятья снимал, заговор творил землей, водой, огнем, ветром и животворящим крестом. Разве так можно?
- Погоди, доченька, погоди. Четырьмя стихиями и крестом... Кого-нибудь из светлых богов поминал?
- Нет, Роська бы запомнил. Он же святоша, для него светлые боги...
- Да знаю я! Перуна точно не поминал?
- Да нет же! Роська бы обязательно... А что такое, мама?
- Угу. - Невпопад отозвалась Настена и надолго замолчала.
Юлька затихла. Хоть и ей не терпелось выяснить, что же погрузило мать в столь глубокую задумчивость, юная лекарка знала, что отвлекать Настену от размышлений нельзя - во-первых, бесполезно, а во-вторых, можно было нарваться на подзатыльник - старшая ведунья на руку была скора. Наконец, Настена пошевелилась, меняя позу, перевела дух, словно после тяжелой работы и пробормотала, скорее размышляя вслух, чем объясняя что-то Юльке:
- Вроде бы, все сходится, только, вот, Перуна не помянул, почему-то... Или потому, что обряда еще не прошел?
- Что сходится, мама? Какой обряд?
- Как тебе сказать... Помнишь, я тебе объясняла, что дети иногда рождаются похожими не на родителей, а на кого-то из дальних пращуров?
- Ага, как Борька Мешок - рыжий, конопатый, а в роду никого рыжих нет. Потом только вспомнили, что прапрадед таким же был.
- Верно. - Подтвердила Настена. - Еще считается, что так же могут и черты характера передаваться: горячность, спокойствие, привычки какие-то... Так или не так, сказать трудно - это ж надо чем-то таким отличаться, чтобы и через несколько поколений помнили, но многие считают, что это возможно, во всяком случае, родовые черты характера действительно существуют. А еще слыхала я, что может в человеке память предка отдаленного проснуться. Сама-то я такого никогда не видала - редкость это великая, но рассказывала мне об этом женщина, которой верить можно. Вот и вспомнилась мне одна история, которая могла бы михайловы странности объяснить.
Было это, как рассказывают, лет через двадцать-тридцать после того, как ратнинская сотня на здешние земли пришла. Резались тогда наши с дреговичами люто, говорят, что за одного убитого ратнинца пятерых лесовиков под нож пускали, а бывало, что и целые селища истребляли. Был тогда в ратнинской сотне десятник из рода Лисовинов, имени его не знаю, а прозвище сохранилось - " Крестильник", и прозвище это он не за набожность получил, а за лютость.
Случилось так, что поймали дреговичи ратнинского попа. Пытали страшно, все секрет вызнать хотели, как пришельцев извести или изгнать, но так ничего и не вызнали - принял поп венец мученический, помер под пытками. Сама понимаешь: разочлись за это с лесовиками ратнинцы сторицей - целым городищем в Погорынье меньше стало. Не щадили никого, а десятник Лисовин нашел в одном доме наперсный крест того попа и этим крестом, как кистенем, всех в том доме перебил, а потом вздел его на себя и сказал: " Пока нового священника у нас не будет, беру все ваши грехи, братия, на себя! Режь, не жалей! ". Так он прозвище " Крестильник" и заработал.
Через какое-то время, после той резни, подстерегли дреговичи три десятка наших ратников, и один из тех десятков был десятком Крестильника. Как-то так вышло, что сошлись в поединке волхв велесов и Крестильник, сеча прекратилась - все на них смотрят. Волхв посохом в землю ударил, заклятье сотворил и ждал, что Крестильник молитвой христианской ответит, а тот взял да и к Перуну воззвал! Велесов слуга от такого оторопел, а Крестильник цапнул его каким-то хитрым захватом и хребет сломал, голыми руками! Дреговичи от такого дела в смущение пришли, и ратнинцы их в бегство обратили, хотя и было их много меньше, чем лесовиков.
Что тут правда, что вымысел, судить не берусь, а только крест тот мне покойная Аграфена Ярославна - жена Корзня - показывала. Тяжелый, медный, весь битый, царапинами и зазубринами покрыт - хочешь не хочешь, а поверишь, что им как кистенем орудовали. А Крестильник, как говорят, под старость тихим стал, богомольным, с детишками возиться любил, но если что, то и сотнику поперек сказать не смущался.
А теперь сравни Крестильника с Михайлой - прапра, не знаю сколько, внуком его. Оба клички " Бешеный" заслуживают, оба к детишкам по-доброму относятся, оба светлых богов с Христом путают, оба, при случае, супротив старшего или супротив обычая пойти и на своем поставить не боятся. А Михайла еще и из детского тела стариком глядит, да в своем праве людьми командовать не сомневается. Так вот и подумаешь: а не проснулась ли в Михайле память Крестильника?
- Ой, мама... неужто?.. - Юлька прихлопнула рот ладошкой, словно боясь высказать то, что пришло ей на ум.
- Это я тебя спросить должна: неужто? - Настена снова взяла дочку за руку. - Ты при слиянии с Михайлой ничего такого не замечала?
- Чего тако?.. - Крепко сжавшиеся пальцы матери в очередной раз прервали недоуменный вопрос и заставили Юльку сосредоточится. - Не знаю, я же и не думала что так... я ж тебе уже рассказывала, что когда мы сливаемся, я и думать-то почти не могу - он думает. Он вообще сильнее меня, если чего-то утаить захочет, мне нипочем не узнать.
- Значит, и в мыслях сильнее... все одно к одному. - Настена покивала каким-то своим размышлениям. - Одно только не сходится: Перуна Михайла никогда не поминает. Ведь не поминает? А, дочка? Не слыхала никогда?
- Нет, ни разу.
- Может быть, потому, что Михайла пока еще обряда воинского посвящения не прошел?
- Какого обряда, мам?
- Перунова обряда. В чем там дело, не спрашивай, не знаю, и никто из женщин не знает. Мужчины тоже не все знают - стерегутся ратники. Твердо сказать могу только одно: наши мужи воинские - христиане-то христиане, но Перуна Громовержца чтят. И есть ведь у христиан свои небесные воины: Георгий Победоносец, архистратиг Михаил, но чем-то они наших вояк не устраивают, чем - не ведаю, да только все новики через тайный обряд посвящения в воины проходят. Только после этого их в десятки берут.
Ты, дочка только не болтай об этом. Не попусти Макошь пресветлая, кто-то из ратников решит, что ты что-то лишнее проведала - удавят в тихом уголке, не задумаются. Строго у них с этим делом.
- Да что ты, мама! Когда это я болтушкой...
- А я говорю: не проболтайся! Одного подозрения им хватит! Хрустнет горлышко и... были уже случаи.
Юлька поежилась, поелозила глазами в темноте избы, придвинулась на лавке поближе к матери и тихонько пискнула:
- Страшно-то как, мамочка. Крестильник, Перун...
- Не бойся, Гуня. - Настена снова обняла дочку за плечи и прижала к себе. - Мы же с тобой ведуньи, так или иначе, но все равно все по-своему повернем. Ведь повернем же? А, Гунюшка?
- Да-а, а если Минька меня не простит? - совсем по-детски протянула Юлька и хлюпнула носом. - Или убьют его?
- А вот на то мы, доченька, и ведуньи, чтобы не допустить ни того, ни другого. Только сделать надо все правильно... Ну-ну, хватит кукситься, сейчас мы с тобой все хорошо обдумаем, решим, как и что, а потом... Да что б мы и не справились? У умной бабы муж на веревочке ходит как... гм, и сам не замечает. А уж у ведуньи-то... Хорошая ведунья не только людьми, а и событиями должна уметь повелевать! Вот мы сейчас и выдумаем, как нам события в нужную сторону повернуть. А потом и повернем, вот увидишь. И не бойся ничего. Перун, там, или не Перун, к этому мы касательства не имеем и голову себе забивать не станем, а Крестильник, если я все правильно угадала, нам поможет.
- Как поможет?
- А так. Крестильник-то духом ой, как крепок был, и уверенности в себе ему не занимать. Это ж надо - грехи всей сотни на себя взять! И сотнику перечить не боялся, а времена тогда были строгие, не то, что сейчас. Вот эта-то крепость духа Михайлу и поддержит, если в нем память пращура пробудилась.
И в тяжести твоей вины Крестильник Михайлову горячность поумерит - уж он-то в жизни всякого повидал, а к старости помягчал нравом, помягчал... Но и ты себя правильно повести должна, не ошибиться ни в коем случае - ни в слове, ни в жесте, ни во взгляде! Все должно быть так же соразмерно и гладко, как при творении лечебного наговора. И точно так же ты должна последствия любого своего слова или действия предвидеть и понимать. Значит, что?
- Что?
- Эх, Гуня, Гуня, да чему ж я тебя учила-то? Ты, когда заговор целебный творишь, для кого это делаешь, для себя или для больного?
- Для больного.
- А если для больного, то что важнее: как это тебе видится или то, что о тебе больной думает?
- То, что больной...
- А когда резать приходится, мы как себя вести должны, чтобы разговоров не пошло, будто нам живого человека полосовать нравится?
- Так что же, мам, все время оглядываться, как бы кто чего не сказал, как бы чего не подумали?
- Да! Все время, а не только, когда лечишь. Постоянно себя спрашивать: " Как я выгляжу? " и " Что обо мне подумают? ".
- Да так только девки, которым замуж пора...
- А нам все время так надо, доченька. Каждый день, каждый час, каждый миг. - Настена улыбнулась в темноте и сдержалась, чтобы не добавить: " Как и всем женщинам, которые настоящими женщинами себя мыслят".
- Да так же с ума сойдешь, мама, все время за собой следить...
- И как же ты до сих пор разум сохранила, среди полутора сотен отроков обретаясь? Или не ты мне хвасталась, что никто из них тебе поперек слова сказать не смеет? Взяла б ты их под свою руку, если бы была такая, как сейчас: с мокрым носом, с писклявым голосом, у меня подмышкой прячущаяся?
- Так то отроки... и Минька приказал.
- Однако ж и ты своим видом и поведением тот приказ подтвердила! И над каждым шагом, над каждым словом не задумывалась - один раз себя поставила, да так дальше и держалась. А, дочка?
- Не знаю, я как-то не задумывалась...
- И очень хорошо, что не задумывалась, так и надо! Запомни: как ты себя понимаешь, так ты и выглядишь. Сама же про Михайлу говорила, что он в Младшей страже властвует так, будто иначе и быть не может, а отроки это чувствуют и подчиняются. Так и ты себя сразу так поставила, что перечить тебе никому и в голову не пришло, а потом ты это ощущение в отроках все время поддерживала - лечением, строгостью, обладанием тайными для них знаниями и... близостью с их старшиной, конечно, тоже.
- Я еще кой-кому и наподдала, как ты показывала... а Минька добавил.
- И это тоже не лишнее, только увлекаться не надо. В меру, все только в меру хорошо.
- Да где она, эта мера-то? Я же Миньку... - вместо окончания фразы последовал горестный вздох.
- А ведь вы с ним похожи, в людских глазах, Гуня.
- Как это?
- Очень просто. Нас, лекарок, опасаются. Нет, уважают, конечно же, некоторые даже искренне любят или благодарны за избавление от хворей. Но живем-то мы не так, как все, знаем что-то такое, что другим недоступно, а все непонятное и необычное у простого человека опасения вызывает. А еще, есть такие, что завидуют нам - власти нашей над людьми, уверенности в себе, особому положению, тебе, доченька, вдобавок, и за то, что Михайла ни на кого, кроме тебя не смотрит. А женихом-то скоро завидным станет!
- Угу, с его-то рожей...
- Ой, ой, ой! Матери-то родной уши не заливай... и не красней, аж в темноте видно!
- Ну, мам!
- Ладно, ладно. Так, вот: завидуют, а некоторые еще и тихо ненавидят. За то, что знаем о них такое, о чем им самим даже и вспоминать неохота. Мне же, бывает, исповедуются почище, чем попу нашему. Сколько в этих стенах слез пролито, сколько тайн открыто, о скольких грехах и тайных пороках поведано... Облегчение-то они получили - иногда ничего и делать не требуется, только выслушать, но помнят, ведь, что кроме них, и я теперь про все это знаю, а как им хотелось бы, что б никто не знал!
Ну, и сплетни, конечно, пересуды, небылицы... Ты, поди, и не догадываешься, что у тебя коса змеей оборачиваться способна? А? У Лушки Силантьевой жены все зубы гнилые из-за того, что я на нее косо посмотрела, а бабка Маланья слепнуть стала, за то, что кричала, будто нам слишком много зерна отдают. Сама потом сына с двумя мешками крупы прислала - извиняться. Правда прозреть не успела - померла в моровое поветрие. И надо ж, все старики от болезни преставились, а бабка Маланья из-за того, что я ее не простила! А еще, после того, как поп наш где-нибудь святой водой покропит, ночью сюда домовые, банники, овинники и прочая мелкая нечисть прибегает - ожоги от святой воды лечить. Еще рассказывать или хватит?
- Хватит. Дураков не сеют, не жнут - сами родятся. - Юлька, несмотря на серьезность затронутой матерью темы, улыбнулась. - У нас там один из сучковских плотников тоже себе по пальцу обухом тяпнул, за то, что меня срамным словом за глаза помянул. Здоровый бугай, старшая дочь уже замужем, а как дите. - Юлька фыркнула и проблеяла козлиным голосом, передразнивая плотника: - Прости меня, девонька, принял кару за язык дурной! Такие искры из глаз летели, чуть пожар не сделался! - Мать и дочь тихонечко похихикали. - А еще, - продолжила Юлька - девки повадились мне новые платья показывать, кто-то им ляпнул, что если я одобрю, то это к жениху хорошему. Приходится хвалить... - Юлька протяжно вздохнула. - А платья, и правда, красивые...
- Будет, будет тебе платье. - Настена ободряюще потрепала дочку ладонью по волосам. - Михайла свою мать уже попросил. Тебе скоро тринадцать исполнится, вот и получишь.
- Правда?
- Правда, правда. Только не проговорись, я молчать обещала. Михайла
|
|