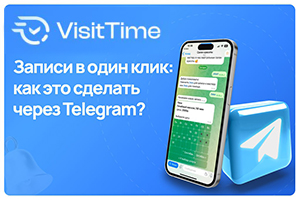Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Замысел стихотворения о последнем дне Помпеи
|
|
В 1834 г. в Петербурге была выставлена для обозрения картина Карла Брюллова «Последний день Помпеи». На Пушкина она произвела сильное впечатление. Он сделал попытку срисовать некоторые детали картины и тогда же набросал стихотворный отрывок.
Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя
Широко развилось, как боевое знамя.
Земля волнуется — с шатнувшихся колонн
Кумиры падают! Народ, гонимый [страхом],
Под каменным дождем, [под воспаленным прахом],
Толпами, стар и млад, бежит из града вон (III, 332).
Сопоставление текста с полотном Брюллова раскрывает, что взгляд Пушкина скользит по диагонали из правого верхнего угла в левый нижний. Это соответствует основной композиционной оси картины. Исследователь диагональных композиций, художник и теоретик искусства Н. Тарабукин писал: «Содержанием картины, построенной композиционно по этой диагонали, нередко является то или другое демонстрационное шествие». И далее: «Зритель картины в данном случае занимает место как бы среди толпы, изображенной на полотне»1.
Наблюдение Н. Тарабукина исключительно точно, и опрос информантов полностью подтвердил, что внимание зрителей картины, как правило, сосредоточивается именно на толпе. В этом отношении характерно мнение дворцового коменданта П. П. Мартынова, который, по словам современника, наблюдая эту картину, сказал: «Для меня лучше всего старик Помпеи, которого несут дети»2. Мартынов был, по словам Пушкина, «дурак» и «скотина» (XII, 336), а его высказывание приводится как анекдотический пример невежества в римской истории. Однако для нас оно, в данном случае, — мнение наивного, неискушенного зрителя, внимание которого приковали крупные фигуры на переднем плане.
На диагональной оси картины расположены два световых пятна: одно в верхнем правом углу, другое — в центре, смещенное в нижний левый угол: извержение Везувия и озаренная его светом группа людей. Именно эти два центра, как показывают эксперименты по пересказу содержания картины, и запоминаются зрителями.
_____________________
1 Тарабукин Н. Смысловое значение диагональной композиции в живописи // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1973. Вып. 308. С. 474, 476. (Труды по знаковым системам. Т. 6).
2 Русский архив. 1905. № 10. С. 256.
Рассмотрение стихотворного наброска Пушкина убеждает, что с самых первых черновых вариантов в его сознании выделились не два, а три смысловых центра картины Брюллова: «Везувий зев открыл — кумиры падают — народ <...> бежит». «Кумиры падают» появляется уже в первых набросках и настойчиво сопровождает все варианты пушкинского текста (III, 945—946). Более того, через два года, набрасывая рецензию на «Фракийские элегии» В. Теплякова, Пушкин, уже явно по памяти восстанавливая картину Брюллова, выделил те же три момента: «...Брюлов, усыпляя нарочно свою творческую силу, с пламенным и благородным подобострастием списывал Афинскую школу Рафаеля. А между тем в голове его уже шаталась поколебленная Помпея, кумиры падали, народ бежал по улице, чудно освещенной Волканом» (XII, 372). Здесь особенно показательно, что слова «кумиры падают» сначала отсутствовали. Пушкин их вписал, что подчеркивает, насколько ему была важна эта деталь.
Если обобщить трехчленную формулу Пушкина, то мы получим: восстание стихии — статуи приходят в движение — народ (люди) как жертва бедствия. Если с этой точки зрения взглянуть на «Последний день Помпеи», то нетрудно понять, что привлекало мысль Пушкина к этому полотну, помимо его живописных достоинств. Когда Брюллов выставил свое полотно для обозрения, Пушкин только что закончил «Медного всадника», и в картине художника ему увиделись его собственные мысли, выработанная им самим парадигма историко-культурного процесса.
Сопоставление «Медного всадника» и стихотворения «Везувий зев открыл...»1 позволяет сделать одно существенное наблюдение над поэтикой Пушкина.
И поэтика Буало, и поэтика немецких романтиков, и эстетика немецкой классической философии исходили из представления, что в сознании художника первично дана словесно формулируемая мысль, которая потом облекается в образ, являющийся ее чувственным выражением. Даже для объективно-идеалистической эстетики, считавшей идею высшей, надчеловеческой реальностью, художник, бессознательно рисующий действительность, объективно давал темной и не сознавшей себя идее ясное инобытие. Таким образом, и здесь образ был как бы упаковкой, скрывающей некоторую единственно верную его словесную (т. е. рациональную) интерпретацию. Подход к творчеству Пушкина с таких позиций и порождает длящиеся долгие годы споры, например, о том, что означает в «Медном всаднике» наводнение и как следует интерпретировать образ памятника.
Пушкинская смысловая парадигма образуется не однозначными понятиями, а образами-символами, имеющими синкретическое словесно-зрительное бытие, противоречивая природа которого подразумевает возможность не
________________________
1 С «Медным всадником» стихотворение Пушкина в несколько другом аспекте сопоставляет и И. Н. Медведева в содержательной статье: «Последний день Помпеи»: (Картина К. Брюллова в восприятии русских поэтов 1830-х годов) // Annali dell'Instituto Universario orientate: Sezione slava. 1968. № 11. P. 89—124.
294
просто разных, а дополнительных (в понимании Н. Бора, т. е. одинаково адекватно интерпретирующих и одновременно взаимоисключающих) прочтений. Причем интерпретация одного из членов пушкинского трехчлена автоматически определяла и соответствующую ему конкретизацию всего ряда. Поэтому бесполезным является спор о том или ином понимании символического значения тех или иных изолированно рассматриваемых образов «Медного всадника».
Мысли Пушкина об историческом процессе отлились в 1830-е годы в трехчленную парадигму, первую, вторую и третью позиции которой занимали сложные и многоаспектные символические образы, конкретное содержание которых раскрывалось лишь в их взаимном отношении при реализации парадигмы в том или ином тексте. Первым членом парадигмы могло быть все, что в сознании поэта в тот или иной момент могло ассоциироваться со стихийным катастрофическим взрывом. Вторая позиция отличается от первой признаками «сделанности», принадлежности к миру цивилизации. От первого члена парадигмы она отделяется как сознательное от бессознательного. Третья позиция, в отличие от первой, выделяет признак личного (в антитезе безличному) и, в отличие от второй, содержит противопоставление живого — неживому, человека — статуе. Остальные признаки могут разными способами перераспределяться внутри трехчленной структуры в зависимости от конкретной исторической и сюжетной ее интерпретации.
Так, в наброске «Недвижный страж дремал на царственном пороге...» в стихах:
Давно ль народы мира
Паденье славили Великого Кумира (II, 310) —
павший кумир — феодальный порядок «ветхой Европы». Соответственно интерпретируется и образ стихии. Ср. в десятой главе «Евгения Онегина»:
Тряслися грозно Пиринеи —
Волкан Неаполя пылал (VI, 523).
Вся парадигма получает историко-политическое истолкование. Показательно, что один и тот же образ-символ облекался с поразительной устойчивостью в одни и те же слова: «Содрогнулась земля, / Столпы шатаются...», «Земля шатается», «Земля содрогнулась — шатнул< ся> (?) град» (III, 946) — в вариантах стихотворения «Везувий зев открыл...»; «Шаталась Австрия, Неаполь восставал» (II, 311) — в «Недвижный страж дремал на царственном пороге...». Замысел стихотворения об Александре I и Наполеоне, видимо, должен был включать торжество «кумира» («И делу своему Владыка сам дивился» — II, 310). Образ железной стопы, поправшей мятеж, намечает за плечами Алек-
________________________
1 Восприятие образа пылающего Везувия как политического символа было распространено в кругу южных декабристов. Пестель на одной из своих рукописей 1820 г. аллегорически изобразил неаполитанское восстание в виде извержения Везувия (рисунок воспроизведен в кн.: Пушкин и его время: Исследования и материалы. Л., 1962. Вып. 1. С. 135.
295
сандра I фигуру фальконетовского памятника Петру. Однако появление тени Наполеона, вероятно, подразумевало предвещание будущего торжества стихии; ср.:
...миру вечному свободу
Из мрака ссылки завещал (II, 216).
Возможность расчленения «кумира» на Александра I (или вообще живого носителя комплексной образности этого компонента парадигмы) и Медного всадника (статую) намечена уже в загадочном (и, может быть, совсем не таком шуточном) стихотворении «Брови царь нахмуря...»:
Брови царь нахмуря,
Говорил: «Вчера
Повалила буря
Памятник Петра» (II, 430)1.
Здесь даны компоненты: буря — памятник — царь, причем последний выступает не как борец со стихией, а скорее как ее жертва. Соотнесенность позиций парадигмы придавала ей смысловую гибкость, позволяя на разных этапах развития пушкинской мысли актуализировать различные семантические грани. Так, если в стихии подчеркивалась разрушительность, то противочлен мог получать функцию созидательное™, иррационализм «бессмысленной и беспощадной» стихии акцентировал на противоположном смысловом полюсе момент сознательности2. В варианте начала 1820-х гг. и в набросках стихотворения «Везувий зев открыл...» «кумиры» были пассивны, носителем действия является «волкан». В сознании, стоящем за «Медным всадником», это столкновение двух сил, равных по своим возможностям. Падение статуи заменяется ее оживлением. А это связывается с активизацией третьего компонента — человеческой личностью и ее судьбы в борении двух сил.
Таким образом, в стихотворении «Везувий зев открыл...» активное движение приписано стихии, статуи «падают», народ «бежит». В «Медном всаднике» стихия бессильна поколебать монумент, памятник наделен собственной способностью двигаться (действовать), народ (человек) — жертва и разбушевавшейся стихии, и памятника. Глагол «бежит» настойчиво под-
________________________
1 Возможность такого раздвоения заложена в пушкинском понимании образа статуи как явления, двойственного по своей природе. Ср.:
Каким он здесь представлен исполином!
Какие плечи! что за Геркулес!...
А сам покойник мал был и тщедушен, Здесь став на цыпочки не мог бы руку
До своего он носу дотянуть (VII, 153).
Ср.: Якобсон Р. О. Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987.
2 Поскольку движение декабристов никогда не выступало в сознании Пушкина как стихийное, истолкование наводнения в «Медном всаднике» как аллегории 14 декабря, введенное Д. Д. Благим, представляется натянутым, не говоря уж о том, что емкие символические образы, которыми мыслит Пушкин, по природе своей исключают прямолинейный аллегоризм.
очеркивается в коллизии «Евгений — Нева», и при столкновении его с Медным всадником:...видит лодку; Он к ней бежит... (V, 144).
Знакомой улицей бежит... (V, 144)
Изнемогая от мучений,
Бежит... (V, 144)
И вдруг стремглав
Бежать пустился. (V, 148)
И он по площади пустой
Бежит... (V, 148)
Однако большая активность «кумира» в «Медном всаднике» связана и с активизацией поведения «человека», попыткой Евгения протестовать.
Последняя интересная трансформация триады встречается нам в «Сценах из рыцарских времен». Здесь стихия представлена народным бунтом, власть — металлом лат и доспехов рыцарей и камнем их замков. Человеческое начало воплощено в поэте (resp. ученом) — личности, ищущей свое место в борьбе «натиска пламенного» и «отпора сурового». В этом варианте исторической парадигмы стихия показана как бессильная перед железом и камнем (бессилие стихии бунта вассалов против железных рыцарских панцирей и камня их замков). Одновременно эти последние символизируют наиболее косное, лишенное всякого движения историческое начало. Возможность башен «взлететь на воздух» в начале заявлена как ироническая метафора того, что никогда не произойдет. Однако ум человека изобретает порох и печатный станок («артиллерия мысли» — высказывание Ривароля, полюбившееся Пушкину), которым камни бессильны противостоять. В этом варианте парадигмы в бегство обращена стихия («Вассалы. Беда! Беда! <...> (Разбегаются)» — VII, 234), а подобный извержению Везувия взрыв замка («Siege du chateau. [Bertgold] le fait sauter» — VII, 348) — дело личности, типологически родственной Евгению «Медного всадника». При этом еще раз следует подчеркнуть, что и в «Медном всаднике» столкновение образов-символов отнюдь не является аллегорией какого-либо однозначного смысла, а обозначает некоторое культурно-историческое уравнение, допускающее любую историко-смысловую подстановку, при которой сохраняется соотношение структурных позиций парадигмы. Пушкин изучает возможности, скрытые в трагически противоречивых элементах, составляющих его парадигму истории, а не стремится нам «в образах» истолковать какую-то конечную, им уже постигнутую и без остатка поддающуюся конечной формулировке мысль.
Смысл пушкинского понимания этого важнейшего для него конфликта истории нам станет понятнее, если мы исследуем все реализации и сложные трансформации отмеченной нами парадигмы во всех известных нам текстах Пушкина. С этой точки зрения особое значение приобретает не только образ бурана, открывающий сюжетный конфликт «Капитанской дочки» («„Ну барин", — закричал ямщик, — „беда: буран! "» — VIII, 287), но и то, что
Пугачев одновременно и появляется из бурана, и спасает от бурана синева. Соответственно в повести он связывается то с первым («стихийным»), то с третьим («человеческим») членами парадигмы. Расщепление второго компонента на дополнительные (т. е. совместимо-несовместимые) функции приводит в «Медном всаднике» к чрезвычайному усложнению образа Петра: Петр вступления, Петр в антитезе наводнению, Петр в антитезе Евгению — совершенно разные и несовместимые, казалось бы, фигуры, соответственно трансформируют всю парадигму и одновременно сливаются в единый многоплановый образ. Совмещение несовместимого порождает смысловую емкость.
Таким образом, существенно, чтобы сохранился треугольник, представленный бунтом стихий, статуей и человеком. Далее возможны различные интерпретации при проекции этих образов в разные понятийные сферы. Возможна чисто мифологическая проекция: вода (=огонь) — обработанный металл или камень — человек. Второй член, например, может получать истолкования: культура, ratio, власть, город, законы истории. Тогда первый компонент будет трансформироваться в понятия «природа», «бессознательная стихия». Но это же может быть противопоставление «дикой вольности» и «мертвой неволи». Столь же сложными будут отношения первого и второго компонентов парадигмы к третьему. Здесь может актуализироваться то, что Гоголь называл «бедным богатством» простого человека, право на жизнь и счастье которого противостоит и буйству разбушевавшихся стихий, и «скуке», «холоду и граниту», «железной воле» и бесчеловечному разуму. Но сквозь него может просвечивать и эгоизм, превращающий Лизу из «Пиковой дамы» в конечном итоге в заводную куклу, повторяющую чужой путь. Однако ни одна из этих возможностей никогда у Пушкина не выступает как единственная. Парадигма дана во всех своих потенциально возможных проявлениях. И именно несовместимость этих проявлений друг с другом придает образам глубину незаконченности, возможность отвечать не только на вопросы современников Пушкина, но и на будущие вопросы потомков.
___________________
1 Фактически Пугачев как мужицкий царь, альтернативный Екатерине II глава государства, вовлечен и во второй семантический центр триады. Однако следует подчеркнуть, что каждой из названных структурных позиций присуща своя поэзия стихийного размаха — в первом случае, одическая поэзия «кумиров» — во втором, поэзия Дома и домашнего очага — в третьем, но и в каждом конкретном случае признак поэтичности может быть акцентирован или остаться невыделенным. Подчеркнутая поэзия стихийности в образе Пугачева делает эту позицию для него доминирующей. В образе Екатерины II, совмещающем вторую и третью позиции, поэтизация почти отсутствует. Пушкин виртуозно владеет поэтическими возможностями всех трех позиций и часто строит конфликт на их столкновении. Так, в «Пире во время чумы» поэзия стихии (чума, которая приравнивается к бою, урагану и буре) сталкивается с поэзией разрушенного очага и суровой поэзией долга. Игра совпадением-несовпадением структурных позиций и присущих им поэтических ореолов создает огромные смысловые возможности. Так, «домашние» интонации царя (Александра I) в «Медном всаднике» в сопоставлении с домашними же интонациями в описании Евгения и одической стилистикой Петра I создают впечатление «царственного бессилия».
Подключение к исследуемой системе противопоставлений других важнейших для Пушкина оппозиций: живое — мертвое, человеческое — бесчеловечное, подвижное — неподвижное в самых различных сочетаниях1, наконец, «скользящая» возможность перемещения авторской точки зрения — также аксиологический критерий. Достаточно представить себе Пушкина, смотрящего на празднике лицейской годовщины 19 октября 1828 г., как тот же Яковлев-«паяс», который до этого «очень похоже» изображал петербургское наводнение, «представлял восковую персону»2, то есть статую Петра (вне всякого сомнения, комизм игры Яковлева был в сочетании неподвижности с движением), чтобы понять возможность очень сложных распределений комического и трагического в пределах данной парадигмы.
Контрастно-динамическая поэтика Пушкина определяла не только жизненность его художественных созданий, но и глубину его мысли, до сих пор позволяющей видеть в нем не только гениального художника, но и величайшего мыслителя.
______________________
1 Кроме «естественного» сочетания «живое—движущееся—человечное» возможно и перверсное «мертвое—движущееся—бесчеловечное». Приобретая образ «движущегося мертвеца», второй член может получать признак иррациональности, слепой и бесчеловечной закономерности — тогда признак рационального получают простые «человеческие» идеалы третьего члена парадигмы Таким образом, одна и та же фигура (например, Петр в «Медном всаднике») может в одной оппозиции выступать как носитель рационального, а в другой — иррационального начала А то или иное реальное историческое движение — размещаться в первой и третьей позициях (ср. образ Архипа в «Дубровском» и слова из письма Пушкину его приятеля Н М. Коншина, бывшего свидетелем бунта в Новгородских поселениях: «Как свиреп в своем ожесточении добрый народ русской' жалеют и истязают, величают вашими высокоблагородиями и бьют дубинами, и это все вместе» — XIV, 216). Коншин увидел в этом лишь то, что в народе «не видно ни искры здравого смысла» (Там же). Для Пушкина же раскрылась глубокая противоречивость реальных исторических сил, «уловить» которые можно лишь с помощью той предельно гибкой, включающей, а не снимающей контрасты модели, которую способно построить подлинное искусство.
2 Рукою Пушкина М, Л, 1935 С 734 Соотношение «представлений» Яковлева с замыслом «Медного всадника» кажется очевидным, однако не в том смысле, что Яковлев дал Пушкину своей игрой идею поэмы, а в противоположном; созревавшая в сознании Пушкина историко-культурная парадигма определила превращение «сценок» Яковлева в толчок мысли поэта, подобно тому как она определила истолкование им «Последнего дня Помпеи» Брюллова.
Из размышлений над творческой эволюцией Пушкина (1830 год)
Все творчество Пушкина после рокового 1825 г. было посвящено поискам новых духовных путей. Понять историю, жизнь, окружающий мир для Пушкина означало обнаружить их скрытый смысл. Таково обращение к жизни:
Я понять тебя хочу, Смысла я в тебе ищу (III, 250)
Непосредственным итогом размышлений о 14 декабря было стремление возвыситься над субъективизмом личных привязанностей и симпатий и взглянуть «на трагедию взглядом Шекспира» (XIII, 259). Результатом явилась выработка того исторического взгляда на действительность, который сделался одной из основ мировоззрения зрелого Пушкина. «Историзм предполагает понимание исторической изменяемости действительности, поступательного хода развития общественного уклада, причинной обусловленности в смене общественных форм», — писал Б. В. Томашевский1. Идея исторической закономерности психологически была связана с чувством принятия действительности («примирения», как стали говорить десять лет спустя), стремлением оправдать реальность. На основе этого вырастало убеждение в том, что в истории победивший всегда прав не только правотой грубой материальной силы, но и причастностью к скрытым законам истории.
Когда-то Руссо, выражая дух XVIII в., противопоставлял истории теорию: Греции, писал Руссо в трактате «Об общественном договоре», «в своих рассуждениях» «видит основание права в существовании соответствующего факта. Можно было бы применять методу более последовательную, но никак не более благоприятную для тиранов»2. Теперь именно факт представляется вещественным выражением спонтанного смысла истории, а умозрительные теории — плодом «мелочного и суеверного» субъективизма. История всегда права, и взгляд, брошенный с дистанции века («Прошло сто лет — и что ж осталось / От сильных, гордых сих мужей...»), всегда представляет конечный и непререкаемый суд. Закономерность события даже примиряла с жестокостью, необходимость оправдывала кровавые эксцессы истории. Описывая Полтавское сражение, Пушкин, как было уже много раз отмечено, ориентировался на оды Ломоносова. Но Ломоносов писал:
Великой похвалы достоин,
Когда число своих побед
_____________________
1 Томашевский Б В Пушкин. Материалы к монографии. М; Л, 1961 Кн 2' (1824—1837) С. 155.
2 Руссо Ж.-Ж Трактаты. М, 1969 С 153.
Сравнить сраженьям может воин
И в поле весь свои век живет, Но ратники, ему подвластны, Всегда хвалы его причастны, И шум в полках со всех сторон
Звучащу славу заглушает,
И грому трубея мешает
Плачевный побежденных стон
В «Полтаве» же «плачевный побежденных стон» звучит приглушенно. Конечно, Пушкин слишком глубоко связан с гуманистической традицией XVIII в., чтобы мысль о человеческой цене исторических законов совсем его покинула. Уже в черновиках шестой главы «Евгения Онегина» встречается формула: «Герой, будь прежде человек». Чувство это никогда не исчезало из мира Пушкина. Но в концептуальном сознании поэта оно временно отступило на второй план.
Конец 1828-го — 1929 г — сложное и мучительное для Пушкина время: осложнения отношений с правительством в связи с делами об «Андрее Шенье» и «Гавриилиаде», запутанные личные переживания, метания в треугольнике Москва — Малинники — Петербург, попытки вырваться из душившего его круга поездкой куда угодно: в Париж, в Китай, в действующую армию — все это мучительно сочеталось с творческим перепутьем. Не случайно на этот период приходится большое число незавершенных замыслов, колебания в определении пути развития сюжета «Евгения Онегина».
В дальнейшем творческом пути Пушкина, видимо, очень значительную роль сыграла до сих пор не оцененная в должной мере поездка на Кавказ в действующую армию в мае — сентябре 1829 г.2 Ю. Н. Тынянов показал, что отношение Пушкина к кампании 1828—1829 гг. было сложным и далеким от апологетического. Вернее, в этом вопросе можно отметить известную динамику. В феврале (?) 1828 г. Пушкин написал «Друзьям»3, где среди положительных действий царя называл:
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами (III, 89)
Апологетический отклик на Ацрианопольский мир, подписанный 2 сентября 1829 г., представляет собой неоконченное «Опять увенчаны мы славой...». Стихотворение проникнуто той поэзией исторической мощи и «географической риторикой», которая характерна для этого направления пушкинской лирики и найдет свое продолжение в «Клеветникам России». Однако то, что поэт не окончил его и не отдал в печать, несмотря на оказывавшееся на него интенсивное давление, свидетельствует об испытываемых им колебаниях в оценке событий. На войну на Балканах можно было смотреть в исторической перспективе: Николай отказался принять Пушкина в действующую армию, и поэт поневоле
______________________
1 Ломоносов М В Поли собр. соч. В 10 т М, Л, 1959 Т 8 С 202.
2 См Тынянов ЮНО путешествии в Арзрум // Тынянов Ю Н Пушкин и его современники М, 1969
3 Письмо, в котором Бенкендорф извещал Пушкина относительно мнения Николая I об этом стихотворении, помечено 5 марта.
оценивал события как посторонний наблюдатель. А это всегда способствует исторической объективности. Войну в Закавказье Пушкин видел вблизи, ft это была первая война, которую он наблюдал своими глазами. При наблюдении вблизи история отступала на второй план, а формула «герой, будь прежде человек» приобретала тем больший смысл, что на пустующей должности «героя» оказывался пустой и тщеславный Паскевич. Дегероизация исторического мышления сплеталась с деромантизацией художественного сознания Пушкина. Это отразилось в замене героической поэзии, посвященной арзрумскому походу (чего от Пушкина ждали и требовали), путевым очерком неопределенной формы.
Однако ошибочно отождествлять впечатления от кавказской поездки Пушкина только с «арзрумским» ее эпизодом. Все обстоятельства ее оживляли в памяти воспоминания лета 1820 г. и переживания, отразившиеся в «Кавказском пленнике». Первая кавказская поэма Пушкина постоянно как бы присутствует в его сознании в это время. 2 мая 1828 г. вышло в свет второе издание «Кавказского пленника». В «Путешествии в Арзрум» находим прямое упоминание первой кавказской поэмы: «Здесь нашел я измаранный список Кавказского Пленника и признаюсь, перечел его с большим удовольствием. Все это слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено верно» (VIII, 451). По смыслу текста можно предположить, что «измаранный список» был найден во время ночевки в Ларсе. Черновик дает попытки как-то объяснить нахождение этого текста. Пушкин вписал «у коменданта?», но отбросил всякие пояснения, а заодно и важное соотнесение с новыми впечатлениями: «Сам не понимаю, каким образом мог я так верно хотя и слабо изобразить нравы и природу, виденные мною издали» (VIII, 1040). Видимо, упоминание это было автору очень важно, если он внес его ценой явных отклонений от подлинных событий. Реальная основа эпизода восстанавливается на основании воспоминаний М. В. Юзефовича: «С Пушкиным был походный чемодан, дно которого было наполнено бумагами». Именно здесь Юзефович и Л. С. Пушкин «отрыли, между прочим, прекрасный, чистый автограф „Кавказского пленника"». Таким образом, Пушкину незачем было искать у кого-то «измаранный список» «Кавказского пленника» — он находился в его чемодане. И, видимо, попал туда не случайно: отправляясь на Кавказ, поэт хотел сопоставить впечатления. Как мы видели, общая оценка была благоприятной. Однако можно предположить, что не все в поэме показалось автору выдержавшим испытание временем.
15 мая 1821 г. Пушкин написал эпилог к «Кавказскому пленнику», в котором воспевал покорение Кавказа: «Смирись, Кавказ: идет Ермолов!» (IV, 114). Строки эти вызвали резкий протест П. А. Вяземского, который писал А. И. Тургеневу: «Мне жаль, что Пушкин окровавил последние стихи своей повести. Что за герой Котляревский, Ермолов? Что тут хорошего, что он:
...как черная зараза,
Губил, ничтожил племена?
________________________
1 А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 106.
302
От такой славы кровь стынет в жилах и волосы дыбом становятся. Если мы просвещали бы племена, то было бы что воспеть. Поэзия не союзница палачей»1. Однако мнение Вяземского не совпадало в этом вопросе с установками декабристов. Б. В. Томашевский даже высказал осторожное предположение, что укрепить Пушкина в его мыслях, высказанных в эпилоге «Кавказского пленника», могла беседа с Пестелем2.
Путешествие на Кавказ в 1829 г. вызвало у Пушкина совершенно другие мысли. Война предстала как безусловное зло. В равной мере злом рисовалась и ее психологическая основа — атмосфера взаимной вражды и нетерпимости, стремление решать исторические задачи в обстановке ненависти, силой оружия. Ю. Н. Тынянов обратил внимание на стихотворение «Делибаш», где схватка приводит не к победе какой-либо стороны, а к взаимному истреблению обеих:
Мчатся, сшиблись в общем крике...
Посмотрите! каковы?..
Делибаш уже на пике,
А казак без головы (III, 199).
Стихотворение посвящено русско-турецкой войне. Но и проблемы Кавказа рисуются Пушкину теперь иначе, чем в 1820—1821 гг.: «Черкесы нас ненавидят [и Русские в долгу не остаются]. — Мы вытеснили их из привольных пастбищ — аулы их разрушены — целые племена уничтожены» (VIII, 1034).
Цикл стихотворений, связанный с поездкой на Кавказ, ничем не напоминает «балканских» стихотворений 1829 г. Совершенно неожиданно центральными мотивами его оказываются Дом и Монастырь. Военная тема реализуется как мотив возвращения домой:
Приготовь же. Дон заветный,
Для наездников лихих
Сок кипучий, искрометный
Виноградников твоих (III, 176).
Тот же мотив и в «Был и я среди донцов...». Смысл стихотворения раскрывается при сопоставлении его с отрывком из путевых записок, не вошедшим в «Путешествие в Арзрум», где путешественник слушает рассказы донских казаков о поведении жен во время пребывания мужей на войне и о ситуациях, возникающих после их возвращения домой. Война здесь непосредственно сталкивается с Домом: «А скажи, прервал его молодой арт< иллерийский> офицер, не родила ли у тебя жена во время отсутствия — Ребята говорят, что нет, отвечал веселый урядник. А не <...> ли без тебя — Помаленьку, слышно, <...> — Что ж побьешь ты ее за это — А зачем ее бить? Разве я безгрешен». И дальше: «Моя родила, отвечал он стараясь скрыть свою досаду — А кого Бог дал — Сына — Что ж, брат, побьешь ее — Да посмотрю, коли на зиму сена припасла, так и прощу, коли нет — так побью. <...> Это заставило меня размышлять о простоте казачьих нравов» (VIII, 1044—1045).
________________________
1 Остафьевский архив кн. Вяземских. Спб., 1899. Т. 2. С. 274—275.
2 Томашевский Б. В. Пушкин. М.; Л., 1956. Кн. 1. С. 407—408.
303
Поскольку для Пушкина собственные матримониальные планы всегда/ связывались с простонародностью, «хозяйкой» и «щей горшком», с переходом из круга онегинских представлений в мир бытовых традиций, то вряд ли можно усмотреть в этих стихотворениях только решение стилистических задач, хотя возможность «другого голоса» в искусстве всегда связывалась у него с возможностью другого пути в жизни, и в этом отношении противопоставление новых путей в той и другой сфере теряет смысл.
Стихотворение «Обвал», являющееся на поверхностном сюжетном уровне пейзажной зарисовкой, посвященной поразившему воображение поэта реальному случаю, может быть прочтено и в ином ключе. Сквозь все наброски этого цикла проходит тема ущелья — тесного и глубокого, мрачного пути:
Страшно и скучно.
Здесь новоселье, Путь и ночлег
Тесно и душно.
< >
Небо чуть видно, Как из тюрьмы (III, 203)
И вот ущелье мрачных скал. (III, 202)
Меж горных < стен> <? > несется Терек... (III, 201)
Ущелье связывается с неволей, тьмой, теснотой. Образ тюрьмы появляется здесь не случайно. Ему противостоит положение поэта на вершине («Кавказ подо мною. Один в вышине...»), что неизменно связывается с ощущением свободы. «Обвал» построен на противопоставлении двух путей — ущелья и воздушного пути:
Где ныне мчится лишь Эол,
Небес жилец (III, 198)
Завершается этот цикл органически, но достаточно неожиданно для Пушкина, стихотворением «Монастырь на Казбеке». Здесь воздушный путь приводит к совершенно новому в творчестве Пушкина — соседству Бога:
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!... (III, 200)
Намеченные в «Кавказском цикле» темы приобретут в дальнейшем в поэзии Пушкина особое значение: тема Дома уже в 1829 г. вызовет обращение к гимну из Саути «Еще одной высокой, важной песни...» и станет одним из родовых признаков лирики 1830-х гг., ко второй теме восходят такие важные тексты, как «Отцы пустынники и жены непорочны...» и все тематически с ними связанные.
С путешествия на Кавказ началась для Пушкина та эпоха потрясений, вехами которой сделались холера и бунты 1830—1831 гг., революции в Париже и Брюсселе и, наконец, польское восстание и — за всеми этими событиями возникающая — тень новой пугачевщины.
304
Время, когда Пушкин оказался в Болдине, отрезанный карантинами от ^столичной жизни — между 3 сентября и 5 декабря 1830 г., — оказывается \водоразделом и общественных впечатлений, и личной жизни поэта. Здесь на ^Гребне высшего творческого напряжения создается цикл «маленьких трагедий» — квинтэссенция всего, что можно охарактеризовать как перелом от творчества 1820-х гг. к 1830-м. 23 октября (по старому стилю) 1830 г. окончен «Скупой рыцарь», 26 октября — «Моцарт и Сальери», 4 ноября — «Каменный гость», 6 ноября — «Пир во время чумы». Анализу этих произведений традиционно уделяется значительное внимание1. Мы хотим лишь остановиться на единстве всего цикла и на связи его с общими тенденциями развития Пушкина.
Сквозная тема всех «маленьких трагедий» — непримиримость вражды, ненависть, приводящая к убийству. Эта тема уже определилась, как прекрасно показал В. Л. Комарович, в «Тазите»2. Комарович проследил, как замысел этнографической поэмы, соревнования с самим собой в точности описания быта и нравов горцев, заменяется идеей столкновения культур. Сюжетом поэмы становится вытеснение логики вражды и кровавой мести логикой христианской цивилизации, несущей мораль истинного просвещения. Позже, в 1836 г., публикуя в «Современнике» рассказ Казы-Гирея «Долина Ажитугай», Пушкин сопроводил его заметкой, в которой писал: «...любопытно видеть, как Султан Казы-Гирей (потомок крымских Гиреев), видевший вблизи роскошную образованность, остался верен привычкам и преданиям наследственным, как русской офицер помнит чувства ненависти к России, волновавшие его отроческое сердце; как, наконец, магометанин с глубокой думою смотрит на крест, эту хоругвь Европы и просвещения» (XII, 25). Просвещение противостоит ненависти, порождаемой историческими конфликтами. А христианство — основа и сущность европейского просвещения.
Новое, что открылось Пушкину во время путешествия 1829 г. и что решительно отличало его историческое мышление этого этапа от предшествующего, была мысль о том, что непримиримая ненависть враждующих сторон покоится на субъективной правоте каждой из них «со своей точки
________________________
1 Обзор литературы см Пушкин- Итоги и проблемы изучения М, Л, 1966. С. 456—457 Из более поздней литературы см. Бонды С Моцарт и Сальери // Бонди С О Пушкине: Статьи и исследования. М., 1978. С 242—309, Аринштейн Л М Пушкин и Шенстон: (К интерпретации подзаголовка «Скупого рыцаря») // Болдинские чтения Горький, 1980 С 81—95; Чумаков Ю Н Ремарка и сюжет: (К истолкованию «Моцарта и Сальери») // Там же 1979 С. 48—69 (здесь же в подстрочном примечании — новейшая литература вопроса); Он же Два фрагмента о сюжетной полифонии «Моцарта и Сальери» // Там же 1981. С. 54—68, Панкратова И Л., Хализев В Е Опыт прочтения «Пира во время чумы» А С Пушкина // Типологический анализ литературного произведения. Кемерово, 1982 С 53—66 Развернутые концепции всего цикла в целом см Макогонечко Г П Творчество А С. Пушкина в 1830-е годы (1830—1833). Л., 1974. С. 153—240; Маймин Е А Философская поэзия Пушкина и любомудров // Пушкин Исследования и материалы Л, 1969 Т. 6 С. 110—113, Томашевский Б В Пушкин- Материалы к монографии М, Л, 1961 Кн. 2 С 510—520
2 Комарович В Л Вторая кавказская поэма Пушкина // Пушкин Временник Пушкинской комиссии. М, Л, 1941 Вып 6
305
зрения». При непримиримости вражды нет виноватых, и каждая из сторон может сослаться на святые для нее принципы. Непримиримость ненависти, субъективная оправданность преступлений и столкновение «своей» морали с некоторой бесспорной высшей нравственностью, конфликт между моральный ми принципами участников истории и ее собственным нравственным смыслом — таковы организующие линии «маленьких трагедий». И, с этой точки зрения, можно утверждать, что последовательность их создания, ставшая в дальнейшем композиционной основой публикации цикла после смерти автора, не случайна. Одновременно есть серьезная логика и в том, что Пушкин выделил «Моцарта и Сальери» и «Пир во время чумы», отдав их в цензуру почти одновременно осенью 1831 г., «Скупого рыцаря» опубликовал лишь в 1836 г. в «Современнике», а «Каменного гостя» вообще не напечатал, видимо рассчитывая включить его в какой-то будущий том «Современника» (автобиографические мотивы сомнительны).
Рассмотрим драмы в порядке их написания.
В «Скупом рыцаре» и «Моцарте и Сальери» есть персонажи резко отрицательного плана, персонажи, не вызывающие никаких сомнений относительно оценки их автором. Однако достаточно сопоставить Барона или Сальери с Мазепой, чтобы увидеть глубокое различие. Мазепа лишен поэзии, читатель ни на минуту не может переместиться в его внутренний мир, между тем и монолог Барона, и речи Сальери не только заставляют читателя взглянуть на мир их глазами, но и в какой-то момент почувствовать величие их трагизма.
В обеих пьесах показан механизм убийства (в «Скупом рыцаре» — его эквиваленты: ложный донос отца на сына и вызов его на дуэль, готовность сына к дуэли с отцом). Смысл обращения Пушкина к подобным сюжетам, в конечном счете, до сих пор получал одно из двух объяснений. Первое было высказано Г. А. Гуковским и сводилось к тому, что в «Маленьких трагедиях» автор демонстрирует детерминированность индивидуальных страстей исторической средой. «...Формы душевного воплощения даже самых интимных, индивидуальных, „внеобщественных" страстей все же историчны, то есть зависят в своем составе и характере от исторических причин, от объективного бытия эпохи, то есть производны от среды». «Барон и Сальери <...> не осуждены и не прославлены, но сформировавшие их исторические системы Пушкин осуждает. Нельзя смешивать концепцию „невменяемости" (в юридическом смысле) личности, как она, скажем, выразилась у Пушкина в болдинских драмах, с „антиморализмом" романтического байронического типа...» И далее: «...ужасный век формирует ужасные сердца. Характеры образуются эпохой»2.
Концепция эта, хотя и затрагивает некоторые существенные стороны реалистической поэтики 1830—1840-х гг., в корне противоречит сути пушкинской позиции. Представляя человека пассивным порождением среды, она
________________________
1 Гуковский Г. А Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957. С. 300 301.
2 Там же. С. 319
306
снимает вопросы индивидуальной свободы и индивидуальной моральной ответственности, основные для Пушкина. Именно способность противостоять «ужасному веку», «железному веку», «жестокому веку», не подчинить ему свою нравственность и свободу выбора поступков составляет для Пушкина 1830-х гг. самую сущность человека.
Старейший пушкинист С. М. Бонди, полемизируя с Г. А. Гуковским (хотя и не называя его), противопоставляет усложненным построениям литературоведов опыт простого психологического прочтения болдинских драм. Исходя из утверждения, что «маленькие трагедии» — драмы и предназначены для сцены, а не для чтения, С. М. Бонди прибегает к методу психологической реконструкции мизансцен и домысливанию жестов героев, в чем он видит ключ к психологическим мотивировкам их действий. Так, «Скупой рыцарь» для него — драма патологически развившейся скупости. Остальные мотивы поведения Барона он склонен считать самообманом: «Мечты о власти над всем миром, которую дает ему накопленное им богатство, — это утешительная подмена подлинной, постыдной страсти накопительства, скупости. Все действия и слова Барона показывают это. Ведь он уже накопил почти шесть сундуков золота (не маленьких шкатулок, а больших сундуков!) и имеет полную возможность наконец удовлетворить свою страсть — непомерное властолюбие! Почему же он этого не делает? Он объясняет это так:
… Я выше всех желаний; я спокоен; Я знаю мощь мою. с меня довольно
Сего сознанья. (курсив С. М. Бонди)
Это совершенно неправдоподобно». Стремление автора увидеть в «маленьких трагедиях» раскрытие темных «глубин человеческой психики» и изображение «жалкой, постыдной скупости» Барона или «позорной и преступной» зависти Сальери2 приводит к несколько наивным выводам.
Мы не останавливаемся на других работах (как указанных в примечаниях, так и не упомянутых), хотя во многих из них содержится ряд весьма примечательных мыслей. Это увело бы нас от непосредственной цели работы.
Рождение вражды, приводящей к гибели обеих сторон, становится одним из основных мотивов исторических размышлений Пушкина. В «Скупом рыцаре» вражда эта разводит отца и сына, и хотя физически гибнет лишь один из них, ситуация:
Делибаш уже на пике,
А казак без головы —
могла бы служить мрачным эпиграфом к «сценам из Ченстоновой трагикомедии». В исследовательской литературе неоднократно отмечалось, что сюжет
________________________
1 Бонди С. М О Пушкине. С 253.
2 Там же. С. 307. Односторонне-негативную характеристику Барона находим и в книге Г. П. Макогоненко, который видит в нем «драму бессилия всемогущего богача» (Указ. соч. С. 211), «низменность и подлость извращенной натуры Барона» (Там же. С. 215) Это невольно напоминает известное место из романа Булгакова (см Булгаков М Белая гвардия Театральный роман Мастер и Маргарита М., 1973 С. 584).
307
пьесы основан на столкновении двух принципов: скупости — порождения денежного века и чести — фундамента рыцарской морали. Такая трактовка была впервые предложена Г. А. Гуковским и затем многократно повторялась. Однако в изложении Гуковского Пушкину приписывается фаталистический взгляд на зависимость характера человека от среды, и, следовательно, в столкновении двух веков — буржуазного (Г. А. Гуковский применяет к Барону именно этот термин) и средневекового — непримиримость автоматически заложена в самом ходе событий, и «нет виноватых». На самом деле, по Пушкину, «виноваты оба», и гарантия этической невменяемости не выдается никому.
Барон в пьесе следует принципу накопительства. Жажда денег, жадность для него — не физиологическая страсть, а принцип, от которого он не отступается. Этот принцип ужасен, и следование ему приводит Барона к чудовищным поступкам. И все же неуклонность в служении своему принципу придает ему черты дьявольского величия. Эпитет «жалкий», который ^так охотно расточают в адрес Барона исследователи, менее всего к нему подходит, и каждый читатель это чувствует непосредственно.
Превратив накопительство в принцип. Барон служит ему, и никакое человеческое чувство не в силах совратить его с этого пути. Поэтому его не может разжалобить вдова «с тремя детьми» (VII, 111). Ее страдания он считает (совершенно искренне) притворством, ибо несчастьем считает не нужду — сам он терпит нужду, обладая сокровищами, — а необходимость расстаться с деньгами. Золото для него превращено в принцип: оно не средство, а цель и воспринимается эстетически («Какой волшебный блеск!» — VII, 112). Барон, который «пьет воду, ест сухие корки» (УД, 106), не в пошло-бытовом, а в философском смысле — эпикуреец, и Пушкин наделяет его высказываниями эпикурейцев - либертинцев. Его червонцы не «служат страстям», а спят
сном силы и покоя,
Как боги спят в глубоких небесах (VII, 112), —
то есть как боги Эпикура. И сам он стремится не к реальному обладанию, а к сознанию возможности обладания. Его удовлетворяет потенциальная власть при реальном воздержании. Цель его — спокойствие и отсутствие желаний, которые он может удовлетворить.
Я выше всех желании; я спокоен,
Я знаю мощь мою с меня довольно
Сего сознанья 2 (VII, 111)
________________________
1 Об отношении реплики Барона к эпикурейской и либертинской традициям см в наст изд. статью «Заметки к проблеме „Пушкин и французская культура"»
2 «Это совершенно неправдоподобно, — пишет Бонди, сводя философский софизм к бытовой ситуации — Можно ли представить себе такое человек охвачен страстной любовью к женщине, которая его не любит и добиться любви которой он не может. Он долго мучается < > и наконец добивается своего — она готова ответить на его любовь И тут он вдруг отступает, отказывается от своей идеи он спокоен, он знает Мощь свою, с него довольно сего сознанья Возможно ли это7» (Бонди С М О Пушкине С 253)
308
С этих позиций невозможно никакое чувство, требующее отступления от принципа, в том числе и сочувствие расточительному сыну. И сама философия нужна Барону не для того, чтобы выбрать путь (который давно выбран), а лишь чтобы с помощью ее софизмов оправдать свой всепожирающий принцип. Пушкин писал об Анджело Шекспира, что он «обольщает невинность сильными, увлекательными софизмами» (XII, 160). Барон обольщает себя, превращая страсть в идею. Эта идея преступна, но не лишена своей поэзии.
Альбер — тоже человек идеи, но другой: его идея порождена рыцарской эпохой. Это Честь — значительно более благородная и привлекательная идея. Она подразумевает верность слову и храбрость, расточительство и гордость. Следуя ей, можно отдать последнюю бутылку вина больному кузнецу и повесить ростовщика на воротах. Она запрещает тайное убийство, но вполне разрешает явное. При сопоставлении с отцом Альбер явно выигрывает. И все же он принимает вызов Барона на смертельный поединок (в отличие от Г. П. Макогоненко, я не вижу ничего комического в этой сцене: «Откровенно комедиен вызов отцом на дуэль своего сына», — пишет исследователь1). Он жаждет крови оклеветавшего его отца в такой же мере, в какой дрожащий за свое золото Барон жаждет гибели сына. В этот момент они уравнены, как казак и делибаш:
Герцог
Что видел я? что было предо мною?
Сын принял вызов старого отца!
В какие дни надел я на себя
Цепь герцогов! Молчите ты, безумец, И ты, тигренок! полно (Сыну) Бросьте это, Отдайте мне перчатку эту (отымает ее)
Альбер (aparte)
Жаль
Герцог
Так и впился в нее когтями! — изверг! (VII, 119)
Корень преступления не в том, что принцип Барона плох, а принцип Альбера все же несколько лучше, а в том, что ни отец, ни сын не могут встать каждый выше своего принципа. Они растворены в них и утратили свободу этического выбора. А без этого нет нравственности. Отсутствие свободы безнравственно и закономерно рождает преступление. Еще более очевидно это при анализе «Моцарта и Сальери». Барон и Альбер порабощены принципами, из которых даже лучший может быть оправдан лишь в узких рамках определенной исторической ситуации. В «Моцарте и Сальери» Пушкин подвергает анализу, казалось бы, нечто совершенно бесспорное — искусство. Может ли искусство, превращенное в абстракцию, самодовлеющий принцип, быть поставлено выше простой отдельной человеческой жизни?
________________________
1 Макогоненко Г П Указ соч. С 217
309
Сальери — талантливый музыкант: Моцарт называет его гением. Сальери наделен тонким чувством музыки и в этом даже, возможно, превосходит Моцарта. Он ценит Моцарта выше, чем Моцарт себя:
Ты, Моцарт, недостоин сам себя...
Его понимание музыки отмечает сам Моцарт:
Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! но нет: тогда б не мог
И мир существовать... (VII, 127, 133)
Но именно это понимание недосягаемости гения Моцарта рождает у Сальери смертельную зависть к нему, профессиональный страх потерять с таким трудом завоеванное первенство в мире искусства. Однако от чувства зависти до убийства — «дистанция огромного размера». Показать, что мирный и вполне респектабельный музыкант из чувства зависти превращается в убийцу, значило бы пропустить какие-то важнейшие психологические звенья цепи. И Пушкин показывает механизм убийства, его психологическую историю.
Сальери не просто талантливый музыкант — он и мыслитель, способный к «сильным, увлекательным софизмам». Не будь он мыслителем, он не стал бы убийцей. Первый шаг — мысль глубокая и трагическая, и более того — мысль, которая не может не прийти в голову человеку, если он утратил уже непосредственную детскую веру, — мысль о несправедливости всего мироустройства. Высказанная прямо и устало, не как только что озарившая догадка, а как давно выстраданная истина, она не может не привлечь сочувствия читателя:
Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет — и выше (VII, 123).
Следующий шаг — в разделении Моцарта: великого музыканта («священный дар», «бессмертный гений») и недостойного шаг совершается дальше: Сальери противопоставляет музыку музыканту, и музыка, возвышенная до абстрактной идеи, оказывается чем-то неизмеримо более ценным, чем эмпирическая данность живой человеческой жизни. В развитие этой идеи, как оказывается, следует решать, имеет ли тот или иной человек право на жизнь. При этом право на жизнь определяется лишь пользой, которую человек может принести торжеству отвлеченной идеи. Сальери дважды повторяет: «Что пользы, если Моцарт будет жив?», «Что пользы в нем?» И ставит роковой, с его точки зрения, вопрос:
Подымет ли он тем искусство?
Ответ «нет» есть для него и приговор Моцарту. Итак, чтобы сделать решающий шаг к убийству, надо обезличить человека, осмыслив его как временное вместилище некоей абстракции, после чего вопрос уже сводится к простому взвешиванию, что принесет больше пользы — его жизнь или уничтожение.
Но кто же будет решать этот вопрос?
Мы все, жрецы, служители музыки, —
то есть те, кто присвоил себе право говорить от имени идеи и ради этого убил в себе все простое и человеческое. Сальери не циник, он прямой предшественник Великого Инквизитора, и страшные слова «мало жизнь люблю» звучат в его устах искренне, что, например, отличает его от Анджело.
В отличие от Сальери, Моцарт любит жизнь. Он гениальный музыкант, но он и простой человек: играет на полу со своим ребенком, слушает слепого скрипача и не облекает свой музыкальный дар в жреческие одежды. Его сила именно в том, что он «недостоин сам себя». Сальери предан благороднейшему из принципов — принципу искусства, но ради него он перестал быть человеком. Моцарт — человек. Пушкин не раз говорил о «простодушии Гениев» (VIII, 420). Моцарт — гений и поэтому по-человечески простодушен.
Итак, с одной стороны, жесткая последовательность в подчинении жизни абстракциям. И чем благороднее эта абстракция, тем легче скрыть за ней — даже от самого себя — эгоизм личных страстей. С другой — свобода гения, который не втискивает жизнь в ложе догм и принципов. В высоком смысле гений выходит из этого столкновения победителем, но в практической жизни он беззащитен.
В сознании Пушкина выстраивается синонимический ряд: жесткие принципы («неподвижные идеи» — «Пиковая дама») — камень — смерть. И другой: жизнь — способность к изменению и выходу за любые границы — гений — любовь. Застывание жизни (ср.: Германн «окаменел», «мертвая старуха сидела, окаменев» — VIII, 240, 245), превращение живого в камень и оживание мертвого («Гроб разбился. Дева вдруг / Ожила» — «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; «Петушок спорхнул со спицы» — «Сказка о золотом петушке»). Особо стоит образ движущегося неживого (камень, металл)1. Соединение несоединимого создает образ псевдожизни. Вся эта система образов соединяет «Каменного гостя» с проблематикой всего цикла, хотя и ставит его несколько особняком2.
Дон Жуан и Командор сталкиваются как две противоположности. В первом как бы воплощена сама жизнь в ее причудливости и ненависти к ограничениям, во втором — человекоподобный камень. Это противопоставление лежит на
________________________
1 О мифологии камня, воды и огня у Пушкина см. в наст. изд. статью «Замысел стихотворения о последнем дне Помпеи».
2 Указанная оппозиция могла получить и еще одну интерпретацию: односторонне серьезному взгляду, исключающему в своем догматизме шутку, иронию, игру, противостояло совмещение серьезного с игрой, трагического с забавным. В конечном итоге это сводилось к антитезе догмы и человека. В стилистическом плане оно же выражалось в противостоянии заказного одического «восторга» или догматической серьезности — простоте и жизненной правде. Если иметь это в виду, то «Домик в Коломне» с его принципиальным отказом от «воспевания» и серьезности одической или моралистической окажется органически связан с «Моцартом и Сальери» и вообще с тем, что волновало Пушкина в «маленьких трагедиях». Ирония повествования, свободный переход от пародии к трагически звучащей лирике оказывались стилистическим адекватом гуманистической проблематики. Этим «Домик в Коломне» и «Повести Белкина» обнаруживают глубинную связь с драматургией болдинской осени. То, что в одном случае предстает как идейно-философская проблема, в другом решается на стилистическом уровне.
311
поверхности. К поверхностному слою относятся также антитеза сконцентрированного вокруг Дон Жуана смыслового поля любви и семантики долга, связанной с Командором. Долг привязывает Дону Анну к памяти мужа:
Вдова должна и гробу быть верна (VII, 164).
То же относится и к Командору:
... Дон Альвар уж верно
Не принял бы к себе влюбленной дамы,
Когда б он овдовел — он был бы верен
Супружеской любви (VII, 164)
На основании этих противопоставлений можно сделать (и это делалось) сопоставление культурно-исторических ситуаций, стоящих за указанными персонажами. Вытекающие из такого анализа выводы хорошо известны. Однако хотелось бы обратить внимание на то, что персонажи «Каменного гостя» противостоят героям «Скупного рыцаря» чрезвычайной внутренней противоречивостью характеров, и подведение их под какой-либо жесткий «тип» искажает самый замысел Пушкина.
Наиболее очевидно это в характеристике Лауры. Лаура непостоянна. Однако это свойство еще не создает трудностей в оценке ее образа, так как непостоянство сделано ее постоянным признаком. Значительно сложнее характер Дон Гуана. Вся предшествующая традиция связала это имя с идеей разврата и образом соблазнителя. Он — «хитрый Искуситель», «безбожный развратитель», «сущий демон». «Искуситель» с заглавной буквы (да еще и «демон») вызывает образ дьявола. А дьявол — отец лжи. И следовательно, Дон Гуан задан как хладнокровный и лживый имитатор любви, обманывающий с помощью «обдуманности» и «коварства» «бедных женщин». И такой пласт в характере героя есть. О Дон Гуане можно сказать, как и об Анджело, что «он обольщает невинность сильными, увлекательными софизмами» (XII, 160). Готовая тактика и застывшие формулы любовных признаний целиком принадлежат «миру камня», догматизму. Соблазн равен убийству. Ср.: «Разврат, бывало, хладнокровный / Наукой славился любовной» («Евгений Онегин»); «Письмо содержало в себе признание в любви: оно было нежно, почтительно и слово в слово взято из немецкого романа» («Пиковая дама»). Однако Пушкин парадоксально соединяет с этими качествами искренность, способность каждый раз переживать «первую любовь». «Как я любил ее!» — об Инезе столь же искренне, как и ответ Доне Анне: «Ни одной доныне / Из них я не любил» (VII, 139, 169). Дон Гуан как бы соединяет Сальери и Моцарта, он несет в себе и жизнь и смерть. Он хочет хладнокровно соблазнить Дону Анну, а между тем страстно в нее влюбляется и оживляет ее, до встречи с ним полностью замурованную в мире камня («гробница», «мраморный супруг», она рассыпает «черные власы на мрамор бледный» — таков ее мир), как Пигмалион Галатею.
Командор — «каменный гость» уже по самому определению, — казалось бы, должен быть воплощением какой-то одной застывшей идеи. Однако и он «не умещается в себе» (Барон и Альбер тоже внутренне противоречивы, но их противоречия принадлежат не им, а противоречивости «ужасного века»,
от которого и зависят их «ужасные сердца»; противоречия Командора иной природы: здесь сталкиваются мрамор и человек).
Именно это противоречие — первое, на что обращено наше внимание:
Каким он здесь представлен исполином!
Какие плечи! что за Геркулес!...
А сам покойник мал был и щедушен,
Здесь став на цыпочки не мог бы руку
До своего он носу дотянуть (VII» 153).
Противоречие между каменным и живым человеком, носящим одно и то же имя и являющимся чем-то единым, дополняется внутренним противоречием личности Командора-человека: он был «мал» и «щедушен». Во время поединка
Наткнулся мне на шпагу он и замер,
Как на булавке стрекоза.. (VII, 153)
Оксюморонное сочетание физической хилости и звания командора (т. е. обладателя высшей орденской степени, что подразумевало рыцарские доблести и плохо вязалось с телесной слабостью) мало ощущается современным читателем, но для пушкинской эпохи, конечно, имело значение. Но еще важнее противоречие между слабостью плоти и силой духа Командора:
...а был
Он горд и смел — и дух имел суровый... (VII, 153)
Дон Гуан непрестанно третирует памятник, как человека, и более того, как мужа красивой женщины, соблазнить которую он намеревается. Роль мужа в сознании ветреной молодежи смешна (ср. из письма Пушкина А. П. Керн: «...все же следует уважать мужа, — иначе никто не захочет состоять в мужьях. Не принижайте слишком это ремесло, оно необходимо на свете» — XIII, 212, 545). И Дон Гуан смеется над памятником:
Пора б уж ей приехать. Без нее —
Я думаю - скучает командор (VII, 153).
Он называет статую человеком:
Ты думаешь, он станет ревновать?
Уж верно нет; он человек разумный
И верно присмирел с тех пор, как умер. (VII, 159)
Поставить мужа сторожить жену и ее любовника во время свидания — забавная проделка с точки зрения повесы (ср. комическую разработку этого сюжета в новелле Достоевского «Чужая жена и муж под кроватью»). Однако Лепорелло видит в Командоре статую — существо другого мира: «Статую в гости звать! зачем?» Постоянная подмена живого мертвым и мертвого живым придает образу Командора двойственность, роднящую его с его антиподом — Дон Гуаном. У этой родственности глубокие корни. В окончании стихотворения «Воспоминание» есть строки:
________________________
1 См.. Якобсон Р О Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Якобсон Р. О. Работы по поэтике. М., 1987. С 170.
313
...говорят мне мертвым языком
О тайнах счастия и гроба (III, 651).
Здесь тайны счастья и гроба, любви и смерти поставлены рядом и уравнены тем, что они — тайны. Тайны счастья, воплощенные в Дон Гуане, и гроба, весть о которых несет Командор, тяготеют друг к другу. Общее в них — стремление заглянуть за «недоступную черту».
Все персонажи «Каменного гостя», так или иначе связанные с темой любви, наделены любопытством. Чувство это для Пушкина относилось к сладострастию любви: О нет, мне жизнь не надоела, Я жить люблю, я жить хочу...
<...>
Еще хранятся наслажденья
Для любопытства моего (III, 447).
Любопытство толкает Дон Гуана на кощунственные проделки. Дону Анну — на роковые вопросы мнимому Диего («Я страх как любопытна...» — VII, 166).
Любопытство — стремление перейти границу дозволенного. И это роднит любовь — чувство, льющееся через край, и смерть — дверь в потустороннее. И любопытство заглянуть за эту дверь тем сильнее у Дон Гуана, что он вольнодумец («безбожный Дон Гуан», по словам монаха, «безбожник и мерзавец», как называет его Дон Карлос). Соприкосновение вольнодумца с потусторонним миром — один из основных мотивов оперы Моцарта «Дон Жуан». Присутствует он и в «Пиковой даме»: «Имея мало истинной веры, он [Германн] имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь...» (VIII, 246).
Жизнь и смерть даны в «Каменном госте» и в их антитетичности, и в их соотнесенности.
Гибель Дон Гуана — это фактически самоубийство человека, превратившего стремление перейти за все рубежи в основу жизни и бросившегося в пропасть.
И кто в избытке ощущении,
Когда кипит и стынет кровь,
Не ведал ваших искушений —
Самоубийство и Любовь! 1
Цикл завершается «Пиром во время чумы», явившимся одновременно и итогом болдинской осени. Основные сквозные образы «драматических сцен» получают здесь новое истолкование. Дон Гуан как бы трансформируется в Вальсингама. Но он свободен от аморализма своего предшественника. Скорбный тост в память Джаксона, ласково-нежное обращение с Мери, задумчивый комментарий к ее песням еще до того, как мы узнаем о его нежной любви к памяти покойной жены и об отчаянии на могиле матери, рисуют нам образ, очищенный от цинической бравады Дон Гуана. Более того, в тексте
______________________
1 Тютчев Ф. И. Лирика. В 2 т. М., 1966. Т. 1. С. 147.
есть и прямое противопоставление. Как бы аналогом Дон Гуана является чувственная и дерзкая Луиза. В момент, когда проезжает телега с трупами, Луиза теряет сознание, и это дает основание для знаменательной реплики Председателя:
Ага! Луизе дурно; в ней, я думал —
По языку судя, мужское сердце.
Но так-то — нежного слабей жестокой, И страх живет в душе, страстьми томимой! (VII, 178)
Дон Гуана влечет к «тайнам гроба», но в душе его живет страх перед ними. Это то чувство, о котором Барон говорил: «приятно и страшно вместе». Блок имел основание интерпретировать пушкинский текст стихом: «Страх познавший Дон Жуан». В этом отношении характерно изменение финальной сцены, которое внес Пушкин по отношению к моцартовской опере, хорошо известной его читателям (на это знание был рассчитан эпиграф) и служившей пушкинскому тексту своеобразным архетипом. В опере финальная сцена дает нам Дон Жуана спокойно ужинающим, Лепорелло выходит на стук и вбегает обратно в комнату с воплем: «А!» У Пушкина роль и ужас Лепорелло переданы Дон Гуану.
Дон Гуан
Прощай же, до свиданья, друг мой милый. (
Уходит и вбегает опять)
А!.. (VII, 170)
В душе Дон Гуана, «страстьми томимой», «страх живет».
Вальсингам вызывает чуму на бой, потому что победил страх перед ней. Победа над страхом дается в награду за полную свободу, которая делает для человека опасность, борьбу и смерть результатом его собственного выбора, а не навязанных ему извне обстоятельств. Это — порыв полной и окончательной личной свободы, подчиняющей судьбу и обстоятельства.
Пути Председателя противопоставлен путь Священника. Р. Н. Поддубная в интересной статье, посвященной «Пиру», утверждает, что Священник «выступает не как идеолог религии, а как защитник гуманизма»1. Достаточно представить себе невозможную подстановку на место Священника какого-либо гуманиста-философа, чтобы понять необоснованность этого утверждения. Священник отвергает путь индивидуальной свободы и указывает путь веры. Священник так же, как и Вальсингам, призывает победить страх. Но если для Председателя свобода и торжество над страхом смерти даются ценой победы над обстоятельствами, то Священник зовет к победе над собой. Происходит интересная трансформация. Священник требует от пирующих, чтобы они вернулись домой. Но дом их уже не Дом («Дома у нас печальны»). Для Пушкина традиционно Дом связывался с Пиром (ср. во «Вновь я посетил...» связь отеческой земли и «приятельской беседы»). Пир имел высокое значение и связан был со святыней дружбы и радостью (вопреки мнению
______________________
1 Поддубная Р. Н. «Пир во время чумы» А. С. Пушкина: Опыт целостного анализа идейно-художественной структуры // Studia Rossica Posnaniensia. 1979. Т. 8. Р. 29.
И. Л. Панкратовой и В. Е. Хализева, эпитеты «безумные пиры», «безумная юность» не несут отрицательной окраски); кроме того, в «Вакхической песни» Пир связывается с мудростью и торжеством разума. Но в «маленьких трагедиях» перед нами цепь перверсных пиров: «пир» Барона перед сундуками, «пир», за которым Сальери убивает Моцарта, «пир», на который Дон Гуан приглашает Командора. Если в заключении цикла должна была быть пьеса об Иисусе, то там мы стали бы, видимо, зрителями трех пиров: Петрония, Клеопатры и тайной вечери. В «Пире во время чумы» Дом перенесен на улицу, а пустой «бывший» Дом, вернуться в который призывает Священник, по сути Монастырь — место уединенной печали и размышления. Антитеза Дома и Монастыря, радости вопреки всему и высокой печали, дерзости и покаяния остается не сведенной. Однако спор Председателя и Священника, их напряженный диалог исключителен в контексте «маленьких трагедий» — он лишен взаимной враждебности. Пути у них разные, воззрения антагонистические, но враг один — смерть и страх смерти. И завершается их спор уникально: каждый как бы проникается возможностью правоты антагониста. Священник благословляет Вальсингама: «Спаси тебя Господь! Прости, мой сын», а Председатель, среди пира, «остается, погруженный в глубокую задумчивость» (VII, 184)1.
Драматические сцены Болдина в известном отношении могут быть рассмотрены как единый текст: некие исходные образы и комплексы идей подвергаются в них варьированию, трансформациям и в своей вариативности раскрывают глубокие корни размышлений Пушкина на решающем водоразделе его творчества.
1988
_____________________
1 На это указали И Л. Панкратова и В. Е Хализев в тонкой и содержательной, но исключительно субъективной статье, построенной на привнес
|
|