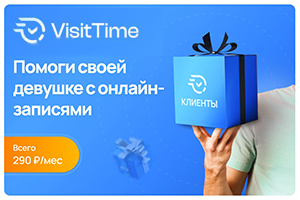Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Закономерность случайности
|
|
Его Величество Случай, на первый взгляд, являет собой продукт произвольного стечения обстоятельств, да и задумываться об этом не всегда приходится, поскольку Случай очень часто бывает всего лишь эпизодом, к которому неприемлемы какие-либо формулы и закономерности.
Случай возникает из ничего и уходит в никуда, порой даже не оставляя в памяти серьёзной зазубрины. И только спустя время появляется возможность разглядеть всю масштабность случившегося когда-то давно события, сброшенного в былом на ту полку сознания, где невостребованным балластом пылится всякая мелочёвка. Тогда и приходит понимание того, что в жизни нет ничего незначительного, и во всём происходящем есть сокровенный и скрытый от нас до времени, а может и навсегда, смысл.
Эпизоды выстраиваются в стройную цепь, звенья которой взаимосвязаны великой и непостижимой нам волей, определяющей в кажущемся нам хаосе случайностей строгость закономерности.
Я не помнил о том происшествии, что случилось одной из дождливых ночей во время нашего стояния лагерем между Катыр-Юртом и Ачхой-Мартаном. Точнее сказать, для меня этот эпизод даже не был событием, достойным внимания, и спустя почти двенадцать лет я фотографически точно воспроизвёл в памяти только второстепенные элементы, запавшие в душу.
Бухтияров Саша, наш замкомвзвода Михалыч, давно уже перебравшийся на житьё в далёкий сибирский город, выбрался к нам на «юга», в Минеральные Воды, влекомый сюда необходимостью решения семейных вопросов. Он живёт у меня, и я рад этой встрече, потому что в ней оживают в воспоминаниях события давно прошедших лет, в очередной раз воскресают в сознании лица и действия умерших или погибших товарищей. Мы переживает снова всё то, что, казалось, осталось позади, и через это становимся моложе.
Скребётся память по душе, скребётся до дрожи в руках, но затормозить адреналиновый конвейер уже невозможно. Мы снова оживаем в измерении пространства прошедшего времени, потому что привязаны к нему, потому, что только в нём наша настоящая жизнь. И всё остальное в эти мгновения не просто ушло на второй план, оно перестало существовать, бесследно исчезнув за пределами нашего мира.
Меня всегда удивляла Сашкина житейская рассудительность, пропитанная простой и отточенной крутыми виражами судьбы философией. Работа, военное волонтёрство, искреннее участие в казачьем движении, снова война, ранение, через год — следственная тюрьма, срок и лагерь, спустя шесть с половиной лет освобождение в никуда, а он неизменно остаётся таким же мудрым Михалычем, каким мы знали его в прошлом. Он никогда не ропщет на жизнь, и даже время отсидки не вычёркивает из своей жизни:
— Бог меня как будто в монастырь отправил. Полное послушание, режим, отсутствие женщин и соблазнов…
Наверное, за эту философскую стойкость Господь и любит его. Сане уже за пятьдесят, у него молодая красивая жена, дочурке годик с хвостиком, есть дом, машина и работа. Что ещё нужно человеку для полного счастья?
«Ныряю» в подвальчик, достаю очередную бутылку вина. Разливаю по стаканам.
— Третий? — спрашивает Михалыч.
— Да…
Встаём из-за стола, читаю молитву:
— Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, зде ныне нами поминаемых, праотцев, сродников, братьев, на поле брани убиенных, и всех, от века почивших, и прости им прегрешения вольныя и невольныя, и даруй им Царствие Небесное…
Пьём вино, вспоминаем о тех, кто погиб в ту войну, кто споткнулся о свою смерть позже, говорим о живых. Михалыч спрашивает меня о судьбах тех, с кем мы шли в девяносто шестом одной дорогой, и его интерес — не просто любопытство. Он, прокручивая мои слова, вновь возвращается в былое, сопереживая удачи и неудачи товарищей, да и я, рассказывая ему о людях сегодняшнего дня, заставляю память окунуться в прошлое.
— А как полковник-пограничник поживает? Помнишь такого? — не унимается Михалыч.
— Как же, помню… Только вот ни разу за это время мы не пересекались. Да и у ребят я о нём не спрашивал…
Полковник-отставник — дядька годов пятидесяти от роду, служил в нашей роте на непонятной нам должности. Точнее, в соответствии с его званием должности и быть в роте не могло, и служил он фактически простым бойцом. Держался особняком, был немного с «чудинкой», да мы особо и не допытывались, какая у него штатная должность, и что входит в его служебные обязанности. Командир роты — капитан Женя Богачёв, привлекал иногда полковника для решения организационных вопросов, дабы поддержать статус старшего офицера, но было это не часто, и все тяготы и лишения он нёс наравне с остальными бойцами. Нам было понятно, что легче рядовому бойцу встать на офицерскую должность, чем офицеру на солдатскую, поэтому особо не лезли в душу и не допытывались о том «что, как и почему».
— Ты помнишь, как он стрельбу открыл ночью? — спрашивает Михалыч.
Напрягаю извилины:
— Когда?
— Мы под Ачхой-Мартаном стояли, полковник был в секрете, а бойцы его вовремя не поменяли…
— Да, да, конечно помню, — отвечаю Сашке, и в памяти возникает совершенно осязаемая картинка из той ночи, до сегодняшнего дня мною не вспоминаемая.
От палаточного лагеря до оросительного канала было шагов тридцать, за ручейком была насыпь, по всей видимости, оставшаяся после работ по прокладке русла этого канала. Насыпь, кое-где поросшая густым кустарником, отделяла наш мир от пустоты пространства, лежавшего за пределами нашей маленькой Вселенной. Здесь то и были вырыты казаками норы, в которых и располагались ночные секреты, с интервалом в сорок-пятьдесят шагов друг от друга протянувшиеся по насыпи правее.
Перед нами спала унылая в серости пожухлой травы смерть — минное поле, окаймлённое раздолбанными лесополосами, запутанными густой сетью «растяжек». Вдалеке, в недосягаемой нереальности почти миража, находился Ачхой-Мартан — большое мирное село, нетронутое войной, куда (по неясной договорённости между кем и кем?) военнослужащим группировки вход был воспрещён. Впрочем, в эту ночь мы огней не видели. Шёл мелкий моросящий дождь, было уныло от прилипающей к подошвам грязи и от невозможности присесть на вырытую в окопчике земляную ступеньку.
Мы с товарищем несли дежурство вдвоём с двенадцати часов ночи. Всегда хорошо, когда рядом кто-то есть — до полуночи казаки заступали на службу по одному. В таком секрете маета! Не с кем даже словом перекинуться…
Что входило в наши функции, мы понимали с трудом. Не хотелось верить, что какая-то муха сможет проскочить в нашу сторону через совершенно непроходимое, как нам объясняли, минное поле. Левее нас были целые пролёты, которые «срочники», стоявшие за нашим батальоном, не охраняли, однако по привычке казаки «ломали» глаза в непросматриваемую чёрную дыру поля, и напрягали слух, который навряд ли мог помочь в условиях непрекращающегося шелеста дождя.
Смотрю на часы. Без десяти минут два. Шепчу напарнику:
— Пойду разбужу смену.
Мне в радость пройти и размяться, да и оставшееся время быстрее пройдёт.
Казаки, выползая из спальных мешков, глянув на часы, не торопятся. Не спеша обувшись и покурив, они, проверенно растягивая минуты, выдвигаются к каналу, и, скользя по размокшему склону, громким шёпотом матерятся. Бойцы знают своё дело, и менять нас будут ровно в два, ни минутой раньше.
Мой напарник слышит, как они неторопливо идут к насыпи, и решил взять над ними моральный реванш:
— Стой, три целых четыре сотых!
Звуки чавкающих в грязи шагов стихли. Люди ещё толком не проснулись, и просчитать цифру отзыва на пароль было для них неимоверно сложно. Очнувшись, огрызаются:
— Вы что там, поохренели?
Встречаем смену с нескрываемым злорадством:
— Давайте, давайте, просыпайтесь…
Через несколько минут для нас наступает мгновение блаженства — мы спускаемся в палатку. Она вкопана в землю, печка находится уровнем ниже, и к ней ведут две ступеньки, на которые можно удобно усесться.
В нашем жилище жарко. Ставим обувь поближе к раскалённому металлу, сбрасываем бушлаты.
Товарищ заползает в спальник и вскоре присоединяется к ночному «хору» спящих обитателей палатки — мастеров всевозможных звуков.
Открываю дверцу печки, подбрасываю поленья, и пламя, облизывая их, заплясало в своём тесном жилище, бликами заиграв на закопчённом чайнике. Разминаю папиросу, закуриваю. Мне просто хорошо…
Это и есть тот момент абсолютного и маленького по своему объёму и значимости счастья, в котором не хочется не только что-либо предпринимать, но даже думать, что бы не нарушить тонкую прозрачную пелену, отделяющую блаженство наступившего покоя от всего остального мира. Нирвана…
Плохое забывается быстро, и двухчасовое стояние на дожде — это уже не более чем тень, нереальная фантазия, идущая в разрез с наступившим моментом.
Выбрасываю окурок, закрываю дверцу печки, но перейти в горизонтальное состояние мне не удаётся.
— Стой! — послышался в ночи крик. Вслед за ним раздался одиночный выстрел, спустя мгновение ещё один.
Хватаю автомат и, втискивая ноги в сапоги, выбегаю из палатки. Рядом засуетились ещё какие-то казаки.
— Что случилось?
Разобрались в ситуации быстро. В одной из «нор» с десяти часов вечера в одиночестве нёс службу полковник. Бойцы — его сменщики — проспали, и в полночь в секрет не заступили. Ну а старый служака, поскольку он был человеком строгих правил, пост не мог оставить, и поэтому, проклиная смену, вымокший до нитки, лелеял в душе мысль о расплате с нерадивыми бойцами.
Казаки очнулись от «богатырского» сна в начале третьего, и, выползая из тепла палатки в сырость, будто пленные румыны на этапе, с неохотой поплелись к ручейку. Полковник, в сердцах стрельнув поверх голов, моментально привёл их в чувство…
Не смотря на прошедшие с той ночи годы, я смог в подробностях вспомнить трагикомичное событие, связанное с полковником, но, как оказалось, масштабы этого эпизода оценить тогда в действительности никто не мог. Мы просто не могли знать всего…
Выпиваем с Михалычем ещё по стакану вина, закусываем.
— Ты помнишь, как через несколько минут после того, как полковник начал стрелять, вдалеке сработали две «растяжки»? — спрашивает он меня.
— Что-то такое было…
Я не мог тогда придать этому должного значения. Частенько бывало, что в разных краях пространства между Катыр-Юртом и Ачхой-Мартаном, в расположении как нашего батальона, так и других подразделений, постреливали или же из стрелкового оружия, или же из подствольников, то ли от скуки, то ли для острастки. Тем более что, услышав выстрелы, сделанные полковником, кто-то из соседей мог их просто поддержать.
На следующий день были разные версии, в том числе обсуждалась и возможность взрыва «растяжек». Кто-то сказал, что это могли быть и выстрелы из подствольника, но по большому счёту, мусолить невнятную тему очень скоро стало неинтересно, и она практически сразу забылась.
Почему Михалыч спустя столько времени вытянул эту «пустышку» на свет Божий?
Ну да, забавный эпизод, иллюстрация того, как «срывает крышу» на службе…
— Я точно знаю, это были «растяжки», — с напором сказал Санёк. — Я хорошо слышал их. Серёга Николаев на следующий день хотел проверить лесополосу, но не решился сунуться на минное поле…
У Михалыча хороший слух и замечательная память.
— Да, наверно, это были «растяжки», — поддерживаю я его, а он продолжает историю, которая, как мне думалось, давным-давно исчерпала себя.
— У нас в «лагере» боевиков несколько человек сидело. Все знают, что тот или другой из зэков воевал на стороне или же федералов, или же боевиков, но друг друга в зоне расспрашивать об этом не принято. Но некоторые боевики, зная, что я казак, и воевал в Ермоловском батальоне, сами кое-что рассказывали. Так вот я сидел вместе с балкарцем, который в ту ночь ранение получил. Боевики под прикрытием дождя решили пощупать казаков, и пошли по проходу через минное поле. Когда они услышали выстрелы, то решили, что это их засекли, ну и «ломанулись» назад, а по ходу в запарке сорвали две «растяжки». Вот так полковник сдуру казаков спас…
— Да-а-а, а ведь могли «духи» подойти вплотную…
Я отчётливо вспоминаю, как ёжились мы на холоде в «секрете», считая минуты, и думая только о том, что бы быстрей отстоять свои два часа.
Схема события выглядела гениально просто. Невидимый режиссёр разыграл замечательную комбинацию с участием проспавших казаков, нервного и уставшего полковника и боевиков, решивших сделать вылазку именно в эту ночь. Действительно, нет ничего в мире беспричинного, всё имеет свою закономерность и своё значение.
Приходя к постепенному осознанию грандиозности замысла Творца, уместившего в коротком промежутке времени совершенно нелепое для человеческого восприятия событие, в котором сконцентрировалось моё и моих товарищей: «Быть, иль не быть?», я благодарю Того, Кто уберёг нас не только от опасности, но и от сопереживания её близкого присутствия…
Вокруг нас была выстроена невидимая стена, через которую не могло проникнуть не только зло, но даже весть о нём.
Для чего это было сделано? Где ключ от кода безграничной Воли, которая снизошла своим вниманием к нашим судьбам? Как разгадать весь ход смоделированных невидимой рукой эпизодов, из которых слагается человеческая жизнь?
Нам не дано проследить всю высшую логику Вселенского сознания, проявившуюся в переплетении больших и малых событий как одной человеческой судьбы, так и всего сущего на Земле. Для этого недостаточно обладать каким-либо объёмом человеческих знаний.
Как нам понять, почему Он в ту ночь сохранил жизнь не только казакам, но и сорвавшему «растяжку» боевику-балкарцу, шедшему убивать нас?
И один в поле воин…
Очень много слышал я от людей, видевших войну и прошедших через неё, и оставшихся, при этом невредимыми, о солдатской удаче — качестве, помогавшем всегда и во всём. Такие люди, в большинстве случаев, не задумываются о причине своего везения, считая это или же делом случая, или же свойственной только ему закономерностью, являющейся природным качеством человека, пусть даже редким, таким, как исключительный слух или же зрение.
Многие бойцы, отдавая должное товарищам, погибшим и ныне здравствующим, вполне правильно считают, что остались живы благодаря тем, кто прикрывал в бою справа, слева и со спины, и действительно, хорошее взаимопонимание в подразделении, отработанное до беспрекословности «чувство локтя», нередко были залогом успеха в любой боевой ситуации.
Реже я слышал слова благодарности Ангелу-хранителю за ту незримую, но очень действенную помощь, которую он оказывал в неординарных ситуациях воину, покровителем которого является. Пропитанная сугубым материализмом армейская жизнь вопреки всему прорастает всё больше и больше ростками православного миропонимания, и христианский мистицизм всё больше проникает даже в сознание людей, старающихся при всяком удобном случае подчеркнуть то, что они являются атеистами.
Я не могу объяснить, как остался цел и невредим в Грозном во время первого боя и затем, через три дня, когда выбегал на плоскую крышу производственного здания, ловя в прицел гранатомёта гнездо снайпера, обстреливаемый со всех сторон противником. Реально меня не мог тогда прикрыть никто из наших бойцов, даже при великом желании сделать это, и фактически я был один, сталкиваясь лоб в лоб со Смертью.
Ещё один счастливый для меня «билет» выпал 21 марта под Старым Ачхоем, когда мы, не догадываясь того, вышли на оказавшуюся пристреленной дорогу, находящуюся сравнительно далеко от «передка». Не ожидая какой-либо пакости, командир отдал нам приказ залечь по всей протяжённости грунтовки. Казаки понимали, что всё ещё впереди — надо пересечь лесок, пройти миномётную батарею «федералов», и только тогда риск для жизни будет ощутим.
Грело весеннее ласковое солнце, погода была настроена совсем не по военному, и бойцы, разморившиеся на тёплой земле, не подозревали о возможном сюрпризе.
Очередь АГС-17 легла чётко по тому месту, где лежали казаки, и мы, не вступив ещё в бой, понесли серьёзные потери. И мне опять «повезло» — две гранаты ткнулись в землю рядом со мной. Находившиеся поблизости Коля Резник, Андрей Клевцов и Саша Бухтияров получили осколочные ранения, а мне Бог дал возможность пройти и увидеть весь кошмар боя за маленький аул Старый Ачхой, в котором боевики пожгли не одну единицу техники, и откуда домой, в «цинке», уехал не один десяток молодых пареньков-«срочников».
А как объяснить всё то, что было со мной при штурме Орехово 29 марта 1996 года, когда я, вчера утром ещё проснувшийся простым бойцом — гранатомётчиком, отвечающим только за свою жизнь и за РПГ-7, сегодня уже нёс ответственность перед Богом за судьбы казаков всего взвода?
Войдя в село и уткнувшись в плотный огонь боевиков, ермоловцы, с первых минут боя понеся большие потери, упрямо вгрызались в позиции противника.
Командир роты машет мне рукой, увожу своих казаков с центральной улицы вправо, через большой двор, окружённый каменной стеной, к садам. Наша задача — зайти к боевикам с фланга, но и здесь мы попадаем под вражеский огонь.
Проверяю наличие личного состава, не хватает одного бойца:
— Где Вася Жданов?
Казаки не знают, никто не может сказать, куда он делся.
— Передайте дальше, спросите у других казаков, никто не видел пулемётчика РПК, худощавого, с бородой?
И лишь спустя сутки мы узнали, что Жданов в суматохе первых минут боя попал в прицел гранатомётчика и, получив тяжёлое осколочное ранение, был отправлен в тыл на первой же подвернувшейся под руку неизвестным нам бойцам машине…
Залегли у пролома в каменной ограде. До дома, из которого боевики вели огонь по центральной улице, пятьдесят-семьдесят шагов ровной, поросшей травкой лужайки. Нам во что бы то ни стало надо быть там.
Левее, совсем рядом с садом, хорошо видно отдельно стоящее строение, и я говорю гранатомётчику — Игорю Романову:
— А ну-ка, «отработай» на всякий случай по нему…
Он стреляет, и я кричу бойцам, выбегая из развалин:
— Прикройте!
Со мной командир второго отделения, вчера вернувшийся из госпиталя, мы начинаем бежать по лужайке, и я не вижу ничего, кроме цели, которую мы должны достичь.
Взрыв в полуметре от нас не напугал и не удивил меня — всё произошло очень быстро, и Боря Гресов, застонав, упал на бок, схватившись за живот руками.
Казаки выбегают мне на помощь, оттаскиваем раненого через пролом в ограде обратно во двор, а гранатомётчик-боевик бьёт нам вслед. Выстрел РПГ-7 ударил о камни передо мной, посекло осколками Романова Игоря — ранение в голову и плечо, а я снова остался невредим.
Ермоловцы заметили огневую точку противника, бьют по нему из всех видов оружия. Прикрываемый бойцами, добегаю до окопа, находящегося рядом с домом, где засели боевики, падаю около него и бросаю гранату. Привстав на колено, выпускаю длинную очередь в траншею.
Всматриваюсь: окоп пуст, и лишь пятна крови на земле говорят о том, что мы этого гранатомётчика «зацепили».
— Ушёл, падла, в нору под дом, — с досадой говорят подбежавшие казаки. — У них тут понарыто ходов так, что из дома в дом можно ходить.
Небольшое затишье, есть возможность перекурить — мы заняли первую линию обороны противника…
Уже после войны мне, начинавшему свой боевой путь гранатомётчиком, любившим свой РПГ-7, не признающим оптику и стрелявшим всегда только с механического прицела, пришла на ум шальная мысль о том, что именно выстрелы из гранатомётов противника больше всего испытывали меня на прочность, не оставляя мне никаких шансов на жизнь.
Ещё раз такая ситуация произошла в том же бою за Орехово, когда мы заняли два дома на перекрёстке возле разрушенной мечети и ввязались в перестрелку с противником, контролировавшим пока что большую часть селения.
В доме напротив находился командир роты, связь с ним отсутствовала, и для того, чтобы сориентироваться в ситуации и хоть как-то вникнуть в суть происходящих событий, приходилось трижды под огнём боевиков перебегать дорогу.
Сделаю отступление: в этих моих действиях не было какой-либо пафосной подоплёки с крикливой претензией на героику. Всё было обыденнее и проще — я не мог переступить через комплекс вчерашнего рядового бойца, неожиданно ставшего командиром взвода, и считавшего, что нет такого морального права посылать кого-либо вперёд себя под пули.
Нам думалось, что ротному было проще, чем нам в плане информации — рядом с ним находился связист-«историк», но и он, наш капитан Женя, пребывал в растерянности, до конца не осознавая всей сложности нашего положения и не получая каких-либо конкретных приказаний о дальнейших действиях остатков второй роты. И каждый раз командир на мой вопрос, что же нам делать дальше, отвечал:
— Не знаю… Держимся… Ждём…
На третий раз, когда, перебегая улицу, я уже почти достиг противоположного дома, в кирпичную стену, выбивая крошку, ударил выстрел гранатомёта. Это было слишком явственно, поскольку произошло на уровне глаз и на расстоянии не более двух метров от меня.
Отброшенный я падаю на землю и, не смотря на то, что разом поплыло в глазах и земля, и небо, и полуразрушенные стены и ограды, движимый силой жизни, перекатываюсь за широкое дерево, росшее у калитки.
Я жив…жив…жив…
Кровь стучала в висках, в ушах стоял звон, но, ощупав голову, понял, что мне опять «повезло», если не считать контузии и засыпанных кирпичной пылью глаз.
Так кто же закрывал меня тогда от пуль и осколков? Чья незримая, но великая помощь спасала и выводила на путь жизни?
Меня, оставшегося живым, не скрою, очень часто в первые мгновения после доброй порции адреналина, посещала мысль: «Повезло». Где-то на уровне подсознания автоматически я начинал верить в солдатскую удачу и только потом уже осознавал, что рядом были прикрывавшие меня товарищи, без которых точно не повезло бы. После боя благодарил Бога, зная, что и боевые товарищи, вовремя оказавшиеся рядом — тоже от Него, но тогда, в те дни, я не мог до конца осознать, почему Он продлил мне жизнь…
На войне мы особо не рассуждали о путях Божественного промысла, но теперь, оглянувшись назад, могу с уверенностью сказать одно: Спаситель не раз дарил нам спасение телесное для того, чтобы мы спаслись духовно. Он, по милости своей, продлевает земную жизнь, понимая, что этим даёт нам ещё один шанс оглянуться назад, вытряхнуть на ветру душу, и, освободившись от слежавшейся пыли, сделать шаг по направлению к жизни вечной, туда, где стоят плотные ряды небесной рати — воинов духа.
В нашем взводе всегда трепетно относились к молитве — утренней, вечерней, перед боем, и этот ритуал был делом неизменным и обязательным для всех казаков-минераловодцев. Относились к нему иногда с ворчанием и ропотом те бойцы, которые были далеки от веры, но в обязательном порядке и они выходили на это торжественное построение. В большинстве подразделений Ермоловского батальона молитва проводилась для тех казаков, кто имел такую потребность — по желанию, у нас же во взводе не делалось исключений ни для кого.
И бережное отношение к православной традиции проявлялось нашими людьми повсеместно. Мы подчёркивали приоритетность веры даже в деле обустройства лагеря.
Так прибыв с колонной на новое место дислокации, мы перво-наперво вкапывали на выбранном нами «плацу» столб, на который приколачивался пустой ящик из-под патронов. Торжественно в этот импровизированный киот вставлялась икона, обёрнутая белым полотенцем, и лишь после этого казаки начинали обустраивать отхожее место и копать квадраты под палатки.
Соборная сила общей молитвы, даже притом, что не все бойцы искренне верили в её действенную помощь, являлась великим делом на нашем боевом пути. Но и не меньшей помощью и поддержкой нам было то, что за десятки километров от войны, в далёком городе, родные и дорогие люди — жена, мать, отец, тёща ежедневно молились о том, что бы я вернулся домой. И эта их молитва и за меня, и «за всех православных воинов», была обозримым и реальным вкладом не только в мою личную судьбу, но и в дело нашей общей победы над Смертью…
За нас молились и совершенно незнакомые нам люди. Именно незнакомые, а не чужие, потому что мы с ними являли одно целое с нашей истерзанной Россией, были едины с ней и в ней.
За время нашего нахождения в Чечне нам посчастливилось побывать в храме станицы Ассиновской, остатки казачьего населения которой изо всех сил держалось за свои родовые земли. Мы знали о том, что за пять лет, прошедших с 1991 года, когда рухнула страна и, фактически, вся система власти в ней, русское население станицы из большинства превратилось в меньшинство, и к 1996 году уже составляло не более четверти от общего количества жителей. Это ещё хорошо, если за имущество брошенные Москвой на произвол судьбы люди получали хоть какие-то мизерные деньги. Слишком много было случаев, когда людей просто убивали для того, чтобы в этот дом вселилась озлоблённая на весь мир, и на русских в особенности, чеченская семья из разбитых в пух и прах Самашек или Бамута…
Организовывает поездку мой предшественник на должности командира взвода Владимир Зуев; отпрашиваемся у комбата.
Нас собралось немного, человек двадцать тех, кто захотел помолиться в Ассиновском храме, и, собрав «гуманитарку», мы на «броне» выдвигаемся по направлению к станице.
Дорога не длинная, не больше десяти километров от места расположения нашего батальона, и вскоре мы, проскочив мост через речку Асса, оказываемся на широкой станичной улице.
Жители идут куда-то по своим делам, кто-то гонит скот, кто-то сидит возле дворов на лавочках или же на корточках. На фоне казачьих куреней чеченские лица…
И мы понимаем, что из станицы безвозвратно уходит русская душа, которую несправедливо вытесняет совершенно иное, не присущее станичному миру, сообщество.
На лицах наших казаков унылость и озлобление, руки крепко сжимают оружие, но мы ещё не понимаем, что скоро станем свидетелями чуда и очутимся на последнем рубеже православного мира, на островке, окружённом объятым бурей океаном, готовым этот клочок суши размыть и уничтожить.
И действительно, зайдя на церковный двор, мы оказались в полярно ином мире, нежели тот, который видели ещё минуту назад. Храм гордо стоял посреди стихии бушующих за его стенами страстей, и, глядя на него, осознаю, что этот клочок земли, нас принявший, окружил нас невидимой стеной, оградив от всего, оставшегося извне.
Подходим под благословение батюшки…
Нас обступают женщины, и мы в их полных надежды и искренней радости глазах выглядим вестниками иной, далёкой от них Вселенной, которую они, не смотря ни на что, продолжают любить. Разговариваем с ними, стараемся приободрить. Они, в свою очередь, говорят о своих бедах, и повествование их, в большинстве случаев, звучит тихо и печально, лишённое каких-либо эмоций.
Выгружаем «гуманитарку» — мешок муки, тушёнку, кое-что из мелочёвки.
— Вы уж тут сами как-нибудь разберётесь, кому что…
Одна из женщин в ответ вздыхает:
— Да кому что раздавать? Всё русское в станице только в храме и собирается. Одно у нас пристанище…
Заходим в храм, ставим свечки…
По нашей просьбе батюшка начинает служить молебен, и мы окончательно отгораживаемся стеной древнего, устоявшегося подвигом праведников благочестия от всего ничтожного и низменного, оставшегося вне нашего нынешнего духовного пространства.
Священник читает Евангелие, и Зуев, опустив голову, опускается на колени. Казаки, переглянувшись, следуют его примеру, и, положив автоматы на пол перед собой, отбивают земные поклоны.
Делают это даже те бойцы, кто в своей жизни стоит довольно далеко от глубинного понимания православной жизни, но молитва в каждой душе зажигает огонёк надежды.
Взирающие на нас лики Спасителя, Богородицы и святых, свет лампады, мерцание свечей, тихий голос батюшки окончательно втягивают нас в безразмерное пространство абсолютного Добра, отрывая от зла суетного мира…
Подходим под благословение, целуем крест — молебен окончен.
Мы прощаемся на церковном дворе со станичным священником, пожилыми казачками, и они глядят на нас, как на родных, с надеждой и мольбою:
— Не бросайте нас… Храни вас Господь… Бога о вас молить будем, сердешные…
Всё…
Мы прощаемся не с ними, а сами с собой, полные гнева и отчаяния, понимая всю свою беспомощность, а они чувствовали наше смятение, но были выше всех человеческих страстей, уже прошедшие со смирением и любовью к Богу каждая свой отрезок Крестного пути…
В любом эпизоде человеческой жизни есть определённая доля мистики, и искренняя молитва за нас людей нам не известных подтверждает то, что не всё в этом мире можно объяснить с точки зрения логики…
Рассказывая о духовной помощи нам, ступившим на воинский путь, хочу с огромной ответственностью сделать утверждение и о незримом присутствии в человеческой судьбе не только живых людей, но и тех, кого давно уже в этом мире нет.
Думаю, меня в какой то степени поймут даже материалисты, не верящие в бессмертие души. Ведь для многих из нас святыней является память о жизни наших дедов и прадедов, пришедшейся на страшный двадцатый век. Мы с детства брали с них пример, на случаях из их боевых биографий строилось наше воспитание. Они оберегали нас от плохих поступков, поскольку в нашем юном сознании были олицетворением всех чистых человеческих качеств без капли изъяна, и нам было иногда просто стыдно сделать что-либо плохое. Ведь тот, кто был до меня, никогда, как я думал и верил, сделать такое не мог бы.
У кавказских народов существует живая связь между живыми и давно умершими представителями рода, составляющими одно целое. Нередко случалось встречать горцев, даже не принадлежавших к княжеским родам, но хорошо ориентирующихся в своей родословной до восьмого, а то и ещё до более далёкого колена.
Они сохраняют себя своей памятью, и память делает их частью огромной, уходящей корнями в землю, родовой системы, которая помогает им не только выжить, но и добиваться каких-либо ощутимых достижений в жизни.
Система эта космична, но и, в то же время, чрезвычайно проста. Поминая предков, каждый человек разворачивает их взор к себе, и они, предстоя перед Всевышним, поминают о нас.
Если это не происходит, мы оказываемся один на один с океаном личных и глобальных проблем, формируя безликую массу «Иванов», не помнящих (и не поминающих) родства…
Батальон перебрасывали из Грозного к Ачхой-Мартану в середине марта. Колонна обогнула Самашки, и, сделав крюк, перешла вброд Сунжу. Долго двигаясь то по дороге, то по полям, мы проскочили через речку Фортангу уже в сумерках.
В кромешной темноте нас остановили где-то в поле, и офицеры, встречавшие батальон, объясняли, указываю руками куда-то в темноту:
— Справа — Катыр-Юрт, он ближе. Видите огоньки? Это он. На подъезде блок-пост, но Басаев через него свободно проезжал уже не раз, так что не расслабляйтесь. Слева — Ачхой-Мартан. Село вроде как мирное, но лучше туда не заезжать. Рядом с вами стоят…
И офицеры начинают перечислять подразделения федеральных войск, раскинувшиеся, как потом выяснилось, на довольно большой территории, подковой огибающей то место, на которое был определён Ермоловский батальон.
Казаки начинают располагаться на ночлег. Кое-кто расстилает спальный мешок прямо на земле, кто-то прячется в «броню», а наиболее терпеливые наспех растягивают палатки.
Большинство бойцов нашего взвода готовятся ко сну, но Серёге Семёнову — водителю МТЛБ, и мне, несмотря на усталость, спать почему-то не хочется. Спрашиваем у командира:
— А костёр разжечь можно?
— Разжигайте, но только в капонире…
Собираем хворост, к нам присоединяется ещё несколько человек, и вскоре огонь вспыхнул, заиграв на сухих ветках, и мы потянулись к теплу и свету, инстинктивно отдаляясь от темноты, плотной стеной окружающей отвоёванную пламенем крохотную частичку пространства.
Завариваем в котелке чай, степенно пьём, пуская по кругу, и говорим о том, что наболело на душе, что хочется рассказать окружающим. И делается это без надрыва, без эмоций, которыми и так чрезмерно пропитана наша жизнь, а как-то по-свойски, по-домашнему, по-братски. Разговор о войне, о домашних заботах, о каких-то ярких случаях из жизни, о казачьей истории, о любви…
В разговоре нет ни хамства, ни пошлости, и люди, лежавшие и сидевшие вокруг костра преображались, в них пробуждались искренность и доброта, чего раньше, при свете дня, в своём товарище никто из нас не мог разглядеть.
Семёнов достаёт немецкую губную гармошку, наигрывает некоторые мелодии, и мне становится хорошо и радостно — в душе наступает покой. В полголоса запеваем песню, и она растекается над землёй, поднимается с дымом костра к небу, и вместе с песней отрывается от всего присыпанного походной пылью душа, и тоже устремляется ввысь, туда, где смотрят на нас огоньки мерцающего звёздного пути — глаза бессмертных душ наших предков.
Ещё в детстве я слышал легенду о том, что души воинов превращаются в звёзды, и с тех пор часто ночами подолгу всматривался в виртуальные очертания созвездий, и верил в то, что звёзды видят меня так же, как и я их. Захватывало дух от величия и бескрайности видимой картины Вселенной, но не было страха и чувства одиночества — ночное небо не проглатывало и не растворяло в себе, оно делало меня частью одной великой общности, присутствие в которой ложилось на мои плечи бременем ответственности.
Мы лежали на земле в поле между Ачхой-Мартаном и Катыр-Юртом, пели казачьи, старые и новые военные песни и смотрели на огонь и на звёзды…
Вглядываюсь в пространство, и память, пронизывая время и проникая сквозь века, втягивает меня в тот мир, где я никогда не был, но к которому безраздельно принадлежу — мир моих предков. Сокрыты под непроницаемой пеленой веков их лица, но в сиянии звёзд вижу устремлённые на меня глаза. Я чувствую присутствие в своей жизни воли тех, кто ушёл давно уже в мир иной, но не оставляет меня на моём пути.
Где-то там, в глубине времён, лежит великая бескрайняя Сибирь, и обитают люди, пришедшие или же приведённые туда по разным причинам, охотившиеся в тайге, пахавшие вольные и никем не отмежёванные земли, мывшие золотишко и не боявшиеся никого и ничего.
А ещё дальше, в веках и веках, чубатые головы и длинные усы, горящий взгляд и пальцы, сжимающие до побеления рукоять сабли. И воля, бескрайняя, как Заднепровская степь, где курганы и ковыль, где срубленные в сече головы, где веселье бессмертной казачьей души и неувядаемой казачьей славы…
А рядом те, кто были солью земли Отечества нашего, трудились, молясь Богу, на Орловской и Костромской стороне, сгибаясь от зари и до зари на пашне за сохой, и на своих плечах вынося всю тяжесть крутых поворотов Российской истории, от Батыева нашествия до Великой смуты 1917 года…
Всматриваюсь в толщу времени, и слышу гул — врывается в пространство древней Европы, рассекая и оттесняя славянский и германский мир, дикая венгерская сила, сметающая всё на своём пути и заставившая соседние народы содрогнуться и признать их право на завоёванную землю…
Чуть поодаль от них те, кто, подбоченившись и лихо закрутив усы, взирают на короля на сейме, движимые выкованным за века ратной истории шляхетским гонором, в переводе с их языка означающим честь.
Из тьмы столетий проглядываются лишь слабые контуры, но снова виден блеск глаз. Я горд тем, что в тумане былого сияет доблестью история народа, к которому относятся и мои предки, и корни которого уходят туда, где в Тевтобургском лесу одетые в звериные шкуры воины с яростью рубили боевыми топорами доселе непобедимых римских легионеров. Спустя тысячелетие их потомки с мужеством и упорством взяли штурмом неприступные стены Иерусалима…
Я смотрю на звёзды, и поток времени уносит меня к тем, кого я никогда не знал, но память о ком для меня всех дороже, как и память обо всей Великой Отечественной войне, и особенно о Сталинграде, в землю которого лёг мой дед Василий Трофимович…
Как и в церкви станицы Ассиновской, мне казалось, что мы на какое-то время оказались на отгороженном неприступными стенами острове, оторванном от всего окружающего нас пространства, и наш мир умещался в ту ночь только в нас самих, сидящих у костра, и в великом звёздном небе над нами…
Всё вышесказанное может показаться излишне романтизированной историей, обильно сдобренной мистикой, но, не раз остававшийся в живых вопреки всякой логике, я верю, что за меня, недостойного, крепко молились и те, кто живы, и те, кто когда-то давно погибли и умерли.
Война являет собой совершенно алогичное проявление человеческого мира, и подойти к ней с точки зрения закономерной объяснимости не представляется возможным. Слишком много событий, произошедших в дни службы в Чечне не объяснимы, если посмотреть на них человеку, не лишённому здравого смысла, начиная исходить из того, что и сама война совершенно противоестественна для любого не лишённого морального фундамента рассудка.
Логика бессильна там, где тяга к жизни толкает человека на смерть, и мы, прошедшие через это, и, вспоминая об этом, ловим в воспоминаниях прелесть тех страшных в своей понятной только нам красоте мгновений боя, в котором мы, вопреки всему, остались живы.
И ловим себя, в который раз, на мысли, требующей объяснения тому, отчего кто-то из нас не вышел живым из атаки, а кто-то, бежавший рядом, остался невредимым…
Я склоняю свою голову перед вами, ныне живущими — боевыми товарищами, любимыми и дорогими родственниками, неведомыми и незнакомыми людьми, помогавшими мне в бою или же своими руками, или же своей живой молитвой, взывая к Тому, Кто дарует нам вечную жизнь.
И это ещё не все, кто стоит вместе с нами в едином строю…
Подняв голову к ночному небу и посмотрев на звёзды, ты увидишь устремлённые на тебя глаза многих тысяч твоих предков, давно представших перед Господом, и по молитвам которых ты, не забывший о них, о Боге, и о Родине, обретаешь верных помощников и защитников на воинском пути, по которому они когда-то достойно прошли.
И реально начинаешь осознавать, что и один в поле воин, когда понимаешь, что ты не один…
Я склоняю свою голову перед вами, и молю Бога о спасении ваших душ в том мире, где вы пребываете, как и вы просили Господа спасти меня в мире этом…
|
|