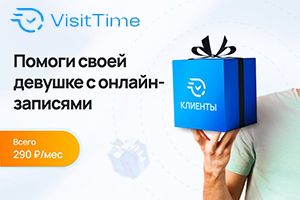Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Бессмертное произведение Грибоедова
|
|
«Уже более 150 лет привлекает читателей бессмертная комедия Грибоедова «Горе от ума» каждое новое поколение перечитывает её заново, находя в ней созвучие с тем, что его сегодня волнует».
Гончаров в своей статье «Мильон терзаний» писал о «Горе от ума», -- что оно «все живет своею нетленною жизнью, переживет и еще много эпох и все не утратит своей жизненности». Я полностью разделяю его мнение. Ведь писатель нарисовал реальную картину нравов, создал живых персонажей. Настолько живых, что они дожили до наших времен. Мне кажется, что в этом и заключается секрет бессмертия комедии А. С. Грибоедова. Ведь наши фамусовы, молчалины, скалозубы, по-прежнему заставляют современного нам Чацкого испытывать горе от ума.
Автор единственного вполне зрелого и завершённого произведения, к тому же не опубликованного целиком при его жизни, Грибоедов приобрел необычайную популярность среди современников и оказал огромное влияние на последующее развитие русской культуры. Вот уже почти полтора столетия живет комедия «Горе от ума», не старея, волнуя и вдохновляя многие поколения, для которых она стала частью их собственной духовной жизни, вошла в их сознание и речь.
После нескольких лет, когда критика не упоминала комедию Грибоедова, Ушаков написал статью. Он правильно определяет историческое значение комедии «Горе от ума». Называет произведение Грибоедова «бессмертным творением» и видит лучшее доказательство «высокого достоинства» комедии в её необычайной популярности, в том, что её знает чуть ли не наизусть каждый «грамотный россиянин».
Так же Белинский объяснял тот факт, что, вопреки стараниям цензуры, она «ещё до печати и представления разлилась по России бурным потоком» и приобрела бессмертие.
Имя Грибоедова неизменно стоит рядом с именами Крылова, Пушкина и Гоголя.
Гончаров, сравнивая Чацкого с Онегиным и Печориным, подчеркивает, что Чацкий, в отличие от них, - «искренний и горячий деятель»: «ими заканчивается их время, а Чацкий начинает новый век, и в этом все его значение и весь ум», и поэтому-то «Чацкий остается и останется всегда в живых». Он «неизбежен при каждой смене одного века другим».
«Горе от ума» появилось раньше Онегина, Печорина, пережило их, прошло невредимо через гоголевский период, прожило эти полвека со времени своего появления и всё ещё живет своею нетленной жизнью, переживет и ещё много эпох и все не утратит своей жизненности.
Эпиграмма, сатира, этот разговорный стих, кажется, никогда не умрут, как и сам рассыпанный в них острый и едкий, живой русский ум, который Грибоедов заключил, как волшебник духа какого-нибудь, в свой замок, и он рассыпается там злобным смехом. Нельзя представить себе, чтоб могла явиться когда-нибудь другая, более естественная, простая, более взятая из жизни речь. Проза и стих слились здесь во что-то нераздельное, затем, кажется, чтобы было легче их удержать в памяти и пустить опять в оборот весь собранный автором ум, юмор, шутку и злость русского ума и языка.
Великая комедия и сейчас остается молодой и свежей. Она сохранила свое общественное звучание, свою сатирическую соль, свое художественное очарование. Она продолжает триумфальное шествие по сценам российских театров. Ее изучают в школе.
Российский народ, построивший новую жизнь, показавший всему человечеству прямую и широкую дорогу в лучшее будущее, помнит, ценит и любит великого писателя и его бессмертную комедию. Сейчас, более чем когда-либо, громко и убедительно звучат слова, написанные на могильном памятнике Грибоедова: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской...» «Мильон терзаний» — жемчужина в творчестве Гончарова, одно из украшений литературы о Грибоедове.
Когда этот очерк впервые, в 1872 г., появился в печати, он был совершенной неожиданностью для тогдашних читателей. Ведь они знали Гончарова только как романиста и путешественника. Публикация ценнейших «Заметок о личности Белинского» была еще впереди (они напечатаны в 1874 г.). Еще позднее (в 1879 г.) опубликована статья «Лучше поздно, чем никогда».
Как критик Гончаров вовсе не был известен читателям. После неуспеха «Обрыва» в 1869 г. в литературно-общественных кругах слагалось убеждение, что творчество Гончарова иссякло. В газетах тогда писали: «Литературная карьера г. Гончарова вероятно кончена и потому советовать ему поздно».
Подавленный неудачей, писатель, действительно, замолчал на-время. Но творческая работа не иссякала. Напротив: изучение Гончарова удостоверяет, что в семидесятых годах его творчество вновь вспыхнуло и создало ряд замечательных произведений, — правда, не беллетристических, а критических, и среди них — «Мильон терзаний» и «Заметки о Белинском». Теперь нам становится ясно, что это возрождение творчества было вместе с тем и возрождением прогрессивности Гончарова, его возвратом к традициям Белинского.
Для читателей-семидесятников выступление Гончарова в 1872 г. было тем неожиданнее, что Гончаров высказался не только как литературный критик, но и как критик театральный. Да и сам Гончаров, со свойственной ему скромностью и мнительностью, готов был изображать свое выступление как нечто случайное, для него самого неожиданное. Напечатав статью и посылая ее оттиск поэту Ф. И. Тютчеву, Гончаров писал ему: «Никогда не бывая в театре, я, не знаю сам, как и зачем, забрел туда в ноябре (описка: в декабре. — Н. П.) и попал в «Горе от ума». Потом, не знаю, как и зачем, набросал заметки об этой комедии и об игре актеров, хотел оставить так, но актер Монахов (Чацкий) упросил меня сделать из этого фельетон. Фельетон не вышел, а вышла целая тетрадь, которую я — не знаю, как и зачем — отдал в «Вестник Европы» для напечатания... Не знаю, как и зачем написал эту критику, повторяю я, — потому что «Горе от ума» критики не требует, оттого до сих пор и не было таковой. Пьеса заключает сама и критику. Чацкий высказывает ее, давая знать, как надо разуметь Фамусова и прочих. А они своею злобою на него объясняют и его характер». И Гончаров шутливо заключает: «Так что критика моя могла бы назваться в свою очередь — Горе не от ума».
Для исследователей Гончарова, однако, ясно, что статья отнюдь не была случайностью и внезапностью. Как обычно у Гончарова, и это произведение подготовлялось и зрело в его творческом сознании медленно, годами, едва ли не десятками лет.
Следует отметить знаменательный факт: юность Гончарова совпала с первыми постановками «Горя от ума» на сцене и с первым появлением комедии в отдельном издании.
Когда Гончаров кончал, в 1830 г., Московское коммерческое училище, на московской сцене впервые поставили первое действие «Горя от ума», а вскоре и третье. Тогда даровитый критик В. А. Ушаков напечатал в «Московском телеграфе» (1830, №№ 11 и 12) обширную статью об исполнении третьего действия («Московский бал», как оно именовалось на афишах) московскими актерами и о самой комедии Грибоедова. Точно неизвестно, но вероятно, что Гончаров видел тогда эти первые постановки «Горя от ума». Еще вероятнее, что он читал замечательную статью Ушакова. В. А. Ушаков, личный знакомый Грибоедова и Пушкина, заявил себя в статье горячим сторонником комедии. Он выдвигал сатирическое задание «Горя от ума», обличение «странностей современного нам общества». Вопреки суждениям тогдашней консервативной критики, в прямом антагонизме с нею, Ушаков считал Чацкого «пламенным, добрым, умным, благородным», «искателем совершенств», «нравственным Дон-Кихотом», «представителем наших мнений о минувшем и наших надежд на будущее». Ушаков чутко воспринял и ясно определил обе линии в развитии пьесы: и интимную, любовную драму Чацкого и Софьи, и общественную борьбу Чацкого с фамусовской Москвой, т. е. то, что в «Мильоне терзаний» раскрыл Гончаров с таким блеском и глубиной.
В следующем, 1831 году «Горе от ума» было поставлено на московской сцене в полном составе четырех действий, и это было целым событием в театральной и общественной жизни (первые спектакли были даны 27 и 30 ноября и 10 декабря). Состав исполнителей был блестящий: Фамусов — Щепкин, Чацкий — Мочалов, Софья — Львова-Синецкая, Молчалин — Д. Т. Ленский, Скалозуб — Орлов, Репетилов — Живокини, Тугоуховский — П. Степанов. Спектакли повторялись и в 1832, и в 1833, и в 1834 годах—все те годы, когда Гончаров был студентом. В 1832 г. в Москве, на гастролях, И. И. Сосницкий выступал в роли Репетилова, в 1833 — В. Каратыгин в роли Чацкого. О постановках немало писали: и Н. И. Надеждин в «Телескопе», и И. В. Киреевский в «Европейце», и снова В. А. Ушаков.
Без всяких прямых свидетельств можно было бы утверждать, что Гончаров-студент бывал на этих спектаклях и выносил оттуда сильные, прочные впечатления. Но он и сам спешит подтвердить наши предположения. В «Мильоне терзаний» он пишет о грибоедовской комедии: «Исполняли ее в Москве в 30-х годах с полным успехом. До сих пор мы сохранили впечатления о той игре Щепкина (Фамусова), Мочалова (Чацкого), Ленского (Молчалина), Орлова (Скалозуба), Сабурова (Репетилова) и т. д....Щепкин, Орлов, Сабуров выражали типично еще живые подобия запоздавших Фамусовых, кое-где уцелевших Молчалиных или прятавшихся в партере за спину соседа Загорецких. Все это, бесспорно, придавало огромный интерес пьесе, но и помимо этого, помимо даже высоких талантов этих артистов и истекавшей оттуда типичности исполнения каждым из них своей роли, в их игре, как в отличном хоре певцов, поражал необыкновенный ансамбль всего персонала лиц, до малейших ролей, а главное — они тонко понимали и превосходно читали эти необыкновенные стихи, именно с тем «толком, чувством и расстановкой», какая для них необходима. Мочалов, Щепкин! Последнего, конечно, знает и теперь почти весь партер и помнит, как он, уже и в старости, читал свои роли и на сцене и в салонах!».
Необычный для сдержанного Гончарова лирический тон свидетельствует, как живы были в памяти стареющего писателя его юношеские воспоминания. К своим похвалам он тут же присоединяет еще одну: «Постановка была тоже образцовая». Нельзя не пожалеть, что эти слова лаконичны. Хотелось бы именно от Гончарова узнать о подробностях постановки первых спектаклей «Горя от ума». Из других источников мы узнаем, что в самом исполнении главных ролей тогда боролись разные стили: классический у Каратыгина, романтический у Мочалова, реалистический у Щепкина. Для созревания эстетического сознания великого реалиста-романиста, как и для сценической истории «Горя от ума», существенно, что уже в те далекие годы могучий реализм самой пьесы влиял и на реализм постановки. В умной, требовательной статье Н. И. Надеждина в «Телескопе» (1831 г., № 20, октябрь) говорилось: «Вообще сценическая постановка пиэсы делает честь нашему театру. Мы с удовольствием заметили, что для соблюдения верности внимательность простирается даже до мелочей». И критик приводит пример, действительно, характерный: «при разъезде, хилого старика, князя Тугоуховского, окутывают шубою — еще в передней; тогда как все прочие одеваются на лестнице». И, следуя той же логике реалистической постановки, сам критик указывает одну оплошность — излишне яркое освещение во второй половине IV действия: Лиза не могла бы пугаться и не приметить Чацкого в сенях «при весьма ярком свете фонаря», а Фамусову «не для чего было кричать, чтобы принесли свечей, когда и без них было очень светло».
Но для юноши-Гончарова спектакль имел еще иную — и не меньшую — поучительность. Воспитанный в провинции, в традициях купеческого и дворянского уклада, и в Москве не сблизившийся с наиболее радикальным студенчеством, группировавшимся вокруг Белинского или Герцена, Гончаров в спектаклях «Горя от ума», в монологах Чацкого-Мочалова, получал свое раннее гражданское воспитание. В «Мильоне терзаний» он так говорит о своих юношеских переживаниях, шедших от «Горя от ума»: «успеху много содействовало поражавшее тогда новизною и смелостью открытое нападение со сцены на многое, что еще не успело отойти, до чего боялись дотрагиваться даже в печати».
Как сурово оберегалось это «многое» от прикосновений печати, показывает судьба «Горя от ума». При жизни Грибоедова отдельное издание комедии так и не могло появиться в свет. Первое издание вышло только в 1833 г. — и именно в Москве. Оно было страшно изуродовано цензурой, но было большим событием для общества — и, конечно, для Гончарова.
Чтобы оценить как можно полнее значение грибоедовского спектакля и вообще драматического театра для Гончарова-студента, надо отметить еще, что это значение усиливалось личными знакомствами. О них, правда, Гончаров не говорит ни в «Мильоне терзаний», ни в университетских воспоминаниях.
Но французский исследователь Гончарова, проф. А. Мазон, в своей монографии о нем (Париж, 1914 г., стр. 34—35) приводит извлечения из письма Гончарова к А. Ф. Кони, в котором тот тепло вспоминает знакомство, в свои московские годы, с первой исполнительницей роли Софьи, артисткой М. Д. Львовой-Синецкой. В ее гостиной будущий писатель встречался с актерами и литераторами. Здесь пели, играли, декламировали, спорили. Салон Львовой-Синецкой был первым объединением, где Гончаров проходил литературно-общественное воспитание. С переездом в Петербург (в 1835 г.) он пройдет еще через кружок Майковых и, наконец, Белинского — с возрастающим расширением идейно-эстетического кругозора.
В Петербурге Гончаров подоспел к первым спектаклям «Ревизора» — нового огромного завоевания критического реализма. Гончаров и в своем творчестве, и в своих теоретических воззрениях с молодости и навсегда остался верен гоголевскому направлению. Драматургические его воззрения вскоре нашли новое подкрепление в пьесах Островского, за творчеством коего Гончаров следил с первых выступлений драматурга и до последних его пьес. Об Островском Гончаров написал две замечательные статьи (1860 и 1874 гг.). В 1875 г., откликаясь на постановку «Гамлета» на Александринском театре, с А. А. Нильским в заглавной роли, Гончаров написал замечательную статью: «Опять Гамлет на русской сцене». Она своевременно не появилась в печати и опубликована полностью только в 1940 г., но содержит ценнейшие мысли и наблюдения и над самой пьесой Шекспира, и над особенностями артистической манеры актера Нильского; говорится и о всей труппе. Во многом статья близка по общему типу и взглядам к «Мильону терзаний». В следующем, 1876 г. Гончаров написал П. Д. Боборыкину обширное письмо, целую диссертацию по поводу его лекций «О театральном искусстве».
Ко всему изложенному прибавлю, что в семидесятые, да и в позднейшие годы Гончаров был близок с некоторыми артистами Александринского театра, что он дружил и переписывался с И. И. Монаховым, Н. С. Васильевой и др. Ясно, что написание «Мильона терзаний» вовсе не было такой случайностью или странностью, как это Гончаров изображает в цитированном письме к поэту Тютчеву. Напротив, прославленный очерк был подготовлен десятилетиями размышлений Гончарова и над творением Грибоедова, и над всей русской драматургией, и над задачами сценического воплощения классических пьес. Только именно такой длительной подготовкой — в соединении, разумеется, с огромным дарованием автора — объясняется зрелость и глубина воззрений, изложенных в «Мильоне терзаний».
Сюда следует присоединить и воздействие на Гончарова русской литературной критики. Гончаров пристально следил за текущей журналистикой на всем протяжении своей литературной деятельности. Выше отмечалась возможность влияния на него горячей статьи В. А. Ушакова. Несомненно и влияние статей Белинского. Гончаров хорошо помнил известную статью Белинского о «Горе от ума» и «Ревизоре» 1840 г. В крайнем пароксизме примиренчества Белинский отрицал тогда «поэзию содержания», считая ее «каким-то недоноском», отрицал Шиллера, французскую литературу, резко порицал сатирическую поэзию, «потому что сатира не принадлежит к области искусства». Со своих особых тогдашних позиций Белинский нападал в статье на Софью с ее «низкой связью» с Молчалиным, с ее «нагло-враждебным отношением» к Чацкому, — и одновременно и на Чацкого, у которого «истинного и глубокого чувства не видно ни в одном его слове». «Это просто крикун, фразер», его горе — «горе, только не от ума, а от умничанья». «Горе от ума» не есть комедия, не есть художественное создание — «по отсутствию самоцельности».
«В «Мильоне терзаний», не называя имени Белинского, с любовной бережностью, Гончаров всем своим драматургическим анализом опровергает эти предвзятые, отрицательные построения. Зато, с преданностью верного ученика включает он в свои концепции все то положительное, что говорил Белинский о «Горе от ума» и в «Литературных мечтаниях» 1834 г., и во многих высказываниях после перелома 1840 г., начиная с известного письма к В. П. Боткину и вплоть до восьмой статьи о Пушкине (1844 г.), где он объединяет Грибоедова и Пушкина, как положивших «прочное основание новой русской поэзии, новой русской литературе».
Весьма возможно, что на «Мильон терзаний» повлияли и Герцен, и Аполлон Григорьев, с их преклонением перед общественным содержанием комедии.
В анализе психологической драмы Чацкого — Софьи могла помочь Гончарову умная статья В. Александрова (драматурга В. А. Крылова), напечатанная в 1862 г., а также — сценическое исполнение роли Чацкого в 1864 г. славным московским артистом С. В. Шумским, подчеркивавшим, что Чацкий «прежде всего человек страстно влюбленный».
Лишенный боевого полемического темперамента, Гончаров избегал в «Мильоне терзаний» прямой полемики. Но во многих и очень крупных вопросах он расходился со своми предшественниками и неизбежно вынужден был им возражать. Так, высоко ставя «Горе от ума» как сценическое произведение, блестяще доказывая это в статье, Гончаров неоднократно возражает тем «ценителям», которые «привыкли говорить, что нет движения, т. е. нет действия в пьесе». Он не называет имен, не приводит цитат, не ссылается на те или иные статьи. Но таких критиков было немало. В 1825 г., при появлении в альманахе «Русская Талия» отрывков «Горя от ума», критик и водевилист А. И. Писарев (под псевдонимом Пилада Белугина) писал в «Вестнике Европы» (1825 г., № 10): «Можно выкинуть каждое из сих лиц, заменить другим, удвоить число их — и ход пьесы останется тот же. Ни одна сцена не истекает из предыдущей и не связывается с последующей. Перемените порядок явлений, переставьте номера их, выбросьте любое, вставьте, что хотите, и комедия не переменится. Во всей пьесе нет необходимости, стало быть — нет завязки, а потому не может быть и действия».
В изложенной выше статье Н. И. Надеждина («Телескоп», 1831 г., № 20) студент Гончаров мог прочесть: «Совершенное отсутствие действия в пиэсе изобличается тем, что содержание и ход ее не приковывает к себе никакого участия, даже не раздражают любопытства. Акты сменяют друг друга, как подвижные картины в диораме, доставляя удовольствие собою, каждый порознь, но не производя никакого цельного эффекта. Взаимная связь и последовательность сцен, их составляющих, отличается совершенною произвольностью, и даже иногда резкою неестественностью, нарушающею все приличия драматической истины». В том же роде высказывался и П. А. Вяземский в своей работе о Фонвизине («Современник», 1837 г., № 1; отдельное издание книги о Фонвизине—1842 г.): «Действия в драме, как и в творениях Фон-Визина, нет или еще и менее. Здесь почти все лица эпизодические, все явления выдвижные: их можно выдвинуть, переместить, пополнить, и нигде не заметишь ни трещины, ни приделки». Подобные суждения Вяземский излагал и позже. Всею концепцией своей статьи, всем своим анализом «Горя от ума» Гончаров опровергал такие превратные отзывы.
Пришлось ему поспорить и с Пушкиным. В «Мильоне терзаний» Гончаров пишет: «Сам Грибоедов приписал горе Чацкого уму, а Пушкин отказал ему вовсе в уме». Еще: «Пушкин, отказывая Чацкому в уме, вероятно, всего более имел в виду последнюю сцену IV акта, в сенях, при разъезде».
Гончаров разумел высказывания Пушкина в письмах 1825 г.; к семидесятым годам они были уже широко известны, и Гончаров не делает точных ссылок. Пушкин писал Вяземскому 28 января 1825 г.: «Читал я Чацкого — много ума и смешного в стихах, но во всей комедии ни плана, ни мысли главной, ни истины. Чацкий совсем не умный человек — но Грибоедов очень умен». В конце того же января Пушкин писал А. А. Бестужеву — гораздо подробнее: «Теперь вопрос: в комедии Грибоедова Горе от ума кто умное действ. лицо? ответ: Грибоедов. А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий благородный молодой человек и добрый малый, проведший несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. Все, что говорит он, — очень умно. Но кому говорит он все это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека — с первого взгляда знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловыми и тому подоб.».
Высказывания Пушкина приобрели широкую известность. На них опирались позднейшие критики и литературоведы (до Н. А. Котляревского включительно). Но необходимо учитывать, что Пушкин высказывался в особых обстоятельствах, которые сам оговаривал. Бестужеву он писал: «Слушал Чацкого, но только один раз и не с тем вниманием, коего он достоин. Вот что мельком успел я заметить...». «Покажи это Грибоедову — может быть, я в ином ошибся». В письме много похвал «чертам истинно комического гения». Когда брат Лев Сергеевич прислал Пушкину письмо с критикой «Горя от ума», Александр Сергеевич отвечал ему (февраль 1825 г.): «Твое суждение о комедии Грибоедова слишком строго».
Гончаров не полемизирует с Пушкиным, перед творчеством коего преклонялся. Но он не мог не оговорить своих несогласий с цитированными выше высказываниями: сам он высоко ставил ум Чацкого и на высокой оценке Чацкого строил все понимание комедии.
Суждения Пушкина, наверно, помогали Гончарову глубже передумать свои собственные настроения. Такую же — негативную — пользу приносили ему отрицательные отзывы о сценических достоинствах «Горя от ума», высказанные.
Надеждиным, Вяземским и др. Позитивное значение имели отзывы тех критиков, которые выдвигали художественные и идейные достоинства комедии.
Однако все такие воздействия не были решающими. В основном суждения Гончарова о Грибоедове глубоко независимы. Это особенно чувствуется при сопоставлении «Мильона терзаний» с другой обширной статьей, посвященной тому же спектаклю 10 декабря 1871 г. и связывающей оценку его с общим осмыслением «Горя от ума». Эта статья, не будучи потом перепечатана, как-то затерялась и не учитывалась ни в литературе по Грибоедову, ни в литературе по Гончарову. Она погребена на страницах «С.-Петербургских ведомостей» (1871 г., 12 декабря), подписана псевдонимом «Незнакомец» и носит общее, мало говорящее серийное заглавие: «Недельные очерки и картинки». Но посвящен этот огромный фельетон именно постановке «Горя от ума» в бенефис Монахова, а написан А. С. Сувориным. Сотрудник «Современника» и «Отечественных записок», автор книги «Всякие», сожженной по распоряжению властей, «либерал и даже демократ в начале своего жизненного пути», молодой Суворин и в фельетоне о «Горе от ума» проявил свой тогдашний либерализм. Оспаривая формулу Пушкина: «Чацкий вовсе не умен» и ходячее мнение, что Чацкий резонер, а не живое лицо, Суворин твердо заявляет, что видит «бездну причин признать в Чацком чрезвычайно живое, верное действительности лицо, тип своего времени», и ссылается на литературу о декабристах, в особенности на их записки: «Кто читал эти записки, кто вникал в характер эпохи двадцатых годов, тот не затруднится признать в Чацком яркого представителя тогдашнего прогрессивного движения». «Представители прогрессивного движения не были холодными резонерами, а людьми горячими и верующими». Грибоедовский Чацкий — «лицо не выдуманное, а лицо, которое существовало в жизни, которое было представителем части общества, желавшей реформ со всем пылом и нетерпением молодости. Если б не тогдашние цензурные условия, которые Грибоедов, конечно, принимал во внимание, то Чацкий мог явиться у него в комедии еще более живым типом, не с одним отрицанием, а и с положительными идеалами».
В этих сближениях Чацкого с декабристами не было в 1871 г. особой новизны: до Суворина то же говорилось Герценом, Огаревым, Ап. Григорьевым. Но и для читателей, и для актеров, и для режиссеров было нелишним такое напоминание.
Статью Суворина Гончаров несомненно читал: «С.-Петербургские ведомости» тогда были очень популярны; если бы сам Гончаров пропустил номер газеты со статьей Суворина, — о ней напомнил бы Монахов, собиравший, конечно, отзывы о своем бенефисе (и даже сам выступавший тогда в газете по поводу постановки «Горя от ума»). Тем не менее Гончаров не воспринял настойчивых напоминаний Суворина о декабризме Чацкого. Он уклонился от таких прямых сближений, и это снизило историческую точность и прямоту его собственных определений.
Впрочем, и в огромной статье Суворина рассуждения о декабристах являются обособленным, как бы вставным эпизодом. О других чертах сложного образа Чацкого Суворин не говорит, как не говорит он и об образе Софьи, и о психологической драме в «Горе от ума». Здесь до осязательности явно, насколько богаче и глубже концепция «Мильона терзаний». Глубже и тоньше статья Гончарова и в оценке спектакля 10 декабря 1871 г. Здесь Суворин мог быть опасным соперником. Сам беллетрист и драматург, литературный и театральный критик, в течение многих лет следивший за постановками «Горя от ума» и изучавший критическую литературу о комедии, Суворин мог сказать о спектакле веское слово. Он и сказал немало меткого и верного — о даровитом исполнении Монаховым роли Чацкого, об отсутствии в спектакле сыгранности и т.д. Во многом отдельные суждения Суворина близки к гончаровским. Но совершенно очевидно, что Гончаров в критике спектакля исходит из целостного понимания самого «Горя от ума» как драматургического произведения, и к оценке сценического его воплощения подходит с высоким и зрелым пониманием как проблем сценического реализма бытового и психологического, так и культуры сценической речи. В этом Суворин ему далеко уступает. Газетный фельетон Суворина загроможден мелкой полемикой с поклонниками театральной «дивы» Шнейдер, обличениями актера Нильского, монополизировавшего исполнение роли Чацкого, и т. д.
Своеобразие и глубина суждений Гончарова только выигрывают от сопоставления со статьей Суворина. Когда появился «Мильон терзаний», он заставил забыть напечатанную три месяца назад эту статью.
Гончаров любил «Горе от ума», знал его наизусть, постоянно его цитировал в своих художественных произведениях, в статьях, в воспоминаниях. «Горе от ума» положительно стало «вечным спутником» литературного мышления Гончарова.
В статье «Лучше поздно, чем никогда», написанной уже в старости, Гончаров предостерегает писателей от попыток «пробавляться одним умом, без участия сердца», фантазии, юмора, вообще поэзии и говорит: «Написал ли бы, безо всего этого, и между прочим без сердца, Грибоедов свою, горячо любимую им, Москву в «Горе от ума», Пушкин своего «Онегина»?.. Не мог бы равнодушный человек писать такими живыми красками, говорить этими образами, так близко нам, как будто мы живем среди них!». В «Литературном вечере» (1877) встречаем острый диалог: «—Что же это такое этот социализм? — спросил генерал. — Вам любопытно? — обратился к нему Кряков: — спросите того фельдфебеля, которого Скалозуб хотел дать Репетилову в Вольтеры, а меня увольте от ответа!». Влияние «Горя от ума», именно образа Чацкого, усматривают в «Обыкновенной истории», в горячих монологах романтика Адуева-младшего. Но еще явственнее оно в ранней повести Гончарова «Счастливая ошибка» (1839 г.). Здесь автор говорит о своем герое: «Молодой человек, путешествуя с пользой для ума и сердца, нагляделся на людей, посмотрел на жизнь во всем ее просторе, со всех сторон, видел свет в широкой рамке Европы, испытал много, но опыт принес ему горькие плоды — недоверчивость к людям и иронический взгляд на жизнь... У него было нечто в роде «горя от ума»... Его тяготило мертвое спокойствие, без тревог и бурь, потрясающих душу».
Обильны отклики «Горя от ума» в «Обрыве», сильнее всего — в эпизоде «С. Н. Беловодова». Здесь Чацкого с его народолюбием живо напоминает обращенное к Софье Николаевне горячее слово Райского о бедных людях. Да и характеристика воспитания Софьи Беловодовой и взглядов всей петербургской среды барской напоминает воспитание и положение в обществе Софьи Фамусовой; родственны здесь и общие — обличительные — тенденции двух авторов. В том же «Обрыве» встречаем своеобразную вариацию типа Молчалина. Чиновник Аянов «строевую службу прошел хорошо, протерши лямку около 15 лет в канцеляриях, в должности исполнителя чужих проектов. Он только угадывал мысль начальника, разделял его взгляды на дело и ловко излагал на бумаге разные проекты... Менялся начальник, а с ним и взгляд и проект: Аянов работал так же ловко и умно и с новым начальником». Аянов уже дошел «до степеней известных»: он состоит при министре по особым поручениям, «по утру является к нему в кабинет, потом к жене его в гостиную и, действительно, исполняет некоторые ее поручения, а по вечерам в положенные дни непременно составляет партию с кем попросят». У него и ему подобных один идеал: «повыситься из статских в действительные статские, а под конец за долговременную и полезную службу и «неусыпные труды», как по службе, так и в картах — в тайные советники». В своем настоящем служебном и бытовом положении Аянов, конечно, выше Молчалина: ведь, он — чиновник особых поручений при самом министре в Петербурге. Но родство этого образа — общественное и психологическое — с образом Молчалина самоочевидно. Гончаров, разумеется, не подражал тут Грибоедову, но тип Молчалина облегчил романисту осмысление и изображение Аянова.
Кстати упомянуть, что тот же Аянов излагает «наивные соображения» одной актрисы о типах и сюжете «Горя от ума».
Гораздо существеннее общее влияние «Горя от ума» на художественное творчество Гончарова, — то, что не выражается в буквальных совпадениях или сходствах и что, однако, живо ощущается при сравнительном изучении. Несомненно, Гончаров учился у Грибоедова реалистическому языку, приемам бытописи, компановке массовых сцен и т. д. В поэтике самого Гончарова центральное место занимает учение о типах, отображающих целые поколения и эпохи. Созиданию таких типов и характеров, приемам типизации Гончаров несомненно усердно учился у Грибоедова. Итоги его изучений сказались на статье «Лучше поздно, чем никогда», на предисловии к «Обрыву». В своих «Воспоминаниях» (1887) Гончаров пишет: «Фамусовы, Скалозубы, Молчалины, Хлестаковы есть и теперь и будут, может быть, всегда не в одном русском, но и во всем человеческом обществе, только в новой форме: тем и велики и бессмертны обе комедии, что они создали формы, в которые отливаются типы целых поколений».
Всего глубже влияние «Горя от ума» на Гончарова проявилось в «Мильоне терзаний».
Когда друг Гончарова, артист Александринского театра И. И. Монахов, убедил его записать свои впечатления от спектакля 10 декабря 1871 г., и Гончаров думал ограничиться коротким газетным фельетоном, — оказалось, что накопленных мыслей так много, что они еле вместились в большую журнальную статью. Из дошедших до нас писем Гончарова к редактору-издателю «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу видно, как тщательно работал Гончаров над статьей. Он пишет (16 февраля 1872 г.): «Статья большая, и поправок я предвижу не мало. У меня и теперь их уже много в голове — а кое о чем нужно еще и объясниться: кажется, есть противуречия (шутливая аллюзия на Молчалина: «противуречья есть, и многое не дельно».—Н. П.), особенно о Пушкине и Лермонтове». Двумя днями позже: «вместо двух корректур мне понадобится четыре — и сверх того сверстанные листы».
Поразительна скромность (и болезненная мнительность) Гончарова. Перед печатанием статьи в журнале он пишет Стасюлевичу (19 февраля): «Под статьею, как видите, я подписал не И. А., а И. Г., а на оберточном листке разрешаю Вам, если пожелаете, написать: И. А. Г., но не полное имя». Так и появилась в печати прославленная статья прославленного романиста под инициалами И. Г., никому ничего не говорящими. Статья имела огромный успех. В 1875 г., готовя пятый выпуск серии «Русская библиотека», посвященный «Горю от ума», Стасюлевич убеждал Гончарова поместить «Мильон терзаний» в этой книжке — и успел было убедить; статья была уже набрана, и корректура была уже послана автору, как вдруг Стасюлевич получил от Гончарова такое письмо (от 27 марта): «Я принялся было вчера за исправление присланной Вами, Михайло Матвеевич, корректуры моей статьи о Горе от ума, но нахожу, что она — просто невозможна при издании Грибоедова. Она могла быть удобна в журнале, как театральная рецензия, могла бы, пожалуй, в числе мелочей, быть помещена в полном собрании моих сочинений, если б последние когда-нибудь появились. Но так, отдельно, на виду, да еще рядом с пиэсой — не годится, не годится! Пожалуйста, бросим-те же эту затею — и не искушайте меня ни словом, ни делом, т. е. ни письмом, ни лично — письмо не подействует, а от Вас я опять спрячусь». Набор был рассыпан, и статья появилась вновь в печати только в 1881 г. в составе «Четырех очерков» Гончарова.
Зато с тех пор «Мильон терзаний» прочно вошел в золотой фонд классической русской критики.
Здесь многое превосходно: и анализ постановки «Горя от ума» в 1871 г. в Александринском театре — с тонкими замечаниями об игре отдельных актеров, и анализ самой пьесы как «сценического действия» — с раскрытием ее драматургической композиции, и общая эстетическая и литературно-историческая оценка произведения. В глубоком проникновении в концепцию драматической пьесы ярко проявилось собственное драматургическое дарование Гончарова, сказавшееся во всех его романах. Вместе с тем в истолковании образов Чацкого и «борьбы, важной и серьезной, целой битвы», какую он ведет с косным обществом, обнаружилась присущая Гончарову прогрессивность, а в горячей защите Софьи Фамусовой, в раскрытии моральных сил и достоинств девушки, изуродованной окружающей средой, раскрылся вновь гуманизм Гончарова, его «осердеченный ум».
Горячо возражая старой критике на утверждение, будто в «Горе от ума» нет движения, нет действия, Гончаров мастерски раскрывает в пьесе «тонкую, умную, изящную, страстную комедию, в тесном техническом смысле», «комедию-интригу», комедию интимную, захватывающую Чацкого и Софью, да и Лизу и Молчалина, и гениально связанную с общественной борьбой Чацкого. Мотивы и психологические ситуации интимной драмы, раскрытые Гончаровым, оказали сильное, определяющее влияние на первую постановку «Горя от ума» в Московском Художественном театре (1906 г.) и на известную статью В. И. Немировича-Данченко об этой постановке (1910 г.). «Чацкий, — писал Гончаров, — и в Москву, и к Фамусову приехал, очевидно, для Софьи и к одной Софье». «Всякий шаг Чацкого, почти каждое слово в пьесе связано с игрой чувства к Софье, раздраженного какою-то ложью в ее поступках, которую он и бьется разгадать до самого конца». Диалог с Фамусовым в начале II акта он поэтому ведет в «рассеянности», «равнодушно», «вяло», весь поглощенный мыслями о Софье. Когда Фамусов в споре, в раздражении затыкает уши, Чацкий сдерживает свое увлечение и «спешит со стыдливой улыбкой вывести и его и себя из этого положения». Эти установки Гончарова были восприняты Художественным театром и осуществлены там первым исполнителем роли Чацкого В. И. Качаловым.
Но постановщик 1906 г. допустил тогда крупную односторонность, притушив в трактовке роли Чацкого общественные мотивы, политическое протестантство, излишне усиливая черты «влюбленного юноши». Между тем Гончаров в своем истолковании с ролью влюбленного юноши органически сочетает другую роль, «роль гораздо большего, высшего значения, нежели неудачная любовь, словом, роль, для которой и родилась вся комедия». Эта роль — роль общественного борца. Чацкий — воин «и притом победитель, но передовой воин, застрельщик и — всегда жертва». Замечательно, как высоко ставит Гончаров Чацкого-борца в сравнении с Онегиным и Печориным: «Чацкий, как личность, несравненно выше и умнее Онегина и лермонтовского Печорина. Он искренний и горячий деятель, а те — паразиты, изумительно начертанные великими талантами, как болезненные порождения отжившего века. Ими заканчивается их время, а Чацкий начинает век — и в этом все его значение и весь ум». «И Онегин, и Печорин оказались неспособны к делу, к активной роли, хотя оба смутно понимали, что около них все истлело. Они были даже «озлоблены», носили в себе и «недовольство» и бродили, как тени, с «тоскующей ленью». Но, презирая пустоту жизни, праздное барство, они поддавались ему и не подумали ни бороться с ним, ни бежать окончательно». В этих суровых оценках нельзя не услышать отголосок суждений Добролюбова о героях дворянской литературы в статье «Что такое обломовщина» (1859 г.). Впрочем Гончаров и раньше, еще во времена Белинского, судил о них отрицательно. Он, конечно, и тогда, как и теперь в «Мильоне терзаний», противополагал Чацкого Онегину и Печорину.
Значение Чацкого возрастает еще больше при сопоставлении с тем обществом, против которого он борется, — «фамусовской Москвой».
Противостоят два лагеря, «или, с одной стороны, целый лагерь Фамусовых и всей братии», «отцов и старших», с другой — один пылкий и отважный боец, «враг исканий». Это борьба на жизнь и смерть, «борьба за существование». «Фамусов хочет быть «тузом — «есть на серебре и на золоте, ездить цугом, весь в орденах, быть богатым и видеть детей богатыми, в чинах, в орденах и с ключом» — и так без конца и все это только за то, что он подписывает бумаги, не читая и боясь одного — «чтоб множество не накопилось их». Других представителей фамусовской Москвы Гончаров расценивает не менее строго. Загорецкий — «явный мошенник, спасающийся от тюрьмы и откупающийся угодливостью, вроде собачьих поносок», Репетилов — «угораздившийся, на фоне старой, праздной жизни, кишащей паразитами, выделиться еще в тип заметного и там паразита!».
На суде Гончарова дворянская Москва обвиняется еще по одному пункту: развращающему воспитанию молодежи. Дурное воспитание Гончаров блестяще демонстрирует на примере Софьи Фамусовой. Превосходно проанализировав «сценическое действие» любовной интриги, Гончаров раскрывает и интимную драму, пережитую Софьей. Гончаров утверждает, что Софья оставалась, даже «когда Молчалин уже ползал у ее ног, все той же бессознательной Софьей Павловной, с той же ложью, в какой ее воспитал отец, в какой он прожил сам, весь его дом и весь круг. Еще не опомнившись от стыда и ужаса, когда маска упала с Молчалина, она прежде всего радуется, что «ночью все узнала, что нет укоряющих свидетелей в глазах!» А нет свидетелей, следовательно, все шито-крыто, можно забыть, выйти замуж, пожалуй, за Скалозуба, а на прошлое смотреть... да никак не смотреть. Свое нравственное чувство стерпит, Лиза не проговорится, Молчалин пикнуть не смеет. А муж? Но какой же московский муж, «из жениных пажей», станет озираться на прошлое? Это и ее мораль, и мораль отца, и всего круга»:
Свет не карает заблуждений,
Но тайны требует от них!
«В этом двустишии Пушкина выражается общий смысл условной морали. Софья никогда не прозревала от нее и не прозрела бы без Чацкого — никогда, за неимением случая. После катастрофы, с минуты появления Чацкого, оставаться слепой уже невозможно. Его суда не обойти забвением, ни подкупить ложью, ни успокоить — нельзя». Она не сможет не уважать его, и он будет вечным ее «укоряющим свидетелем», судьей ее прошлого. Он открыл ей глаза».
Именно в этой характеристике развращающего светского воспитания явственно ощущается близость эпизода «С. Н. Беловодова» к «Горю от ума».
Но Гончаров чужд излишнего обличительства. Воссоздав драму Софьи, Гончаров дает истинно гуманистическую оценку героине: «Вообще к Софье Павловне трудно отнестись не симпатично: в ней есть сильные задатки недюжинной натуры, живого ума, страстности и женской мягкости. Она загублена в духоте, куда не проникал ни один луч света, ни одна струя свежего воздуха. Недаром любил ее и Чацкий. После него, она одна из всей этой толпы напрашивается на какое-то грустное чувство, и в душе читателя против нее нет того безучастного смеха, с каким он расстается с прочими лицами. Ей, конечно, тяжелее всех, тяжелее даже Чацкого, и ей достается свой мильон терзаний». «Софья Павловна вовсе не так виновата, как кажется. Это — смесь хороших инстинктов с ложью, живого ума с отсутствием всякого намека на идеи и убеждения, путаница понятий, умственная и нравственная слепота — все это не имеет в ней характера личных пороков, а является как общие черты ее круга. В собственной, личной ее физиономии прячется в тени что-то свое, горячее, нежное, даже мечтательное. Остальное принадлежит воспитанию». И дальше Гончаров дает характеристику воспитания Софьи, что для нас приобретает особый интерес, как параллель воспитанию Обломова. «Французские книжки, на которые сетует Фамусов, фортепиано (еще с аккомпанементом флейты), стихи, французский язык и танцы — вот что считалось классическим образованием барышни. А потом «Кузнецкий мост и вечные обновы», балы, такие, как этот бал у ее отца, и это общество — вот тот круг, где была заключена жизнь «барышни». Женщины учились только воображать и чувствовать и не учились мыслить и знать. Мысль безмолствовала, говорили одни инстинкты. Житейскую мудрость почерпали они из романов, повестей — и оттуда инстинкты развивались в уродливые, жалкие или глупые свойства: мечтательность, сентиментальность, искание идеала в любви, а иногда и хуже. В снотворном застое, в безвыходном море лжи, у большинства женщин снаружи господствовала условная мораль — а втихомолку жизнь кишела, за отсутствием здоровых и серьезных интересов, вообще всякого содержания, теми романами, из которых и создалась «наука страсти нежной». Онегины и Печорины — вот представители целого класса, почти породы, ловких кавалеров... Они и были героями и руководителями этих романов, и обе стороны дрессировались до брака, который поглощал все романы почти бесследно, разве попадалась и оглашалась какая-нибудь слабонервная, сентиментальная — словом, дурочка, или героем оказывался такой искренний «сумасшедший», как Чацкий».
Как видим, к общему осмыслению «Горя от ума» Гончаров привлекает «Онегина» и «Героя нашего времени». Он суров к Онегину и Печорину, видя в них ответственных представителей старого дворянского общества. Необходимо до конца осмыслить эту критику дворянского общества в «Мильоне терзаний». Она является превосходным комментарием к «Горю от ума».
Но «Мильон терзаний» не менее важен и для понимания Гончарова и его творчества. «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв» в общей ранней концепции, да и в завершенном своем виде, являются трилогией об обломовщине, о старом упадающем барстве крепостнической эпохи. Трилогия захватывает и усадебное, и городское, и столичное (петербургское) барство. Нехватало только московского барства как своеобразного варианта. «Мильон терзаний» восполнил этот пробел в картинной галлерее Гончарова. Следует подчеркнуть, что статья Гончарова, стоя на высоком литературно-критическом уровне, написана почти художественно: с элементами яркой образности, с характеристическими эпитетами, меткими сравнениями, с метафоричностью, сильной эмоциональностью, с таким вчувствованием в психологию персонажей, какое доступно только писателю-художнику. Фамусовщина — конечно, не обломовщина, но в общей критике «отжившего века» Гончаров сумел сблизить их (вспомним «снотворный застой», в котором вырастала Софья Фамусова). Гениальной комедией Грибоедова он как бы восполнял свой гениальный роман об Обломове.
Замечательно, что та тяга Гончарова к «положительному герою», какая проявляется во всех трех романах писателя, нашла свое удовлетворение в образе Чацкого. Совершенно несомненно, что о Чацком Гончаров говорит с бо́ льшим увлечением, чем о собственных «положительных» героях: Адуеве-старшем, Штольце, Тушине. Гончаров пишет: «Чацкий неизбежен при каждой смене одного века другим». Еще: «Каждое дело, требующее обновления, вызывает тень Чацкого — и кто бы ни были деятели, около какого бы человеческого дела, — будет ли то новая идея, шаг в науке, в политике, в войне — ни группировались люди — им никуда не уйти от двух главных мотивов борьбы: от совета «учиться, на старших глядя», с одной стороны, и от жажды стремиться От рутины к «свободной жизни» вперед и вперед, с другой». В своем увлечении Чацким Гончаров готов поставить его вслед за «сервантесовским Дон-Кихотом и шекспировским Гамлетом». «В честных, горячих речах этих позднейших Чацких будут вечно слышаться грибоедовские мотивы и слова, — и если не слова, то смысл и тон раздражительных монологов его Чацкого. От этой музыки здоровые герои в борьбе со старым не уйдут никогда».
Гончаров ищет и находит Чацких не только в литературе, но и в подлинной жизни. «Много можно было бы привести Чацких — являвшихся на очередной смене эпох и поколений — в борьбе за идею, за дело, за правду, за успех, за новый порядок, на всех ступенях, во всех слоях русской жизни и труда — громких, великих дел и скромных кабинетных подвигов». Гончаров называет только двух таких Чацких в русской жизни — и выбор примеров замечателен. «Вспомним не повесть, не комедию, не художественное произведение, а возьмем одного из позднейших бойцов со старым веком, например, Белинского. Многие из нас знали его лично, а теперь знают все. Прислушайтесь к его горячим импровизациям — и в них звучат те же мотивы, и тот же тон, как и у грибоедовского Чацкого. И также он умер, уничтоженный «мильоном терзаний», убитый лихорадкой ожидания и не дождавшийся исполнения своих грез, которые теперь — уже не грезы больше». Другой пример — Герцен с его «Колоколом»: Вспомним его стрелы, бросаемые в разные темные, отдаленные углы России, где они находили виноватого. В его сарказмах слышится эхо грибоедовского смеха и бесконечное развитие острот Чацкого». Эти строки писались через два года после «Обрыва» и вскоре после смерти Герцена писателем, который сам был беспощадно высмеян Герценом в «Колоколе» за свою цензурную службу.
Несомненно, что «Мильон терзаний» является самым прогрессивным документом в литературно-теоретическом наследии Гончарова.
Но мы не должны преувеличивать радикализм воззрений, изложенных в прославленной статье, как не преувеличиваем реакционности в тенденциях «Обрыва».
Характерно, что сам Гончаров связывает «Мильон терзаний» с «Обрывом» в одном пункте. Указывая, что Фамусов, «от страха за себя, за свое безмятежно-праздное существование», клевещет на Чацкого»: «Да он властей не признает!» — Гончаров продолжает: он лжет, «потому что ему нечего сказать, и лжет все то, что жило ложью в прошлом. Старая правда никогда не смутится перед новой — она возьмет это новое, правдивое и разумное бремя на свои плечи. Только больное, ненужное боится ступить очередной шаг вперед». Ясно: здесь воссоздается основная концепция «Обрыва», концепция, одинаково отвергающая «больное и ненужное» и в старом, и в новом, но оставляющая руководство жизнью за старой правдой бабушки Бережковой, правдой «бабушки России» (в письме к П. А. Валуеву 1877 г. пояснено: «сильной, властной, консервативной части Руси»).
Но в «Обрыве», как «больное и ненужное», отвергнуто новое Марка Волохова и благосклонно принято новое Тушина. И в «Мильоне терзаний» мы наблюдаем осторожный отбор, своеобразную селекцию семян будущего, нового. «Живучесть роли Чацкого, — пишет Гончаров, — состоит не в новизне неизвестных идей, блестящих гипотез, горячих, дерзких утопий», «у него нет отвлеченностей». А в дальнейших рассуждениях — прямые намеки на «новых людей», на «нигилистов», на Волоховых. «Провозвестники новой зари или фанатики, или просто вестовщики — все эти передовые курьеры неизвестного будущего являются и по естественному ходу общественного развития — должны явиться», но они, к их невыгоде, противопоставляются Чацкому. «Он не теряет земли из-под ног и не верит в призрак». «Перед увлечением неизвестным идеалом, перед обольщением мечты он трезво остановится, как остановился перед бессмысленным отрицанием «законов, совести и веры» в болтовне Репетилова, и скажет ему свое: «Послушай, ври, да знай же меру!» Он очень положителен в своих требованиях и заявляет их в готовой программе». Чацкий, уверяет Гончаров, примиряет новую правду со старой правдой: «он не гонит с юношеской запальчивостью со сцены всего, что уцелело, что, по законам разума и справедливости, как по естественным законам в природе физической, осталось доживать свой век, что может и должно быть терпимо. Он требует места и свободы своему веку: просит дела, но не хочет прислуживаться, и клеймит позором низкопоклонство и шутовство. Он требует «службы делу, а не лицам», не смешивает «веселья или дурачества с делом», как Молчалин, — он тяготится среди пустой, праздной толпы «мучителей, зловещих старух, вздорных стариков», отказываясь преклоняться перед их авторитетом дряхлости, чинолюбия и пр. Его возмущают безобразные проявления крепостного права, безумная роскошь и отвратительные нравы «разливания в пирах и мотовстве» — явления умственной и нравственной слепоты и растления». Чтобы не было недоразумений о «готовой программе», Гончаров еще раз перечисляет свободы, каких добивается Чацкий: «свобода от всех этих исчисленных цепей рабства, которыми оковано общество», а потом свобода — «вперить в науки ум, алчущий познаний», или беспрепятственно предаваться «искусствам творческим, высоким и прекрасным», — свобода «служить или не служить», «жить в деревне или путешествовать», не слывя зато ни разбойником, ни зажигателем — и ряд дальнейших очередных подобных шагов к свободе — от несвободы». Какие дальнейшие очередные шаги к свободе — не указано, но они должны быть «подобными» перечисленным и не давать оснований к наименованию «разбойником и зажигателем».
Нельзя не почувствовать здесь косвенной полемики Гончарова с критиками, нападавшими на него за Марка Волохова в 1869 году.
В этой характеристике Чацкий унижен в своей идейности: не названо обличение им придворной знати, реакционной военщины, столь же реакционных цензуры и школьного ведомства, не упомянуто о политических реформах и т. д. То, что для нас очевидно, то, о чем говорили в печати до Гончарова не только Герцен, но и Апол. Григорьев, и А. П. Милюков, и другие: то, что Чацкий представительствует декабризм, — об этом не упоминает Гончаров. Между тем в революционную программу декабризма входила борьба не только с крепостным правом, но и с самодержавием. Легитимизм Гончарова не допускал сочувствия такой борьбе декабристов-Чацких, и она замолчана в «Мильоне терзаний». «Блестящие «гипотезы», «дерзкие утопии» т. е. социалистические теории, прямо отвергнуты в статье.
Так сам Гончаров снижал и укорачивал значение своей замечательной, классической статьи о «Горе от ума».
Но, подобно тому, как образы «Обломова» даны в такой типизации и глубине, что могут быть истолкованы смелее и шире, чем хотел бы автор (как и сделал Добролюбов), так и формулы «Мильона терзаний» даны в такой обобщенности, что также могут пониматься глубже. Во всяком случае многое в статье продумано так глубоко и сформулировано так сильно, что сохраняет свою жизненность и по сей день. Учебная литература многое освоила для школьного обихода из «Мильона терзаний». И когда в юбилейной речи 1929 г. А. В. Луначарский говорил о значении «Горя от ума» для нашей современности, он близко подошел к формулировке, данной еще Гончаровым: «пока будет существовать стремление к почестям помимо заслуги, пока будут водиться мастера и охотники угодничать и «награжденья брать и весело пожить», пока сплетни, безделье, пустота будут господствовать, не как пороки, а как стихии общественной жизни, — до тех пор, конечно, будут мелькать и в современном обществе черты Фамусовых, Молчалиных и других».
Огромную заслугу Гончарова составило то, что́ сам он говорит или что́ заставляет других додумать — о сценическом воплощении «Горя от ума».
Мастерской анализ текста комедии предъявлял каждому очередному постановщику «Горя от ума» тройственную задачу: раскрыть в постановке «яркую, полную комизма, картину нравов, острую социально-политическую сатиру и высокую психологическую драму. Анализ образов Чацкого и Софьи дал опору в правильной трактовке этих труднейших ролей пьесы. Морально-психологическая характеристика фамусовского общества завершает установку основных начал, на какие должно опираться сценическое исполнение «Горя от ума».
Но Гончаров не ограничился только этими общими установками. Он коснулся некоторых конкретных вопросов и здесь показал себя незаурядным театроведом.
Превосходно то, что говорит Гончаров о языке и стихе в сценическом воспроизведении. Для него одним из «главных сценических условий» является язык, «т. е. такое же художественное исполнение языка, как и исполнение действия». Это «исполнение языка», «действие в слове», по Гончарову, должно быть «как исполнение отличным оркестром образцовой музыки, где безошибочно должна быть сыграна каждая музыкальная фраза и в ней каждая нота. Актер, как музыкант, обязан доиграться, т. е. додуматься до того звука голоса и до той интонации, какими должен быть произнесен каждый стих: это значит додуматься до тонкого критического понимания всей поэзии пушкинского и грибоедовского языка». Для Гончарова язык «Горя от ума» — это «своего рода литературная музыка». Сосницкий, Щепкин, Мартынов, Максимов, Самойлов «умным и рельефным произношением сохраняли всю силу образцового языка, давая вес каждой фразе, каждому слову».
Замечательны суждения о строгом стиле, необходимом в исполнении гениальной комедии, о недопустимости шаржа, гротеска. Критикуя спектакль 10 декабря 1871 г., Гончаров пишет так, что попадает не в бровь, а в глаз многим теперешним исполнителям и постановщикам: «Действующие лица хотят играть грибоедовские стихи, как текст водевиля. В мимике у некоторых много лишней суеты, этой мнимой, фальшивой игры. Даже и те, кому приходится сказать два-три слова, сопровождают их или усиленными, ненужными на них ударениями или лишними жестами, не то какой-то игрой в походке, чтобы дать заметить о себе на сцене, хотя эти два-три слова, сказанные умно, с тактом, были бы замечены гораздо больше, нежели все телесные упражнения».
Гончаров напоминает, что «действие происходит в большом московском доме». Один из выводов отсюда — трактовка роли Молчалина: «Молчалин, хотя и бедный маленький чиновник, но он живет в лучшем обществе, принят в первых домах, играет со знатными старухами в карты, следовательно, не лишен в манерах и тоне известных приличий». Это понимание Молчалина восприняли и раскрыли потом в своих статьях и постановках П. П. Гнедич и В. И. Немирович-Данченко.
От каждого исполнителя любой роли в «Горе от ума», хотя бы самой маленькой, Гончаров требовал осмысления всей пьесы и анализа собственной роли. «Артисты, вдумывающиеся в общий смысл и ход пьесы, и каждый в свою роль, найдут широкое поле для действия. Труда к одолению всякой, даже незначительной роли, не мало — тем более, чем добросовестнее и тоньше будет относиться к искусству артист».
В одном вопросе Гончаров оказался во власти архаической традиции. При первых постановках в тридцатых годах «Горе от ума» исполнялось как «салонная», современная пьеса, в современных костюмах и обстановке. И эта манера сохранялась и в позднейшие годы. К нашему удивлению, Гончаров в 1872 г. (и в позднейших перепечатках статьи) высказался за продление такой «модернизации» постановки. «Некоторые критики возлагают на обязанность артистов исполнять и историческую верность лиц, с колоритом времени во всех деталях, даже до костюмов, т. е. до фасона платьев, причесок включительно. Это трудно, если не совсем невозможно... Старомодные фраки, с очень высокой или очень низкой талией, женские платья с высоким лифом, высокие прически, старые чепцы — во всем этом действующие лица покажутся беглецами с толкучего рынка».
Парадокс о «беглецах с толкучего рынка» прозвучал неубедительно. Суворин, наоборот, возмущался тем, что «Горе от ума» «играется на петербургской сцене сорок лет в жалкой, невероятной обстановке, показывающей все пренебрежение театральных чиновников и режиссеров к этому бессмертному произведению. До сих пор театральное ведомство даже не решило вопроса о единообразии костюмов, и актеры являются на сцене, как в маскараде, кто в костюме двадцатых годов, кто в современном». Еще раньше Суворина, лет за десять, известный театральный критик А. Н. Баженов в своих статьях 1862 и 1863 гг. открыл целую агитацию за «необходимость обновления сценической постановки «Горя от ума» и неутомимо доказывал, что «действующие лица должны быть костюмированы по моде того времени».
Парадокс Гончарова не был опасен для театра. Правда, с некоторыми замедлениями, но агитация Баженова возымела успех. В 1886 г. в московском театре Корша «Горе от ума» ставилось в декорациях художника А. С. Янова, «с орнаментовкой, плафонами, имитацией настенной живописи, кариатидами, круглыми статуями и барельефами», как объявлял, не без наивности, театр. В 1906 г., в первой постановке Художественного театра, историческая характерность и типичность в оформлении подняты были на высокий уровень, и с тех пор самый спор был снят.
Но та же постановка Художественного театра 1906 г. показала, что в глубоких, основных проблемах сценического воплощения «Горя от ума» Гончаров бывал более прав и более проницателен, чем позднейшие постановщики. Гончаров блестяще раскрыл интимную, психологическую драму Чацкого — Софьи. И вслед за ним Художественный театр стремился интимизировать постановку. «Влюбленный молодой человек — вот куда должно быть направлено все вдохновение актера в первом действии. Остальное — от лукавого. Отсюда только и пойдет пьеса, с ее нежными красками, со сценами, полными аромата поэзии, лирики», — писал В. И. Немирович-Данченко. Для Чацкого, «по замыслу театра, рассказ о Максиме Петровиче — забавный, хотя и очень типичный анекдот».
Но Гончаров видел в пьесе не только «горячий поединок» Чацкого и Софьи, но и общественную драму, «другую борьбу — важную и серьёзную, целую битву» — между представителем передовых воззрений и косным дворянским обществом.
Советский театр восстановил нарушенное равновесие и в своих постановках возвратился к истолкованию Гончарова. И впредь наш театр будет обращаться за консультациями к автору «Мильона терзаний» всякий раз, как будет возобновляться постановка «Горя от ума».
В собраниях сочинений Гончарова и в хрестоматиях «Мильон терзаний» печатается с сокращением. Между тем, в первопечатном тексте 1872 г. имелся обширный экскурс, где Гончаров подробно говорил об игре актеров и, попутно о самих грибоедовских персонажах.
И. А. Гончаров обратился к комедии «Горе от ума» по нескольким причинам, одна из которых указана им же самим: «...мы здесь не претендуем произнести критический приговор в качестве присяжного критика... мы, в качестве любителя, только высказываем свои размышления... по поводу одного из последних представлений «Горя от ума» на сцене».
В ноябре 1871 года Гончаров побывал на спектакле «Горе от ума» в петербургском Александринском театре. У него осталось ощущение, что комедию Грибоедова понимают неверно, и хотя он не стремился навязать абсолютно всем свою точку зрения, у него возникла потребность поделиться размышлениями с читателями.
Но я думаю, что спектакль был не причиной, а поводом для создания критического этюда о Грибоедове. Дело в том, что «Горе от ума» — классическое произведение литературы, в котором отражен конфликт старого и нового, поставлена проблема смены поколений. А ведь именно она и составляла самую суть трех романов Гончарова: «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв». Крушение старого и рождение нового мира — один из острейших вопросов эпохи, в которую жил Гончаров. Поэтому совершенно естественно, что он обратился к комедии Грибоедова. Ее персонажей он считал «до сих пор жизненными». По мнению Гончарова, его время многое унаследовало от эпохи Грибоедова; герои «Горя от ума» изменились, но не исчезли.
Главный герой для Гончарова — Чацкий. Писатель сравнивает его с Онегиным и Печориным, причем в пользу Чацкого, защищает его от нападок критиков, поставивших под сомнение ум центрального грибоедовского персонажа. Ведь и для Пушкина, и для Белинского, и для многих других Чацкий был лишь пародией на умного человека. Почему Гончаров становится на его защиту? Мне кажется потому, что идеалист, романтик Чацкий по духу близок «людям 40-х годов», к числу которых принадлежал и сам автор «Мильона терзаний». Кстати, Чацкий неумолимо похож на Адуева-младшего, героя «Обыкновенной истории». Есть нечто общее и в завязках комедии Грибоедова и первого романа Гончарова: наивный пылкий герой попадает в холодный и жестокий мир. Зато развязки совершенно непохожи: Чацкий уехал, а Александр Адуев смирился с законами безжалостного мира, прижился в нем. Но в любом случае Чацкий понятен и близок Гончарову, как и вся комедия. Он буквально вживается в нее, потому и исследует ее так вдохновенно, так тщательно и благосклонно.
Список литературы:
1.Сборник статей «А. С. Грибоедов в русской критике» А. М. Гордин
2.«Комментарии к комедии Грибоедова» С. А. Фомичев
3.«Творчество Грибоедова» Т. П. Шаскольской
4. А. Н. Баженов. Сочинения и переводы, т. I, М., 1869 г., стр. 216—224.
|
|