
Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Первофантазм фантазм первоначал. Первоначало фантазма
|
|
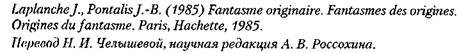 |
Постскриптум (1985)
Этот текст, как и всякий психоаналитический текст, а, может быть, даже более чем любой другой, точно датирован. Утверждая это, мы не имеем в виду, что данный текст устареет через двадцать лет после его первой публикации в журнале «Les Temps modernes». По крайней мере, мы надеемся, что этого не произойдет в интересах сегодняшних читателей и в наших собственных интересах. Но, без сомнения, он несет эту дату: она связана с обстоятельствами его появления на свет и с самой его жизнью.
Он был написан с некоторой срочностью, и срочность поначалу объяснялась тем, что произошел разрыв. Действительно, в 1964 году мы только что объявили о нашем отказе следовать за Лаканом в направлении, которое впоследствии будет называться Школой и станет его школой, но к тому времени мы еще не вполне поняли, что наше отдаление от его идей уже произошло. Отсюда в этом коротком очерке свидетельства особого рода колебания между смелостью и осторожностью, колебания, которое также ощущается в ритме написанного: мы то продвигаемся шаг за шагом, то чрезмерно сгущаем. Пользуясь выражением «возвращение к Фройду», но вкладывая в него свой смысл, мы объясняем наш отказ безоговорочно последовать за Лаканом. Но, вместе с тем, мы заботимся об установлении преемственности между ним и Фройдом, и это нас немного сдерживает.
Наш труд появился на свет накануне выхода Словаря по психоанализу, работа над которым к тому времени как раз завершалась. Наверное, его тоже можно рассматривать с точки зрения принадлежности к экзегетическому жанру, но только при условии, что мы имеем в виду представление об обогащении одной мысли другой, столь же независимой, сколь и загадочной, а не использование уже просеянной почвы.
Вслед за обнаружением сокровищницы, перед тем как сделать описание, приходит время восхищения, а затем неизбежного растрачивания. Не будем забывать, что о богатстве Фройдовской сокровищницы даже не подозревали те, кто в то время довольствовался извлечением выгоды, разве что они поручали единственному «Другому» заботу провозглашать Истину.
Вначале нам было необходимо снова пролить свет на совершенно забытые концепты (давно забытые Фройдистами и самим Фройдом), такие, как опора или первофантазм. Было необходимо вернуть всю полноту значения таким основополагающим, если не сказать трансцендентальным, но впоследствии обезличенным понятиям, как аутоэротизм, и таким обесцененным и непонятым, как соблазнение.
Вскоре задача усложнилась, нам приходилось разрываться между двумя необходимостями: с одной стороны, не искажая и не схематизируя мысль Фройда, постараться воссоздать ее основные положения, отступления и повороты, двойственность и, может быть, «наивность» (филогенетическая гипотеза...); а, с другой стороны, двигаться вперед, пытаясь очертить, опираясь на вновь открытые понятия, конфигурацию более ясную, более связную, более действенную.
Это означает, что читатель — и мы сами, перечитывая, — столкнется с многослойностью этого текста и найдет в нем:
• необходимую и полезную археологию понятий, претендующую на то, чтобы
быть одновременно достоверной и критической;
• попытку толкования проблематики первоначального, в которой можно по
чувствовать некое структуралистское влияние, несмотря на отказ это при
знать;
• наконец, источник новых путей развития, по которым каждый из авторов
будет следовать дальше все более свободно, утвердившись в своем выборе
внутри того опыта, поле которого было очерчено и вспахано Фройдом.
По крайней мере, мы рискнули вновь открыть и развернуть на «сексуальном» поле психоанализа «детский» вопрос о первоначалах, вопрос, который, если не может по праву быть приведен в качестве позитивного знания, то может все-таки являться в мыслях: мыслях психоаналитика и философа, которые здесь пытаются идти в ногу.
Вновь прочитанный сегодня, когда он опубликован без изменений — мы лишь добавили названия глав, включили в текст некоторые пояснения и уточнили ссылки — этот очерк сохраняет для нас значение указателя: того пальца, который обозначает вещь, того жеста, который продолжается дорогой с неизбежными поворотами, того знака загадки, но не ее решения.
«Я приходил по вечерам»
С самого начала психоанализ охватывает материал фантазмов. В основополагающем для теории случае Анны О. Брейер проникает в мир воображения пациентки, ее «домашний театр», чтобы через языковое и эмоциональное выражение позволить катарсис, и, похоже, ничем другим он не занят. «Я приходил по вечерам, — говорит он нам, — время, когда мог погрузить ее в гипноидное состояние, и освобождал от всех фантазмов, которые накопились с момента нашей прошлой встречи» [1]. Читая историю этого случая, с удивлением замечаешь, что Брейер, в отличие от Фройда, очень мало заботился о поиске реально пережитых составляющих, которые могли бы лежать в основе снов наяву. Событие, рассматриваемое как источник невроза, изначально содержит некий воображаемый элемент, вызывающую травму галлюцинацию.
Между фантазмом и диссоциацией сознания, приводящей к формированию бессознательного психического ядра, отношения циклические: фантазм становится травмирующим, если он появляется в особом, так называемом «гипноидном» состоянии, и наоборот, фантазм, вызывая испуг и мнимую смерть, создает это фундаментальное состояние; существует «самогипноз».
Таким образом, Брейер двигается в плоскости воображаемого мира, пытаясь ограничить его патогенное воздействие, не прибегая к внешним отношениям. А чем тогда отличается практика некоторых современных психоаналитиков, тех, и частности, кто называет себя последователями Мелани Кляйн? На наш взгляд, здесь сразу четко очерчены, вербализованы (конечно же, аналитиком) воображаемые драмы, являющиеся подосновой словесного и жестового материала, который пациент приносит на сеанс [2]: интроекция и проекция воображаемой груди пли пениса, вторжение, борьба и достижение компромисса между плохим и хорошим объектом, и т. д. Предполагается, что прогресс в ходе анализа, если в конце концов он ведет к улучшению приспособления к действительности, будет результатом не какого-то коррекционного приема, но диалектики фантазмов, которые «интегрируются» по мере своего раскрытия; по завершении анализа постоянство интроекции хорошего объекта (такого же воображаемого, как плохой), допускает проникновение инстинктов в структуру, созданную на основе преобладания либидо над влечением к смерти.
Фантазм, немецкое слово: Phantasie. Это термин, означающий воображение, но не столько «способность воображения» (Einbildungskraft философов), сколько воображаемый мир и его содержания, «воображение» или «фантазмы», за которые так охотно прячутся невротики и поэты. В рассказанных субъектом или самим психоаналитиком сценах присутствует оттенок фантасмагории, который ни с чем не спутаешь. Как с учетом сказанного избежать попытки определять этот мир через отношение к тому, от чего он сам себя отделяет: миру реального? Их противопоставление, пришедшее в психоанализ извне, связано с риском немедленно ограничить через свои термины психоаналитическую теорию и практику.
Как психоаналитики выбираются из теоретического тупика? Не слишком успешно, зачастую привлекая теории познания, и теории довольно грубоватые.
Такой исследователь, как Мелани Кляйн, техника которой совершенно свободпа от каких-либо ортопедических целей, в отличие от других не скрывает своей озабоченности необходимостью отличать возможные сочетания образов во снах наяву от того, что она называет бессознательными фантазмами [3], обладающими структурирующей функцией и постоянством. В конце концов, она приходит к точке зрения, что эти последние являются «ложными восприятиями». «Хороший» объект и «плохой» объект, строго говоря, должны для нас употребляться в кавычках [4], даже если все развитие субъекта происходит в этих кавычках.
А как же Фройд? Это исследование раскроет всю двойственность его концепции и то, что при каждом новом повороте мысли он оставляет открытым и другой путь. Но, если мы начнем с рассмотрения наиболее признанных формулировок его учения, представляется, что мир фантазмов целиком находится в рамках противопоставления субъективного и объективного, между внутренним миром, который стремится к иллюзорному удовлетворению, и миром внешним, который постепенно, посредством системы восприятия,
подчиняет субъекта принципу реальности. Бессознательное в таком случае предстает как наследник того, что первоначально было единым миром субъекта и подчинялось одному только принципу удовольствия. Мир фантазмов можно уподобить некоему «природному фонду», который цивилизованные нации создают для себя, чтобы обеспечить непрерывность природного состояния. «Вместе с введением принципа реальности одна из форм мыслительной деятельности отделяется вследствие расщепления, оставаясь независимой от испытания реальности и подчиненной лишь принципу удовольствия. Именно так происходит то, что называется порождением фантазмов» [5]. Для бессознательных процессов «проверка реальности» не имеет значения, реальность мысли эквивалентна реальности внешней, желание — его исполнению и событию» [6]. Такое отсутствие «эталона реальности» в бессознательном увеличивает риск определения его как неполноценного существования, состояния меньшей дифференцированности.
В психоаналитической практике недостаточность концептуального аппарата не может не иметь последствий. Почему заслуживают упоминания все техники, которые, исходя из противопоставления воображаемого и реального, служат, в конечном счете, окончательной интеграции принципа удовольствия и принципа реальности, направления, следуя которому невротик остановится на полпути? Конечно, речь совсем не о том, чтобы прибегать в ходе самого курса к «реалиям» внешним, материал должен быть проанализирован в отношении пациента к аналитику, «в переносе». Но, с учетом сказанного, не предполагает ли любое истолкование переноса: «Вы ведете себя со мной так, как если бы...», то, что подразумевается: «И вы хорошо знаете, что я в действительности совсем не тот, кто вы думаете»?
К счастью, нам на помощь приходит техника: мы не считаем возможным высказать вслух злополучное подразумеваемое [7]. При более радикальном подходе это значит, что аналитическое правило могло бы быть понято как эпохе, полная приостановка всякого суждения реальности1. Не означает ли это стать на одну доску с бессознательным, которое не знает подобного суждения? Некий пациент, сообщив нам о своем усыновлении, затем рассказывает о фантазме, где он ищет настоящую мать, и обнаруживает, что она — светская женщина, ставшая проституткой. Согласитесь, нетрудно за этим увидеть банальную тему «семейного романа», как его представляет ребенок, который не был усыновлен. В рамках нашей феноменологической редукции различение становится невозможным, если только мы не хотим квалифицировать как «защиту реальностью» ту опору, которую этот пациент находит, например, в документах, удостоверяющих его усыновление. Приостановка в отсылке к реальности становится выражением: «Это именно вы утверждаете», которое звучит почти как разоблачение: «Все это является субъективным».
Тем не менее, в случае реального усыновления, намек на которое здесь прозвучал, различие будет представлено клинически: появляются фантазмы поиска матери, которые, заметим, быстро ослабевают, эпизоды, где попытка
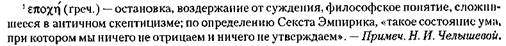 |
247
достижения настоящей матери символически выражается действием в некотором вторичном состоянии, и т. д. В ходе анализа и даже с самого его начала многочисленные элементы — содержания сновидений, неожиданные повторяющиеся эпизоды засыпания во время сессий, означая массивное и действенное проявление тенденции регрессии к первоначалам, — указывали на разъединение необработанной реальности и вербализации.
Озабоченный необходимостью знать, с какой областью существа он имеет дело, Фройд — и кто его в этом упрекнет? — не слишком хорошо отдает себе отчет, когда ему нужно оправдать приостановку суждения реальности в ходе анализа. Вначале он, почти что, считал своим долгом приоткрыть пациенту свои карты. Но, сам столкнувшись, как и пациент, с альтернативой реальное-воображаемое, как мог он избежать двойного риска, или видеть, как тает интерес к анализу, если вдруг аналитик откроет пациенту, что весь его материал лишь продукт воображения (Einbildungen), или впоследствии упрекать себя, что помогал ему принимать фантазмы за действительность [8]? Здесь в качестве решения Фройд обращается к понятию «психическая реальность», новому измерению, к которому анализируемый сначала не может иметь доступ. Но что это значит? Что имеет в виду Фройд?
Зачастую ничего другого, кроме реальности наших мыслей, нашего личного мира, реальности, которая ничуть не менее значима, чем мир материальный, и влияние которой в том, что касается невротических проявлений, будет определяющим. Если в этом заключено противопоставление реальности психологических явлений и «реальности материальной» [9], «реальности мысли» и «реальности внешней» [10], то мы возвращаемся к утверждению: мы двигаемся в плоскости воображаемого, субъективного, но это субъективное — наш объект, объект психологии так же значим, как и объект естественных наук. И сам термин психическая реальность, разве он не означает, что Фройд мог бы придать достоинства объекта психическим явлениям, лишь прибегая к материальной реальности и утверждая, что «они тоже обладают своего рода реальностью» [11]. Приостановка суждения реальности из-за принадлежности к новой категории вновь отбрасывает нас в «реальность» чистой субъективности.
И тем не менее... Когда Фройд в последних строчках «Толкования сновидений» вводит свое понятие психической реальности, подводя итог всего исследования (сновидение — это не фантасмагория, а текст, который можно расшифровать), он не определяет ее как все субъективное, как психологическое поле, но как гетерогенное ядро в этом поле, сопротивляющееся, единственное подлинно «реальное» и противоположность основной массе психических явлений: «Надо ли признавать за бессознательными желаниями реальность? Я не мог бы однозначно утверждать. Естественно, этого не надо признавать в отношении разного рода переходных и связывающих мыслей. Когда ощущаешь присутствие бессознательных желаний, приведенных к их окончательному и подлинному выражению, вынужден согласиться, что психическая реальность — это особая форма существования, которую не спутаешь с реальностью материальной» [12].
Есть три разновидности явлений (или реальностей, в более широком смысле): реальность материальная, реальность «связующих мыслей», или
психологического, и реальность бессознательного желания и его «самого подлинного выражения» (фантазм).
Эту психическую «реальность», новую категорию, которую Фройд постоянно оставляет в тени, не удается с ходу определить как «символическое» или «структурирующее». Если Фройд всякий раз ее находит и теряет, то это происходит не только из-за недостаточности концептуального аппарата: ее отношение — структурирующее само по себе — к реальному и воображаемому создает всю ту сложность и двусмысленность, как они представлены в центральной области фантазма.
Остается добавить немного в отношении эпохе, выраженной в аналитическом правиле: «Говорить все и только лишь говорить». Оно не является приостановкой реальности внешних событий в угоду реальности субъективной. Оно создает новое поле, поле высказывания, где различение реального и воображаемого может сохранять свое значение (случай пациента, о котором мы ранее упоминали). Гомологичность поля аналитического и поля бессознательного, которому оно и должно быть обязано своим возникновением, поддерживается не их общей «субъективностью», но глубоким родством бессознательного с полем речи. Не «это вы, кто это говорит», но «это вы, кто это говорит».
«Я больше не верю в мою невротику»
1895-1899 годы ознаменовались открытием психоанализа, а также сомнительного характера борьбой, которая велась вокруг, и тем, что эта, ставшая классической, история писалась упрощенно.
Если мы прочитаем, например, введение Эрнеста Криса к работе «Рождение психоанализа» [13], смысл эволюции взглядов Фройда станет совершенно ясным: факты, — и в первую очередь, анализ, которому Фройд подверг самого себя, — убедили его в необходимости оставить первоначальную концепцию; сцена соблазнения взрослым, которая до этого олицетворяла для Фройда сам тип психической травмы, теперь уже не реальное событие, но фантазм, сам всего лишь продукт и маска спонтанных проявлений детской сексуальной активности. Написав свою собственную историю, разве Фройд не высказал эту точку зрения? «Если верно, что симптомы истериков восходят к ложным травмам, новый факт как раз заключается в том, что они фантазируют такого рода сцены; поэтому необходимо отдавать себе отчет о реальности психической рядом с реальностью практической. Вскоре последовало открытие, что эти фантазмы служат также диссимуляции аутоэротической активности ребенка в первые годы жизни, облагораживают ее и поднимают на более высокий уровень развития. То есть за этими фантазмами стоит сексуальная жизнь ребенка во всей ее полноте» [14]. Фройд признает свою «ошибку»: сначала он приписал было тому, что «снаружи», то, что на деле происходит «внутри»...
Теория сексуального соблазнения — уже одно только слово должно привлечь внимание: разработка схемы объяснения этиологии неврозов, а не просто клиническая констатация частоты случаев соблазнения ребенка взрослым и не просто гипотеза, что подобные факты занимают важное место в цепи травмирующих событий. Для Фройда речь идет о том, чтобы обосновать открытую им связь между сексуальностью, травмой и защитой: показать, что травмирующее действие есть в самой природе сексуальности, и, наоборот,
мы можем говорить о травматизме и видеть в нем источник невроза лишь в случаях, когда сексуальное соблазнение произошло. Когда это положение подтверждается (в 1895-1897 годах), роль защитного конфликта в генезе истерии и в целом «психоневрозов защит» будет полностью признана, причем это не приведет к ограничению этиологической функции травмы. Оба понятия, защиты и травмы, формулируются в неразрывной связи: теория соблазнения, показывая, как сексуальный травматизм один только способен вызвать «патологическую защиту» (вытеснение), делает попытку объяснить обнаруженный в клинике факт («Исследование истерии») — то, что вытеснение действует избирательно на сексуальность.
Остановимся ненадолго на схеме, которую предлагает Фройд. Мы видим, что действие травмы распадается на несколько периодов и всегда предполагает существование, по меньшей мере, двух событий. В первой сцене, названной «сцена соблазнения», ребенок переживает попытку сексуального соблазнения со стороны взрослого («посягательство» или просто предложения), но это не вызывает у него сексуального возбуждения. Если мы беремся оценить подобную сцену как травматичную, то придется оставить в стороне соматическую модель травмы: здесь мы не найдем ни притока внешних возбуждений, ни обилия «защит». Если мы квалифицируем ее как сексуальную, то вынуждены признать, что она таковой является снаружи, для взрослого. Сам ребенок не имеет в своем распоряжении ни соматических условий возбуждения, ни представлений, необходимых для интеграции события; сексуальное, по сути, событие не приобретает сексуального значения для субъекта: оно «сексуальное до-сексуальное» [15]. Что же касается второй сцены, приходящей после достижения пубертата, она, если можно так сказать, еще менее травматична, чем первая: не насильственная по характеру, сцена кажется бесцветной, а ее влияние сводится к ретроактивному оживлению в памяти через некоторые ассоциативные связи первого события. Но когда это происходит, воспоминание о первой сцене, вызывая подъем сексуального возбуждения, нападает на «Я» с тыла и обезоруживает его, приводя к неспособности использовать защиты, которые в норме повернуты вовне, и тем самым вызывая защиту патологическую или «первичный посмертный процесс»: воспоминание вытеснено.
Мы здесь обращаемся к концепциям, имеющим на первый взгляд, лишь исторический интерес, поскольку в них ребенок представлен невинным и лишенным сексуальности, что противоречит позднейшим неоспоримым данным, не только с целью обозначить этапы этого открытия.
Объяснительная схема, которую Фройд определил как proton pseudos1, является, на наш взгляд, замечательным примером значения, которое придается человеческой сексуальности, выраженного даже в самой трудности о ней думать. В действительности он вводит в игру два исключительно важных положения. С одной стороны, в первый период сексуальность буквально вторгается извне, проникая со взломом в «мир детства», невинность которого предполагается, где она капсулируется как необработанное событие, не вызывая защитной реакции: событие само по себе не патогенное. С другой стороны, во втором периоде пубертатный толчок, вызвав физиологическое пробуждение сексуальности,
1 Первоначально ложное (греч.). — Примеч. И. И. Челышевой.
рождает вместе с тем чувство неудовольствия, и источник этого неудовольствия обнаруживается в воспоминании о первом событии, случившемся вовне, но немом в качестве внутреннего события, «чужеродном теле» внутри, которое на этот раз вторглось в самое сердце субъекта.
Уже в «Исследовании истерии» высказывается идея, что психический травматизм не сводим к одному только действию в течение всей жизни одного-единственного внешнего по отношению к организму события. «Причинно-следственные отношения психической травмы как первопричины истерических феноменов нельзя представить так, будто бы травма — это провоцирующий фактор, развязывающий симптом, а симптом затем продолжает независимое существование. Мы должны с самого начала заявить, что психическая травма или, точнее, воспоминание о ней, действует подобно чужеродному телу, которое после проникновения внутрь долгое время остается активным фактором» [16].
Удивительным образом решается проблема травмы. Мы себя спрашиваем, является ли он притоком внешнего возбуждения, наносящего субъекту травму подобно реальному взламыванию? Или это, напротив, возбуждение внутреннее, влечение, которое, не находя выхода, приводит субъекта в «состояние подавленности» [17]? Имея в распоряжении теорию соблазнения, можно утверждать, что любой травматизм происходит одновременно от внешнего и внутреннего. От внешнего, поскольку сексуальность приходит к субъекту от другого [18], от внутреннего, поскольку она проистекает из некоего интериоризированного внешнего, той «реминисценции», от которой, согласно крылатому выражению, страдают истерики, и в которой мы уже узнаем фантазм.
Решение привлекательное, но связанное с риском развалиться, если мы не препятствуем течению смысла обоих его условий: внешнего — к событию, внутреннего — эндогенному и биологическому.
Давайте, напротив, посчитаем за благо спасти теорию соблазнения, а точнее то, что в ней имеет наиболее глубокий смысл. У Фройда речь пойдет о первой и единственной попытке установить истинное отношение между вытеснением и сексуальностью [19]. Он находит источник этого отношения не в «содержании», а во временных характеристиках человеческой сексуальности, которые и делают из нее область наибольшего благоприятствования для некоей диалектики слишком большого и слишком малого возбуждения, слишком поздно и слишком рано происходящего события: «Мы имеем здесь уникальную возможность увидеть, как воспоминание производит эффект гораздо более значительный, чем само событие» [20]. Отсюда проистекает распад «травмы» на два периода: психический травматизм может рассматриваться не иначе как исходящий от уже-присутствующего, реминисценция первой сцены.
Как теперь можно представить формирование этого уже-присутствующего? Как первая, «сексуальная до-сексуальная» сцена приобретает свое значение для субъекта? В перспективе, которая стремится свести временной показатель к хронологии, надо или впасть в бесконечную регрессию, когда каждая сцена приобретает сексуальное значение, только вызывая в представлении предшествующую, без которой для субъекта она была бы просто ничем, или с необходимостью остановиться на «первой» сцене, невзирая на то, что она представляется немыслимой.
иллюзия — это закон невинного мира ребенка, в который сексуальность привносилась бы первертным взрослым! Не иллюзия даже, а миф, противоречия которого выдают его природу. Надо одновременно рассматривать некоего ребенка до наступления срока, «хорошего дикаря», с уже-присутствующей, по меньшей мере, где-то в себе, сексуальностью, чтобы она могла быть пробуждена. Надо согласовывать взламывание, направленное снаружи вовнутрь, с той мыслью, что, возможно, до подобного взламывания, не было этого внутри, была пассивность, означающая претерпевание в чистом виде с минимумом активности, без которой опыт даже не может приобретаться, безучастность невинности вместе с отвращением, провоцирующим, как предполагается, соблазнение. В общем, субъект до субъекта, обретающий свое существо, свое сексуальное существо из некоего внешнего до появления разделения внутреннее-внешнее.
Сорок лет спустя Ференци вернется к теории соблазнения, чтобы придать ей аналогичное значение [21]. Его формулировки, несомненно, менее строгие, чем у Фройда, но у них есть преимущество, они дополняют миф двумя важнейшими элементами: по ту сторону фактов и через них некий новый «язык», язык «страсти», вводится взрослым в детский «язык» «нежности». С другой стороны, этот язык страсти также является и языком желания, с необходимостью отмеченным запретом, виной и ненавистью, язык выражения чувства несуществования, связанного с оргастическим наслаждением. Фантазм первосцены своим насильственным характером свидетельствует о действительной интроекции ребенком эротизма взрослого.
Фройд с самого начала отвергал общепринятую точку зрения, согласно которой чувство неудовольствия, вызываемое сексуальностью, целиком и полностью зависит от внешнего запрета. Какими бы они ни были первоначально, «внутренним» или «внешним», желание и запрет идут рядом: «В поисках первоисточника неудовольствия, которое высвобождается в результате раннего сексуального возбуждения и без которого нельзя объяснить ни одного случая вытеснения, мы проникаем в самое сердце психологической загадки. В голову сразу же приходит следующий ответ: это стыдливость и мораль, они дают силу вытеснению (...). Я не могу поверить, что высвобождение неудовольствия во время сексуальных опытов обусловлено вмешательством непредвиденных случайных факторов неудовольствия (...). Моя точка зрения в том, что в сексуальной жизни должен находиться независимый источник неудовольствия: если такой источник существует, он может стимулировать ощущения отвращения и придавать силу моральному чувству» [20].
Точно так же как Фройд в 1995, Ференци увлекся определением хронологических рамок этого вторжения и изучением абсолютного ребенка, то есть ребенка до соблазнения. А можно, напротив, предпринять попытку раз и навсегда закрыть проблему, привлекая реальность мифа: соблазнение стало бы мифом, мифом первоначала сексуальности через интроекцию желания, фантазма и «языка» взрослого. Отношение мифа ко времени (событию), в самом мифе упомянутому, будет как бы завернутым в него. Но как же остановиться на этом? Этот миф (или фантазм) проникновения фантазма (или мифа) в субъекта, ведь надо же еще, чтобы он случился во времени с этим самым организмом, человеческим детенышем, зависящим от ряда характеристик его биологической эволюции, где уже прочитываются слишком много и слишком мало,
слишком рано (рождение) и слишком поздно (пубертат).
В течение 1897 года Фройд отказывается от своей теории соблазнения. Он пишет Флиссу 21 сентября: «Сейчас мне необходимо доверить тебе большой секрет, который в течение двух последних месяцев все время давал о себе знать. Я больше не верю в мою невротику...» Он выдвигает несколько доводов. Фактически»то: невозможность довести анализ до конца, выявить все, включая самое первое патогенное событие; даже в самом глубоком психозе — там, где бессознательное кажется наиболее доступным, — слово загадка не теряет свой смысл. Правомерны аргументы: надо бы даже распространить первертность отца за пределы случает истерии, поскольку в организованном ею пространстве начинает действовать еще целый ряд других факторов. С другой стороны, и именно этот момент представляет для нас особый интерес, «в бессознательном не существует ничего похожего на указатель реальности, позволяющий отличать истину от фикции, инвестированной аффектом». Тогда возможны два пути решения: видеть в детских фантазмах лишь результат имеющей обратное действие реконструкции, которую мог бы производить взрослый (что станет юнгианской концепцией, так называемой Zuruckphantasieren (нем. — ретрофантазии), которую Фройд исходно отвергал; или вернуться к идее наследственной предрасположенности. Эта вторая возможность — сам Фройд признается, что всегда ее «вытеснял», — вновь берет верх на этом поле, и не только потому, что поиск первого события завел в тупик, но еще и потому, что сам Фройд, находясь в этот период в замешательстве, не смог выделить позитивное содержание теории соблазнения за реализмом датируемого события. Как только событие исчезает из вида, тотчас реабилитирован другой альтернативный термин — конституция. Поскольку реальное в каком-то смысле несостоятельно и является всего лишь «фикцией», придется искать другую реальность, которая эту фикцию создает.
Когда историки психоанализа, встав на точку зрения самого Фройда, теперь уже общепризнанную, утверждают, что отказ под давлением фактов от теории соблазнения подготовил почву для открытия детской сексуальности, они упрощают эволюцию, в действительности гораздо более двусмысленную. Для современного психоаналитика, такого, например, как Крис, точно так же, как и для нас, детская сексуальность неотделима от Эдипова комплекса. Достаточно очевидна прямая связь между отказом от теории соблазнения и тем, что в переписке с Флиссом три темы становятся преобладающими: детская сексуальность, фантазм, Эдип. Но проблема заключается в их сочетании. И что же мы видим? Устранение реального травматизма и сцены соблазнения если и было в какой-то мере эффективно [22], то освободившееся в результате место досталось не Эдипу, а описанию детской сексуальности, способной к спонтанному развитию, главным образом, эндогенному. Стадии развития, фиксация, рассматриваемая как торможение развития, генетический регресс — все это, по меньшей мере, одна из перспектив, предлагаемых «Тремя очерками теории сексуальности», где во второй главе «Детская сексуальность» не принимается в расчет ни Эдип, ни фантазм, Замечательно с этой точки зрения предисловие к первому изданию «Трех очерков»: Фройд может позволить себе говорить о своих «взглядах на роль сексуальности в этиологии неврозов», ни словом не упоминая об Эдипе. Сексуальное развитие ребенка определяется там как
эндогенное, детерминированное сексуальной конституцией: «вместе с отступлением случайных жизненных влияний такие факторы, как конституция и наследственность, должны были снова взять верх, но с той разницей, что я заменил общую невротическую предрасположенность " сексуальной конституцией"» [23].
Тем не менее, возразят нам, именно в 1897 году, то есть как раз, когда он отказывается от теории соблазнения, Фройд открывает в самоанализе Эдипов комплекс. Давайте, однако, поразмышляем вот над чем: в течение двадцати лет в произведениях Фройда Эдипов комплекс, несмотря на сразу же признанную важность, будет существовать за скобками теоретических обобщений. Так, его с удовольствием выделят в отдельную главу о выборе объекта в пубертате («Три очерка») или о «типичных сновидениях» («Толкование сновидений»). Это, по нашему мнению, означает, что открытие Эдипа в 1897 не является ни причиной отказа от теории соблазнения, ни тем, для чего он расчистил место. Скорее произошло то, что, достигнутое «диким» способом в теории соблазнения, едва не было утрачено вместе с этой теорией в пользу биологического реализма.
Впрочем, гораздо позднее Фройд сам признает то позитивное содержание и предвидение, которое было в соблазнении: «Я встретился здесь в первый раз с Эдиповым комплексом», или еще: «Я узнал, что истерические симптомы проистекали не из реальных фактов, а из фантазмов. Только позднее я стал отдавать себе отчет, что этот фантазм соблазнения отцом у женщины был выражением Эдипова комплекса» [24].
В течение определенного периода все происходило именно так, как если бы, с одной стороны, теряя идею, уже присутствующую в теории соблазнения, о «чужеродном теле», которое вводит внутрь субъекта знак человеческой сексуальности, а, с другой стороны, открывая то обстоятельство, что влечение не ждет пубертата, чтобы стать активным, Фройду не удавалось присоединить одно к другому, Эдипа и детскую сексуальность. Если последняя существует, о чем наблюдение и клиника неоспоримо свидетельствуют, то отсюда следует, что она может мыслиться только как реальность биологическая, а фантазм является всего лишь вторичным выражением этой реальности. Сцена, в которой субъект описывает соблазнение со стороны старшего товарища, в действительности не что иное, как двойное переодевание: чистый фантазм обращается в реальное воспоминание, спонтанная сексуальная активность скрывается за пассивной сценой [25]. После этого у нас уже нет совершенно никаких оснований узнать в фантазме психическую реальность — если усилить смысл выражения, как иногда это умеет делать Фройд, — поскольку реальность целиком перемещена на эндогенную сексуальность, фантазмы, ей свойственные, вряд ли могли бы быть лишь чисто воображаемым расцветом.
Вместе с отказом от теории соблазнения что-то теряется: в присоединении и временной игре двух «сцен» записывалась до-субъективная структура, находящаяся одновременно по ту сторону данного события и внутренней образности. 11аходясь в плену ряда теоретических противопоставлений, субъект—объект, конституция-событие, внутреннее-внешнее, воображаемое-реальное, Фройд пришел к тому, чтобы на какое-то время повысить значение первого термина в этих «парах противоположностей».
Мы приходим тогда к следующему парадоксу: в то самое время, когда был открыт объект по преимуществу психоаналитический, фантазм, он подвергся риску потерять свое собственное существование в угоду эндогенной реальности, сексуальности, которая сама находится в состоянии борьбы с реальностью внешней, как решающей и нормализующей, требующей от нее перевоплощений. Мы наверняка имели бы фантазмы — в смысле воображаемую продукцию, — но мы потеряли бы структуру. Напротив, вместе с теорией соблазнения мы, наверняка, имеем если не тезис, то, по крайней мере, интуицию структуры (соблазнение предстает кик данность псевдоуниверсальная, во всех случаях делающая событие совершенным, что можно утверждать и про его участников), но возможности фантазматической переработки были неизвестны или, по крайней мере, недооценены.
«Я читаю труды, относящиеся к предыстории»
11одобным образом ограничивать эволюцию мысли Фройда 1897 годом или около того значило бы остановить свой выбор на подходе явно не полном: он предполагает переход от исторического обоснования симптома к теории в конечном счете биологической, сводимой к причинной цепочке: сексуальная конституция — фантазм — симптом. Теория, к сторонникам которой Фройд себя не причисляет до тех пор, пока не будет вынужден представить систематически свои этиологические «взгляды». Если бы мы хотели проследить шаг за шагом развитие мысли Фройда, а здесь мы не ставим такую цель, то пришлось бы выделить в этом центральном периоде, по крайней мере, еще два течения.
Второе черпает силу в новом открытии фантазма, которое совершается, начиная с 1896 года: фантазм — это не только материал для анализа, представлен ли он сразу же, как фикция (во сне наяву) или его конструктивный характер будет выявлен в противоречии с видимым (как в покровном воспоминании); он еще и результат анализа, термин, латентное содержание, появляющееся на свет за симптомом. Тогда из мнестического символа травмы симптом становится постановкой фантазма (мизансценой) (так фантазия проституции, «выхода на панель» может быть обнаружена за симптомом агорафобии).
Фройд начинает исследовать эти фантазмы, их поле, составлять реестр, описывать типичные разновидности. Ограниченный одновременно с двух сторон, как явная данность и латентное содержание, находясь на пересечении двух противоположных подходов, фантазм приобретает в опыте устойчивость объекта, объекта специфичного для психоанализа. Отныне анализ будет существовать рядам с фантазмом как «психической реальностью», изучать его разновидности, и особое внимание будет уделяться анализу процессов и структуры фантазма. Между 1897 и 1906 годами в свет выходят все выдающиеся труды, в которых выделяются механизмы бессознательного, другими словами, трансформаций фантазма (в том смысле, который этому термину придается в геометрии): «Толкование сновидений», «Психопатология обыденной жизни», «Остроумие...».
Но — и здесь речь пойдет уже о третьем течении — с самого начала исследования Фройда и психоаналитический курс содержат тенденцию регрессии к первоначалу, к основам симптома и невротической организации личности. Если фантазм открывается как самостоятельное поле, имеющее плотность, доступное изучению, то встает вопрос о его первоначалах,
не только истоках структуры, но и содержания и даже конкретных деталей. И здесь ничего не меняется: хронологический поиск, подъем во времени к первым элементам, реальным и поддающимся проверке, никогда не перестает направлять практику Фройда. Вот что он пишет об одном из своих больных в 1899 году: «Глубоко погребенная под всевозможными фантазмами, нам открылась сцена, уходящая корнями ко временам первоначальным (до двадцати двух месяцев), которая удовлетворяла всем нашим требованиям, из нее как раз и исходили все еще неразгаданные загадки» 126 ]. И затем вновь прослеживаются те же направления, свидетельство непреодолимой страсти исследования, идущего все дальше и дальше с тем, чтобы обратиться, если потребуется, к чему-то третьему, подтверждающему справедливость расследования: «Вечером я читаю труды, относящиеся к предыстории, не собираясь работать (...) [27]. У Е. вторая настоящая сцена снова появляется на поверхности, и я мог бы даже попробовать найти ее объективное подтверждение у старшей сестры пациентки. На третьем плане выступает что-то, уже давно предполагаемое» [28].
Это сцены из времени первоначал, настоящие сцены, которые Фройд тогда обозначил словом Urszenen («первосцена» или «первичная сцена»). Позже, как известно, данный термин будет отнесен к наблюдению родительского коитуса, свидетелем которого ребенок мог бы оказаться. Давайте вновь обратимся к дискуссии «Из истории одного детского невроза» (1918), посвященной отношениям между патогенным сновидением и первосценой, на которой оно основано. Читая первый вариант клинического отчета, написанный «спустя немного времени после окончания лечения, зимой 1914-1915», поражаешься страстной убежденности Фройда, с которой он, подобно детективу, идет по следу, чтобы установить реальность сцены, воссоздавая ее в мельчайших деталях. Не являются ли такая озабоченность много времени спустя после отказа от теории соблазнения доказательством того, что Фройд так и не смирился с идеей объединить «сцены» с чистой воображаемой продукцией? Заглохнув применительно к сцене соблазнения, вопрос вновь встает через двадцать лет и в тех же выражениях в связи с родительским коитусом, который наблюдал его пациент. Открытие детской сексуальности не привело к тому, что из взглядов Фройда выпала основополагающая схема, стоящая за теорией соблазнения: постоянно привлекается все тот же процесс, эффективный в последействии; мы снова находим два элемента (здесь это сцена и сновидение), разделенные во временной последовательности, первый в начале остается не понятым и как будто заключенным внутри субъекта, чтобы затем произошло его возвращение в проработке в последующий период. То, что система была приведена в движение в раннем детстве, ничего существенно не меняет в теоретической модели.
Очевидно сходство между Фройдовской схемой последействия и психотическим механизмом форклюзии, который выделил Лакан: то, что не было допущено в символическое (что было «подвергнуто форклюзии»), вновь появляется в реальном (в форме галлюцинации). Эта не-символизация есть как раз первый период, описанный Фройдом. Поскольку Лакан и Фройд приводят для иллюстрации своей теории случай, описанный Фройдом («Из истории одного детского невроза»), мы могли бы спросить себя, не рассматривал ли Лакан как специфичное для психоза то, что в действительности является
широко распространенным, И не принял ли Фройд исключение за правило, основывая свое свидетельство на очевидном случае психоза.
Фактически свидетельство Фройда в этом случае подтверждалось очень вероятной реальностью переживания первосцены. Но можно представить, что отсутствие субъективной переработки или символизации, характеристик первого периода, не следует из реального переживания сцены. «Чужеродное тело», которое вскоре будет заключено внутри, в большинстве случаев привносится не восприятием сцены, а родительским желанием и поддерживающим его фантазмом. Именно так выглядит типичный случай невротика: в «первый период» (разделенный па фрагменты, представляющий цепочку переходных к аутоэротизму моментов и поэтому не поддающийся ограничению; об этом см. далее) что-то «символическое-до-символическое» (по выражению Фройда) самоизолируется в субъекте, но второй период оно может быть снова воспринято им в последействии, им «символизированное». В психозе первым отрезком была бы грубая реальность, навязывающая себя, и, конечно же, «не символизированная» субъектом, а, кроме того, ставящая перед любой позднейшей попыткой символизации некое несократимое ядро. Отсюда в этом случае неудача, вплоть до катастрофы, второго периода.
Такой подход позволяет уловить разницу между вытеснением (первоначальным) и тем психотическим механизмом, который на протяжении всей своей деятельности пытался выделить Фройд (как раз определяя его как Verleugnung, отречение) и который Лакан назван форклюзией.
Известно, что накануне публикации своей рукописи в 1917 году Фройд дополнительно вносит в нее два больших отрывка, показывающих, какое сильное впечатление произвел на него юнгианский тезис о «ретроспективной фантазии» (Zuruckphantasieren). Он принимает, что если в анализе происходит завершение реконструкции, сцена вполне могла бы быть сконструирована самим субъектом, и все же продолжает настаивать, что восприятие, по крайней мере, снабжает его какими-то указателями, будь то хотя бы спаривание у собак...
Но как раз в то самое время, когда Фройд, похоже, меняет свою точку зрения на опору, которую ему может представить почва — а она оказывается столь зыбкой при исследовании — реальности, он вводит новое понятие, понятие Urphantasieren, первофантазмов [29]. Здесь мы являемся свидетелями самого настоящего изменения основополагающего требования. Поскольку, оказывается, невозможно определить, что же мы имеем вместе с первосценой, пережитое субъектом событие или фикцию, необходимо, чтобы то, что, в конечном счете, является фундаментом фантазма, находилось по эту сторону, было приведено к чему-то, что превосходит и пережитое индивидом, и воображаемое.
И для нас тоже поворот мысли Фройда, произошедший в 1897 году, лишь в последействии обретает свой полный смысл. С виду нет никаких перемен: продолжается все тот же поиск действительно первичной реальности, воспроизводится та же схема, схема диалектики двух последовательных исторических событий, чувствуется то же разочарование — будто бы Фройд так почему не научился — столкнувшись с потерей крайнего события, «сцены». Но параллельно с этим, в рамках выделенного нами второго направления, происходит открытие бессознательного как структурированного поля, которое может быть реконструировано, поскольку представляет собой некую
внутреннюю организацию, распад и воссоединение элементов по определенным законам, и скоро это позволит поиску первоначала разворачиваться в новом направлении.
В понятии первофантазма встретятся то, что можно назвать желанием Фройда обнаружить кристалл события (и, если он стирается в истории индивида благодаря происходящим с ним преломлениям и делениям, то снова появится возможность подняться выше...) и потребность создания самостоятельной структуры фантазма на основе иной, чем событие.
 |
Первофантазмы составляют «то сокровище бессознательных фантазмов, которые анализ может выявить у всех невротиков, и, вероятно, у всех представителей человеческого рода» [31]. Сами по себе эти слова наводят на мысль, что важен не только эмпирический факт частоты, но и обобщенность, которая их характеризует. Если «каждый раз продуцируются одни и те же фантазмы, с тем же содержанием [32]», если всякий раз можно обнаружить за фантазированием индивида несколько «типичных» [33] фантазмов, то очевидно, событийная история субъекта не является primum movens2 и необходимо предположить существование некой Предшествующей схемы, способной действовать как «организатор».
Чтобы составить представление об этом предшественнике, Фройд находит единственный путь: филогенетическое объяснение. «Возможно, что все фантазии, которые нам рассказывают сегодня в анализе (...), когда-то в первоначальные для человеческой семьи времена были реальностью» (то, что было реальностью факта, могло бы стать реальностью психической), «и что, порождая фантазмы, ребенок просто заполняет при помощи правды доисторической лакуны правды индивидуальной» [34]. Здесь еще раз нечто реальное постулируется по одну сторону с фантастическими проработками, но Фройд неустанно подчеркивает структуральный статус и автономию такой реальности по отношению к субъектам, которые полностью от нее зависят. Он даже идет дальше в указанном направлении, признавая между «схемой» и индивидуальным опытом возможность рассогласования, которая могла бы быть условием психологического конфликта [35].
Мы сделали попытку увидеть в этой «реальности», которая скоро будет давать пищу игре воображения, навязывая ей свой закон, прообраз «символического порядка», как его определили Леви-Стросс и Лакан, со всей тщательностью показав его действие и эффективность в этнологическом и психоаналитическом пространстве. Таковы сцены, возвращенные предыстории человека и отнесенные к прачеловеку (Urmensch) и праотцу (Urvater), и Фройд стремится воспроизвести их ткань в «Тотеме и Табу». Возможно, он к ним обращается, не столько чтобы вновь обнаружить реальность, ускользающую на уровне индивидуальной истории, сколько чтобы ограничить некое воображаемое, которое не могло бы заключать в себе свой принцип организации,
1 Ur(нем.) — приставка, в сочетании с существительными и прилагательными указывающая на первичность, первоначальность, древность. — Примеч. Н. И. Челышевой.
2 Букв.: первое движущее (лат.). — Примеч. Н. И. Челышевой.
а значит, не составляло бы «ядро бессознательного».
Под псевдонаучной маской филогенеза, в привлечении наследуемых мнестических следов полезно уметь распознавать необходимость для Фройда постулировать предшествование означающей организации по отношению к действию события и совокупности означаемого. В этой своего рода мифической пред-истории утверждается потребность некой недоступной субъекту пре-структуры, ускользающей от его нападок и начинаний, в собственной внутренней «кухне» (с таким богатством ингредиентов и композиций, о котором наши новые колдуньи и не мечтали). Но Фройд тогда рискует оказаться буквально в ловушке собственных понятий. Он мог бы снова найти в том ложном синтезе, каким является прошлое человеческого рода, сохраняемое в передающихся наследственных схемах, противоречие события и конституции, которое тщетно пытался преодолеть.
Пусть так. Однако мы не будем слишком торопиться, заменяя «филогенетическое объяснение» толкованием структуралистского типа. Находясь по эту сторону истории субъекта, но при всем том в истории, дискурсе и символической цепочке, насыщенный воображаемым, будучи структурой, но приводимой в движение случайными элементами, первофантазм является, прежде всего, фантазмом и в этом качестве обладает рядом особенностей, из-за которых он с трудом поддается ассимиляции некой чисто трансцендентальной схемой, даже несмотря на то, что она может диктовать опыту свои условия возможного.
Мы не претендуем здесь на то, чтобы развивать — как этого требовала бы последовательная психоаналитическая теория — вопрос отношений между уровнями эдиповой структуры и первофантазмом. Для начала пришлось бы уточнить, что мы имеем в виду, говоря об эдиповой структуре. Мы бы отметили, что структурный аспект Эдипова комплекса — представленный как его институирующей функцией, так и триангулярной формой, — был выделен Фройдом очень поздно: например, он тщательно обойден в «Трех очерках» (1905). Так называемая обобщенная формулировка Эдипова комплекса появилась только в «Я и Оно» (1923) и поэтому «обобщенность» не может быть истолкована иначе, чем в смысле формальном: она означает некий набор конкретных позиций внутри того интерпсихологического поля, которое составляет треугольник отец-мать-ребенок. В свете структурной антропологии мы можем здесь увидеть одно из проявлений закона, по которому строятся межличностные обмены, закона, способного в зависимости от разнообразия культур менять действующие лица и принимать другие формы, например, запрещающая функция закона, может быть исполнена не отцом, а некой иной инстанцией. Придя к такому решению, психоаналитик осознал бы потерю одного из основных положений своего опыта: субъект заключен в структуру обмена, но она ему была передана родительским бессознательным, она, таким образом, хуже усваивается системой языка, чем оригинальной внутренней организацией речи.
В действительности у Фройда понятие Эдипова комплекса отмечено реализмом: как бы он ни был представлен, как внутренний конфликт («ядерный комплекс») или социальный институт, комплекс остается заданной величиной; субъект встречает его на пути, «любое человеческое существо сталкивается с задачей с ним справляться» [36].
Может быть, именно эта реалистическая концепция заставила Фройда, не особенно заботясь о взаимосвязи, допустить сосуществование в одном ряду с Эдиповым комплексом первофантазма: на этот раз субъект не встречает структуру, а движим ею, но, напомним, внутри фантазма и, именно как конфигурации бессознательных желаний, а не в качестве члена возможных комбинаций.
Отрывок, в котором Фройд впервые упоминает Urphantasieren, не оставляет никаких сомнений на этот счет [37]. Там он сообщает о случае паранойи у пациентки, которая утверждала, что за ней наблюдают и ее фотографируют в постели с возлюбленным; она всякий раз могла бы слышать «тихий звук», щелчок аппарата. За этим бредом Фройд снова обнаруживает первосцену: звук, который будит ребенка, исходит от родителей, и, кроме того, это звук, который ребенок опасается издавать и который может обмануть его слух. Как оценить его роль для фантазма? С одной стороны, говорит нам Фройд, это всего лишь «провокация», случайная причина; она всего лишь «оживляет типичный фантазм состояния прислушивания, составную часть родительского комплекса». Но неожиданно он вносит поправку: «сомнительно, что мы имеем полное основание квалифицировать этот звук как «случайный» (...). Напротив, он является необходимой частью фантазма состояния прислушивания» [38]. В действительности звук, к которому обращается пациентка [39], воспроизводит в настоящем знак первосцены, того элемента, исходя из которого было положено начало дальнейшей переработке в фантазии. Говоря иначе, начало фантазма интегрировано в саму структуру первофантазма.
В первых теоретических набросках, посвященных вопросу фантазма, Фройд придает большое значение — и делает это так, что читатель заинтригован, — роли услышанного [40]. Не ставя перед собой задачу долго останавливаться на этих отрывках, где Фройд, похоже, имеет в виду параноидные фантазмы, мы должны спросить себя, почему услышанное занимает привилегированное положение. По нашему мнению, этому можно найти две причины. Одна имеет отношение к изучаемому 5еп5опит}\ услышанное, внезапно появляясь, разрывает непрерывность недифференцированного перцептивного поля и одновременно дает знак (звук, поджидаемый или услышанный ночью), в результате чего субъект оказывается в положении задающего вопрос; в этом смысле прототипом означающего безусловно становится услышанное, даже если находятся его эквиваленты в других сенсорных регистрах. Но услышанное — это также история — и здесь Фройд явно намекает на вторую сторону проблемы. Это история, или легенда, родителей, прародителей, предка: слово или звук семьи, речь, сказанная или секретная, предшествующая субъекту, то, куда он должен включиться, чтобы сделать свою отметку. Именно поскольку он может ретроактивно становиться неким импульсом, вызывающим эту речь, постольку тихий звук — или любой другой отдельно взятый сенсорный элемент, способный выполнять функцию указателя, — приобретет это значение.
Даже по своему содержанию, теме (первосцена, кастрация, соблазнение...) первофантазмы указывают на такое ретроактивное постулирование: они относятся к первоначалам. Подобно мифам они заявляют о своем праве привносить некое
1 Центральный орган чувств, чувственное (лат.). — Примеч. Н. И. Челышевой.
представление и «разрешение» главных загадок, стоящих перед ребенком; они разыгрывают в лицах, представляя как момент возникновения, начала истории, Те, что предстает перед субъектом в качестве реальности, которая требует для своего объяснения какой-то «теории».
Фантазмы первоначал: в первосцене это первоначало индивида, который видит себя представленным изображением; в фантазмах соблазнения это первоначало сексуальности, ее внезапное появление, в фантазмах кастрации это первоначало установления разницы полов. В их теме мы вновь обнаруживаем статус уже-присутствия первофантазмов, обозначенный дважды.
Имеет место совпадение сюжета, структуры и, несомненно, функции: в указании, которое предоставляет перцептивное поле, в создаваемом сценарии, меняющемся поиске начал, на сцену фантазма выходит нечто, дающее «первоначало» субъекту как таковому.
Ноли мы спросим себя, что означают эти фантазмы первоначал для нас, то придем к толкованию другого уровня. Тогда мы видим, что можно о них говорить не только как о части символического, куда они приняты, но и утверждать, что они производят посредством воображаемого сценария, который претендует на новый охват этого процесса, включение этого символического, решительным образом устанавливая его в реальности тела. Что представляет для нас первосцена? Соединение биологического факта зачатия (и рождения) с символическим фактом преемственности, «стихийного акта» коитуса с существованием триады мать-ребенок-отец. В фантазмах кастрации соединение реальное-символическое еще более очевидно. Говоря о соблазнении, добавим, и мы попытались здесь показать, что Фройд не только потому, что встретился с многочисленными реальными фактами соблазнения, сумел создать, основываясь на фантазме, научную теорию, открыв в конечном счете на этом повороте не что иное, как функцию фантазма; скорее так случилось потому, что он искал в терминах первоначал ответ на вопрос, как происходит сексуальное развитие человеческого существа.
|
|