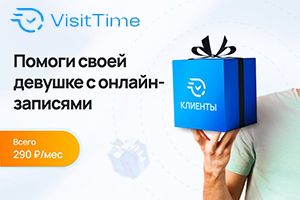Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Ь) преобразование в структуру и тотальное опосредование
|
|
Это преображение, в ходе которого человеческая игра достигает своего завершения и становится искусством, я называю преобразованием в структуру. Только благодаря этому преобразованию игра достигает уровня идеальности, так что она может мыслиться как игра и пониматься
как таковая. Только в этом случае выказывается ее отделенность от изобразительной деятельности играющих, и игра состоит в чистом явлении того, что они играют. Игра как таковая, в том числе и непредсказуемость импровизации, принципиально повторима и в этой мере постоянна. Ей присущ характер произведения, «эргона», а не только «энергейи» и. В этом смысле я и называю ее структурой.
Но то, что таким образом отделимо от изобразительной деятельности играющих, остается тем не менее связанным с изображением. Такая связанность не означает зависимости в том смысле, что игра обретает свою смысловую определенность только благодаря определенным исполнителям, то есть исполняющим и зрителям,.и даже не означает зависимости от того, кто, будучи первопричиной произведения, является его творцом, то есть от автора. По отношению к ним игра обладает некоторой автономией, что должно быть включено в понятие преобразования.
Если со всей серьезностью обратиться к понятию преобразования, то здесь выявляется некоторый аспект определения бытия искусства. Преобразование — это не изменение, например проводимое в особо значительных масштабах. Изменение скорее всегда подразумевает, что изменяемое одновременно остается прежним и фиксируется. Как бы ни было тотально изменение, ему подвергается тот же объект. С категориальной точки зрения всякое изменение (ά λ λ ο ί ω σ ί ς) относится к области качества, то есть субстанциальной акциденции. Напротив, преобразование подразумевает, что нечто становится иным сразу и целиком и что это другое, существующее как преоб-разованое, представляет его подлинное бытие, по сравнению с которым его прежнее бытие незначимо. Если мы считаем, что некто преобразился, то при этом имеем в виду, что тем самым он стал другим человеком. Здесь не может быть переходов постепенного изменения, ведущих от одного к другому, так как одно отрицает другое. Таким образом, преобразование в структуру подразумевает, что то, что было прежде, теперь не существует, но к тому же еще и то, что сущее теперь, представляющее в игре искусство, и есть непреходяще подлинное.
Прежде всего совершенно очевидно здесь, как искажает суть дела попытка принять за отправную точку субъективность. То, чего более нет, — это не больше и не меньше, чем играющие, к которым следует причислить также писателя или композитора. Все они не имеют собственного для-себя-бытия, фиксируемого в том смысле,
что их игра означает то, что они «всего лишь играют». Если описывать игру с точки зрения играющего, то получится, разумеется, не преобразование, а переодевание. Переодетый не хочет быть узнанным, он стремится предстать другим и таковым считаться. В глазах окружающих он хотел бы не быть больше самим собой, а быть принятым за другого; следовательно, он не желает, чтобы его угадали или узнали. Он играет другого, но так, как мы играем что-то в практической повседневности; это значит, что мы просто притворяемся, меняемся и создаем видимость. Однако тот, кто таким образом ведет игру, по видимости, отрицает преемственность с самим собой. На деле же это означает, что для себя он эту преемственность фиксирует, а скрывает ее от тех, перед кем представляется.
В свете того, что мы выяснили о сущности игры, подобное субъективное различение себя самого и игры -в чем и состоит игра «на публику»— не может считаться подлинным бытием игры, которая скорее уж представляет собой преобразование такого рода, что идентичность играющих ни для кого не устраняется. Остаются лишь вопросы типа «что это должно значить, что здесь подразумевается». Теперь больше нет играющего (или автора), остается только играемое.
И к числу того, чего более нет, относится прежде всего мир, в котором мы живем, как в нашем собственном. Преобразование в структуру — это не просто перемещение в другой мир. Конечно, игра играется в другом, замкнутом в себе мире. Но в той мере, в какой она образует структуру, она каким-то образом обретает внутри себя свой критерий и не соразмеряется ни с чем из того, что вне ее. Так, действие спектакля (в этом оно все еще полностью тождественно культовому действу), безусловно, основывается на чем-то в себе; оно уже не допускает никаких сравнений с действительностью в качестве скрытых критериев сходства изображаемого. Оно вышло за пределы всякого подобного сравнения, а вместе с тем — и из сферы действия вопроса,, было ли это все на самом деле, ибо в нем звучит истина, более совершенная. Даже Платон, будучи самым радикальным критиком бытийного ранга искусства из всех известных нам в истории философии, при случае говорит о комедии и трагедии, не делая различия, происходят ли они в жизни или на сцене 15. Ибо различие снимается, если человек умеет воспринимать смысл разыгрывающейся перед ним игры. Радость, испытываемая от предлагаемого зрелища, в обоих случаях одинакова: это радость познания.
И лишь в этом обретает полный смысл то, что мы наз- \ вали преобразованием в структуру. Преобразование -это преобразование в истинное, а не очаровывание в смысле колдовства, ожидающее слова, освобождающего от чар; оно само — освобождение, возвращение в истинное бытие. Представление игры выявляет то, что есть. В нем выдвигается и выходит на свет то, что в других условиях всегда скрывается и ускользает. Умеющий воспринимать комедию и трагедию жизни умеет и избегать влияния цели, скрывающей игру, которая с нами играется.
«Действительность» всегда предстает на горизонте · будущего, где находятся желанные и страшащие, но в любом случае еще не определившиеся возможности. Поэтому они постоянно таковы, что будят взаимоисключающие друг друга ожидания, не все из которых могут исполниться. Неопределенность будущего позволяет существовать такому избытку ожиданий, что действительность вынужденно прячется за ними. Если в особом случае смысловые взаимосвязи действительности осуществляются таким образом, что определенные возможности реализуются, а линии, ведущие в пустоту, выпадают, то такая действительность сама походит на спектакль. Точно так же тот, кто способен увидеть всю действительность как замкнутый смысловой круг, в котором выполняется все, будет говорить о комедиях и трагедиях самой жизни. В тех случаях, когда действительность понимается как игра, на первый план выступает действительность игры, которую мы обозначаем как игру искусства. Бытие всяческой игры — это всегда искупление, чистое выполнение, «энсргейя», цель которой заключена в ней самой. Мир произведения искусства, в котором игра, таким образом, полностью выражается в единстве своего процесса, на деле представляет целиком и полностью преображенный мир, но отношению к которому всякий может узнать, «как на самом деле».
Следовательно, понятие преобразования призвано характеризовать самостоятельный и превосходящий тип бытия того, что мы называли структурой. Исходя из этого понятия, так называемая действительность определяется как непреображенное, а искусство — как снятие этой действительности в ее истине. Античная теория искусства, согласно которой в основе всякого искусства заложено понятие мимесиса, подражания, при этом явно исходила из игры; ведь игра как танец есть изображение божественного 1б.
Но понятие подражания способно описывать игру искусства только в том случае, если иметь в виду познавательный смысл, заложенный в подражании. Вот изображение — вот миметическое прасоотношение. Тот, кто чему-то подражает, делает его таким, каким и как он его знает. Ребенок начинает играть, подражая; при этом он на деле подтверждает свое знание и тем самым самоудостоверяется. И любовь детей к переодеваниям, к которой апеллировал еще Аристотель, стремится не к скрыванию себя и не к притворству, за которыми следует разгадывание и узнавание, а, напротив, к изображению именно того, что изображается. Ребенок ни в коем случае не хочет, чтобы его узнали в переодетом виде. Должно быть представлено именно то, что он изображает, и если что-то и следует угадать, так только это; должно быть узнано, «что это».
Это рассуждение помогает констатировать: познавательный смысл мимесиса — это узнавание. Но что же такое узнавание? Подробный анализ данного феномена способен вполне прояснить для нас бытийный смысл изображения, о чем и идет речь. Как известно, еще Аристотель подчеркивал, что художественное изображение даже неприятного способно доставлять удовольствие 18, а Кант в силу этого определяет искусство как прекрасное изображение вещей, так как оно умеет прекрасно описать даже безобразное |9. При этом очевидно, что имеются в виду отнюдь не своего рода искусность или сноровка как таковые. Обычно мы не восхищаемся искусностью, с которой что-то проделывается, как это свойственно артистам; это имеет для нас только вторичный интерес. То, что собственно познается в произведении искусства и к чему в нем стремятся, — это степень его истинности, то есть насколько в нем можно познать и узнать нечто и себя самого.
Но нельзя понять, что представляет собой узнавание по своей глубочайшей сути, если считать, что оно сводится к тому, что нечто, уже известное, познается заново, то есть что узнается только знакомое. Скорее радость узнавания состоит в том, что познается большее, нежели было известно. При узнавании то, что мы знаем, как бы выступает благодаря освещению из рамок всевозможных случайностей и изменчивых обстоятельств, его обусловливающих, и предстает в своей сути. Оно познается как нечто.
Здесь мы подошли к центральному мотиву платонизма. В своем учении об узнавании (анамнесисе) Платон раз-
вивал мифическое представление об узнавании на путях своей диалектики, которая стремится обрести истину бытия в логосах, то есть в идеальности языка20. И в самом деле, такой сущностный идеализм заложен в феномене узнавания. «Знакомое» только благодаря узнаванию достигает своего истинного смысла и выказывается как то, что оно есть. В качестве узнанного оно обретает фиксированную сущность, освобождается от аспектуальной случайности. Это полностью относится и к тому типу узнавания, который осуществляется при игре в отношении изображения; ведь подобное изображение оставляет на заднем плане все случайное и несущественное, например собственное особенное бытие артиста, который полностью исчезает за познанием того, что он изображает. Но и то, что изображается, известный ход мифологического предания благодаря изображению каким-то образом поднимается до своей действительной истинности. В аспекте познания истины бытие изображения предстает как нечто большее, нежели бытие изображаемого материала; гомеровский Ахилл более велик, нежели его прообраз.
Миметическое прасоотношение, которого мы касаемся, содержит, следовательно, не только факт наличия изображаемого, но и то, что оно при этом выступает в наиболее свойственной ему сущности. Подражание и изображение -это не только копирующее повторение, но и познание сущности. Так как они являются не просто повторением, но «извлечением сути», то в них одновременно примыслено и участие зрителя. Они несут в себе сущностную связь со всяким, для кого изображение предназначено.
Можно сказать и более того: изображение сущности тем менее похоже на простое подражание, что оно содержит обязательное указание. Подражающий должен что-то убирать, а что-то выделять. Поскольку он указывает, он должен преувеличивать, хочет он этого или нет. В этих пределах возникает неснимаемая бытийная дистанция между сущим «таким, как» и тем, которому оно пытается быть тождественным. Как известно, Платон настаивал на такой онтологической дистанции, на большей или меньшей степени отстояния отображения в сравнении с прообразом, и, исходя из этого, поместил подражание и изображение в игре искусства на третью ступень как подражание подражанию 21. Тем не менее в художественном изображении действует узнавание, обладающее характером подлинного познания сущности; именно благодаря тому, что Платон понимает всякое познание сущности как узнавание, это положение вещей получает фактическое обосно-
вание: Аристотель считал поэзию более философичной, нежели история 22.
Итак, подражание, будучи изображением, характеризуется познавательной функцией. Понятие подражания может в силу этой причины удовлетворять теорию искусства постольку, поскольку познавательное значение искусства неоспоримо. Но это справедливо лишь в той мере, в какой можно констатировать, что познание истинного — это познание сущности 23, так как именно такому познанию искусство служит самым убедительным образом. Для номинализма современной науки, напротив, как и для принятого в ней понятия действительности, из которого Кант извлек агностицистские выводы для эстетики, понятие мимесиса утратило свою эстетическую обязательность.
Поскольку бесперспективность такого субъективного рассмотрения эстетики нам ясна, обратимся к более старой традиции. Если искусство — не разновидность меняющихся переживаний, предмет которых каждый раз заново субъективно заполняется значением, как пустая форма, то «изображение» должно быть признано видом бытия самого произведения искусства. Подготовкой к этому служит производность понятия изображения от понятия игры, поскольку самоизображение — это подлинная сущность игры, а вместе с тем и произведения искусства. Игра в процессе своего воплощения обращается к зрителю посредством изображения, причем таким образом, что тот, хотя и отделен противостоянием, включается в нее.
Наиболее явным образом это проявляется в таком виде изображения, как культовое действо. Здесь связь с общиной налицо. В этом не может сомневаться ни рефлектирующее эстетическое сознание, ни эстетическое различение, которое само устанавливает для себя предмет и в состоянии воспринять подлинный смысл культового изображения или религиозной игры. Никто не может считать, что проведение культового действа представляет нечто несущественное для религиозной истины.
То же самое — и сходным образом — справедливо для спектакля вообще и для его литературной стороны. Постановка спектакля не просто отделима от него как нечто, что не принадлежит его сущностному бытию; она настолько же субъективна и преходяща, как эстетические переживания, в которых она познается опытом. Скорее в постановке, в исполнении и только здесь (яснее всего это видно на примере музыки) происходит встреча с произведением, точно так же как в культе — встреча с божественным. В этом проявляется методическое преимущество, приобре-
тенное благодаря исходному понятию игры. Произведение искусства непросто изолировать от совокупности привходящих обстоятельств, при которых оно показывается, но если такая изоляция все же осуществляется, то в результате возникает абстракция, редуцирующая собственное бытие произведения. Оно само принадлежит миру, который изображает. Спектакль возникает только тогда, когда его играют, и тем более должна зазвучать музыка.
Следовательно, бытие искусства не может определяться как предмет эстетического сознания, поскольку эстетическое поведение, напротив, обширнее, нежели оно о себе знает. Оно представляет собой часть процесса бытия изображения и по существу принадлежит игре как таковой.
Каковы же онтологические последствия этого? Что это нам даст, если мы, исходя, таким образом, из игрового характера игры, обратимся к задаче определения бытийного типа эстетического бытия? Во всяком случае, ясно, что спектакль и понимаемое с этой точки зрения произведение искусства — это не просто схема правил и поведенческих предписаний, внутри которых может свободно осуществляться процесс игры. Не следует понимать играемый спектакль как удовлетворение потребности в игре; это вступление в бытие самой поэзии. Спрашивается, что же такое произведение поэзии представляет собой по своему собственному бытию, если оно существует только в процессе становления игры, в представлении, только как спектакль, и все же обладает собственным бытием, которое при этом изображается.
Вспомним употребленную выше формулировку «преобразование в структуру». Игра — это структура; данный тезис утверждает, что вопреки своей процессуальной ограниченности она выступает как значимое целое, которое, будучи таковым, может быть представлено повторно, а смысл его доступен пониманию. Но и структура — игра, так как вопреки своему идеальному единству обретает свой полный смысл только в процессуальности. Налицо обоюдосторонняя связь, что мы должны подчеркнуть в противоположность абстракции эстетического различения.
Теперь мы можем придать нашим построениям некоторую форму, противопоставив эстетическому различению, как собственно составляющей эстетического сознания, «эстетическое неразличение». Уже ясно, что предмет подражания (при подражании), описания (в литературе), представления (для артиста), познания (для зрителя) — это именно то, что имеется в виду, в чем коренится
значение изображения, так что поэтическое оформление или уровень исполнения как таковые от них вовсе не отделяются. Но если различение производится, то различают материал и его оформление, литературное произведение и его «концепцию». Но природа таких различений вторична. То, что играет артист и познает слушатель, — это образы и само действие в том виде, как они замыслены автором. Следовательно, здесь представлен двойной мимесис: автор изображает, изображает и исполнитель. Но именно такой двойной мимесис един: ведь то, что обретает бытие в том и в другом случае, тождественно.
Точнее можно сказать, что миметическое изображение при постановке воплощает в бытие то, что, собственно, требует произведение. Двойному различению произведения и его материала, а также произведения и его исполнения соответствует двойное неразличение как единство истины, познаваемой в игре искусства. Если, например, фабулу, лежащую в основе произведения, рассматривают с точки зрения ее происхождения, то это выпадает из собственно познания произведения, точно так же как выпадает из собственно познания спектакля размышление зрителя о концепции постановки или о мастерстве исполнителей как таковых. Подобная рефлексия уже содержит эстетическое различение самого произведения и его исполнения, а для содержания данного в опыте познания она, как мы видели, скорее безразлична, как безразлично для него, происходит ли комическая или трагическая сцена, которая перед ним разыгрывается, на подмостках или в жизни — при условии, что мы всего только зрители. То, что мы назвали структурой, остается таковой в той мере, в какой изображается в виде смыслового целого, которое не существует само по себе, встречаясь при этом в случайном для него опосредовании, но обретает именно в опосредовании свойственное ему бытие.
Различия, возникающие при постановке или исполнении подобной структуры и возводимые к концепции интерпретаторов, не замыкаются в субъективности их суждений, а присущи им органически. Следовательно, речь идет вовсе не о простом субъективном различии концепций, а о бытийных возможностях произведения, которые уже заложены в различии его аспектов.
При этом нельзя отрицать, что здесь содержится точка возможного приложения эстетической рефлексии. Различные постановки одной и той же пьесы могут различаться, например, способом опосредования, точно так же как можно представлять себе переменными привходящие
обстоятельства произведений искусства других родов; например, можно задаться вопросом относительно архитектурного сооружения, как оно выглядело бы при солитерном расположении или как оно должно увязываться со своим окружением. Можно себе представить также проблемы, возникающие перед началом реставрации. Во всех таких случаях само произведение отличается от своего «представления» 24, но если предположить, что возможные вариации, допускаемые при таком «представлении», свободны и произвольны, это будет означать непонимание обязательности произведения искусства. На самом деле все вариации подчиняются основному критическому масштабу «правильного» представления 25.
Нечто в этом роде мы наблюдаем в современном театре в виде традиции, исходящей из инсценировки, интерпретации ролей или практики музыкального исполнения. Здесь не существует произвольного соположения, механического варьирования концепций; напротив, из постоянного следования образцам и их продуктивного приложения создается традиция, исходя из которой разъясняется любая последующая попытка. В известной степени сознание такого рода присуще и исполнителям, подход которых к произведению или роли тем или иным образом всегда связан с опытом предшественников. При этом речь никоим образом не идет о слепом подражании. Традиция, созданная великим актером, режиссером или музыкантом, пример которого продолжает быть образцом, — это не оковы для свободного изображения; напротив, она как бы слилась с самим произведением, так что ее интерпретация в не меньшей степени способна пробудить творческие возможности исполнителя, чем интерпретация самого произведения. Особенное в исполнительском искусстве состоит в том, что произведения, с которыми оно имеет дело, откровенно предоставляются для творческой интерпретации, и тем самым идентичность и континуальность таких
f 9fi
произведении открыты в будущее.
Очевидно, применяемый здесь масштаб, согласно которому нечто является «правильным представлением», в высшей степени подвижен и относителен. Но обязательность изображения не уменьшается оттого, что должна отказаться от четко фиксированного критерия. Так, мы наверняка не согласны предоставить интерпретации музыкального произведения или драмы полную свободу для того, чтобы использовать «текст» как повод для достижения определенного эффекта. В другом случае канонизация определенной интерпретации, например с по-
мощью пластинки, при записи которой дирижировал сам композитор, или в детальных указаниях к постановке, идущих от канонизированного первого сценического воплощения, будет рассматриваться нами как непонимание собственно интерпретационных задач. Такого рода стремление к «правильности» не соответствует и подлинной обязательности произведения, которая каждого из исполнителей связывает единственным и непосредственным образом и не позволяет ему облегчить себе жизнь путем простого подражания образцу.
Совершенно очевидно также, что неправильно было бы ограничивать «свободу» стремлений исполнителя внешними и второстепенными явлениями; напротив, следует представлять исполнение в целом как обязательное и одновременно свободное. Интерпретация может в определенном смысле считаться посттворчеством, которое, однако, не следует процессуально за актом творчества, но относится к облику сотворенного произведения и имеет целью воплотить его с индивидуальным осмыслением. Историзованное исполнение, например музыки на старинных инструментах, тем самым не столь адекватно, как полагают; скорее оно подвергается опасности, будучи подражанием подражания, по словам Платона, трижды отстоять от истины.
Идея единственно правильного исполнения, как кажется, содержит в себе нечто абсурдное, если учесть конечность нашего исторического бытия; об этом еще будет сказано в другой связи. Здесь же очевидность положения дел, согласно которой любое исполнение стремится быть правильным, служит лишь для подтверждения того, что неразличение опосредования и произведения является собственно опытным познанием произведения. То, что эстетическое сознание способно проводить эстетическое различение между произведением и его опосредованием в самом общем случае только в виде критики, то есть тогда, когда это опосредование терпит неудачу, целиком с этим согласуется. По самой своей идее опосредование тотально.
Тотальное опосредование означает, что опосредуемое само себя как таковое снимает. Таким образом, исполнение (в -случае спектакля и музыки, а также и при публичном чтении лирических или эпических произведений) само по себе вовсе не является темой, но в нем и благодаря ему осуществляется представление произведения. Мы увидим, что то же самое справедливо и в отношении встречного характера и доступности,
присущих представлению произведении архитектуры и живописи. В этом случае доступность самого произведения также не является темой, но неверно и обратное, а именно что следует абстрагироваться от всякой связи с жизнью для того, чтобы постичь произведение как таковое. Скорее произведение предстает нам лишь в своих жизненных связях. Тот факт, что произведения искусства приходят из прошлого и внедряются в настоящее как монументы веков, еще далеко не в состоянии сделать их бытие предметом эстетического или исторического сознания. До тех нор пока они соответствуют своим функциям, они — современники любого настоящего. И даже если они представлены в музеях только как произведения искусства, они вовсе не целиком от себя отчуждены, и не потому лишь, что в произведении искусства никогда не гаснет окончательно след его первоначальной функции, давая возможность знающему восстановить ее актом познания, но и потому, что произведение искусства, занявшее отведенное ему место в последовательности экспонатов, все еще сохраняет следы своего происхождения. Оно само обеспечивает свое воздействие, и в том, как оно это делает—«убивая» одно и выгодно дополняя другое, — оно и выражается, выражается его «Я».
Возникает вопрос об идентичности этого «Я», которое в столь различных видах предстает в круговороте времен и обстоятельств. Очевидно, что оно не распыляется по чередующимся аспектам таким образом, чтобы терялась его идентичность, но сохраняется в них всех, и все они ему присущи, все они с ним одновременны. Так возникает задача временной (темпоральной) интерпретации произведения искусства.
|
|