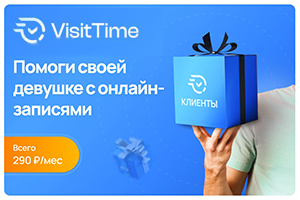Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Часть третья 1 страница. На другой день и все следующие дни Этьен ходил на работу в шахту
|
|
I
На другой день и все следующие дни Этьен ходил на работу в шахту. Он начал свыкаться с этой жизнью и примирился с новыми условиями, которые вначале тяготили его. Одно только событие нарушило однообразие его существования за эти две недели — приступ сильнейшей лихорадки; она продержала его двое суток в постели. Руки и ноги ломило, голова горела, он бредил, и в бреду ему казалось, будто он старается протолкнуть вагонетку в такую узкую штольню, куда и сам не может пролезть. Это была просто чрезмерная усталость, связанная с обучением, и он быстро оправился.
Дни мелькали за днями, проходили недели, месяцы. Этьен, как и все его товарищи, вставал в три часа утра, пил кофе, брал с собой на завтрак бутерброд, приготовленный для всех с вечера г-жой Раснер. Отправляясь по утрам в шахту, он каждый день встречал Бессмертного, который возвращался домой спать; а вечером, на обратном пути, сталкивался с Бутлу, шедшим на вечернюю смену. У него была такая же шапочка, как у всех, такие же панталоны и холщовая блуза; как и все, он дрожал от холода и грел спину в бараке у огня. Затем следовало ожидание босиком в приемочной, где сильно тянуло сквозным ветром. Теперь Этьена не занимали ни машина с гладко отполированными, блестящими медными частями, ни канаты, которые скользили, словно черные бесшумные крылья ночной птицы, ни клети подъемника, поминутно появлявшиеся и исчезавшие под звуки сигнальных звонков, крики команды и грохот вагонеток, катившихся по рельсам. Его лампочка горела плохо: проклятый ламповщик, верно, ее не чистил. И он оживлялся лишь, когда Муке спроваживал их всех и, дурачась, подгонял девушек звучными шлепками. (Клеть отделялась и падала, словно камень, в бездну колодца, и Этьен не успевал обернуться, чтобы посмотреть, как исчезает дневной свет. Он даже никогда не думал о том, что клеть может сорваться, и входил в привычную среду, спускаясь во мрак под проливным дождем. Когда внизу, в приемочной, Пьеррон с лицемерно-слащавым видом выгружал их, шахтеры вялой походкой расходились толпой по штольням. Теперь Этьен знал все галереи шахты лучше, чем улицы в Монсу, знал, где надо сделать поворот, где нагнуться пониже, где обойти лужу. Он так хорошо изучил эти два километра подземного пути, что мог бы пройти и без лампочки, держа руки в карманах. И постоянно ему встречались все те же люди: вот проходит штейгер, освещая лица рабочих, вот старый Мук ведет лошадь, вот Бебер идет с фыркающей Боевой, Жанлен бежит за поездом, закрывая вентиляционные двери, а толстая Мукетта и тощая Лидия катят вагонетки.
Этьен теперь гораздо меньше страдал от сырости и духоты в забоях. Узкие штольни казались ему очень удобными для прохода. Он словно отощал и мог бы теперь пролезть в такую щель, куда раньше не отважился бы даже просунуть руку. Он привык к угольной пыли, хорошо видел в темноте, обливался потом, не обращая на это внимания, и свыкся с тем, что ему приходится быть с утра до вечера в промокшей одежде. К тому же Этьен не тратил попусту сил и приобрел такую ловкость и быстроту, что удивлял всех товарищей по забою. Через три недели его считали уже одним из лучших откатчиков в шахте: никто не мог быстрее докатить одним толчком вагонетку до ската, никто не умел так ловко прицепить ее к канату, как Этьен. Благодаря небольшому росту он проскальзывал всюду, а его руки, тонкие и белые, как у женщины, казались железными, несмотря на нежную кожу, и обладали необычайной силой. Он никогда не жаловался, должно быть из гордости, даже если изнемогал от усталости. Его упрекали разве только в том, что он не понимает шуток и сердится, если кто-нибудь его заденет. Шахтеры приняли его в свою среду и считали настоящим углекопом; с каждым днем он все более входил в колею, превращаясь в машину.
Маэ особенно дружелюбно относился к Этьену, потому что всегда уважал хорошую работу. Кроме того, он, как и прочие, чувствовал, что откатчик по своему умственному развитию стоит выше, чем он. Ему приходилось видеть, как Этьен читает, пишет, чертит планы. Слыхал он также, как Этьен беседует о вещах, самое существование которых было для него новостью. Это нисколько не удивляло Маэ: шахтеры — люди простые, и головы у них крепче, чем у механиков; но его поражали мужество этого юноши и настойчивость, с какой он принялся за труд углекопа, чтобы не умереть с голоду. На его памяти это был первый случай, когда рабочий так быстро осваивался с шахтой. Поэтому, если являлась необходимость спешно крепить штольню и Маэ не хотелось отрывать от работы забойщиков, он поручал молодому человеку ставить подпорки, уверенный, что все будет сделано хорошо и прочно. Начальство не давало ему покоя с этим проклятым креплением, и он каждую минуту боялся, как бы снова не появился инженер Негрель в сопровождении Дансарта: опять начнет кричать, спорить и заставит все переделывать заново. Он заметил, что работа откатчика более удовлетворяла этих господ, хотя они делали вид, что ничем не довольны, и все твердили, что Компания в один прекрасный день примет решительные меры. Время шло, в шахте назревало глухое недовольство, даже сам Маэ, при всем своем спокойствии, начинал приходить в ярость, и рука его порою сжималась в кулак.
С первых же дней обнаружилась вражда между Захарией и Этьеном. Как-то вечером дело чуть не дошло до потасовки. Но Захария, добрый малый, которому ни до чего не было дела, кроме своего удовольствия, тотчас успокоился, когда Этьен дружески предложил ему кружку пива. Вскоре и он признал превосходство новичка. Левак также стал относиться к нему дружелюбно, часто беседовал с ним о политике и говорил, что у Этьена на этот счет свои суждения. Из всей артели один только долговязый Шаваль таил какую-то вражду к откатчику — и не потому, что они дулись друг на друга: наоборот, они даже стали приятелями. Но среди взаимных шуток они обменивались такими взглядами, словно готовы были уничтожить друг друга. Катрина на работе по-прежнему казалась той же усталой, покорной девушкой, она так же гнула спину, катя вагонетку, так же приветливо относилась к своему товарищу, а он, в свою очередь, помогал ей. С другой стороны, она безропотно покорялась всем прихотям своего любовника и открыто принимала его ласки. Их отношения были всеми признаны: даже семья Катрины сквозь пальцы смотрела на их связь, и Шаваль каждый вечер уходил с откатчицей за отвал, затем провожал ее до дверей родительского дома и здесь целовал девушку в последний раз на глазах у всего поселка. Этьен делал вид, что это его нисколько не касается, и часто подсмеивался над их прогулками, отпуская такие крепкие словечки, какие позволяют себе парни с девушками только в глубине шахты. Катрина отвечала ему тем же, кичливо рассказывала, что сделал для нее ее кавалер, но смущалась и бледнела всякий раз, как ее глаза встречались с глазами молодого человека. Оба отворачивались и порой часами не разговаривали. Казалось, они ненавидели друг друга за то чувство, которое было в них схоронено и о котором они никогда между собой не говорили.
Наступила весна. Однажды, поднявшись из шахты, Этьен ощутил на лице теплое дыхание апреля, запах свежей земли, нежной зелени, чистого воздуха. И вот теперь всякий раз, как он возвращался домой, воздух становился все ароматнее, и солнце казалось жарче после десятичасовой работы среди вечного мрака и холода сырого подземелья, куда не проникало лето. Дни становились длиннее, и в мае Этьен спускался в шахту уже на восходе солнца, когда алое небо бросало отсвет зари на Воре, а легкий утренний туман казался розовым. Никто больше не дрожал от холода, с дальних полей доносился теплый ветер, и в вышине звонко пели жаворонки. А в три часа он видел ослепительно горящее солнце, — оно заливало заревом пожара горизонт и отбрасывало красноватый отсвет на кирпичные строения, испачканные углем. В июне рожь была уже высокая, и голубоватая зелень ее резко оттеняла темную ботву свекловицы. Это было бесконечное море, волнующееся при малейшем дуновении ветра; оно ширилось с каждым днем, и часто вечером Этьен с удивлением замечал, что оно еще зеленее, чем утром. Тополи у канавы убрались листвой. Отвал зарос травой, луга покрылись цветами, всюду нарождалась новая жизнь и била ключом из той самой земли, под которой он изнемогал от муки и усталости.
Теперь, отправляясь вечером гулять, Этьен уже не встречал больше влюбленных за отвалом. Он шел по их следам в ржаные поля и по движению желтеющих колосьев и больших красных маков догадывался, где они нашли укромный приют для своей страсти. Захария и Филомена шли туда по старой привычке. Старуха Прожженная, вечно разыскивавшая Ли-дню, то и дело накрывала ее с Жанленом: дети глубоко зарывались в рожь, и, чтобы спугнуть их, надо было задеть их ногой. А что касается Мукетты, то она таскалась повсюду, и нельзя было перейти поля, не увидав где-нибудь ее головы; она тотчас скрывалась во ржи и падала навзничь, так что виднелись одни ее торчащие ноги. Но ведь молодежь свободна, и Этьен не видел в этом ничего предосудительного. Он возмущался только в те вечера, когда встречал Катрину и Шаваля. Раза два он заметил, как они скрылись при его приближении в зелени, и неподвижные ветви как бы сомкнулись над ними. В другой раз, когда Этьен шел по узкой тропе, светлые глаза Катрины вдруг мелькнули перед ним и тотчас потонули во ржи. Тогда необозримая равнина показалась ему слишком тесной, и он предпочел провести вечер у Раснера, в его кабачке «Авантаж».
— Госпожа Раснер, дайте мне кружку… Нет, я не пойду гулять нынче вечером, я устал, совсем без ног.
И, обращаясь к товарищу, который сидел за столом в другом конце комнаты, у стены, он спросил:
— Суварин, а ты не хочешь?
— Нет, спасибо, ничего не хочу.
Эгьен познакомился с Сувариным, живя с ним бок о бок. Он служил машинистом в Воре и занимал наверху комнату рядом с комнатой Этьена. Лет тридцати на вид, он был худощавый блондин с тонким лицом, обрамленным длинными волосами и редкой бородкой; белые острые зубы, тонкий рот и нос, розовый цвет щек придавали ему сходство с девушкой; у него было кроткое и вместе с тем упрямое выражение лица, а в серых, стальных глазах временами вспыхивал дикий огонек. В комнате этого бедного рабочего находился только большой ящик с книгами и бумагами. Суварин, русский, никогда о себе: не говорил, но про него рассказывали много небылиц. Углекопы, недоверчиво относившиеся к иностранцам, угадав по его небольшим рукам, что он принадлежит к другому классу, вообразил сперва, что тут скрывается целое приключение: он — убийца, бежавший от кары. Но Суварин без малейшей гордыни проявлял братское отношение к ним, раздавал мелочь рабочей детворе — и углекопы его в конце концов признали. Они успокоились на том, что это политический эмигрант. Как ни туманно было такое объяснение, оно оправдывало Суварина в их глазах, даже если он и совершил какое-нибудь преступление. Углекопы видели в нем как бы товарища по несчастью.
В первые недели он казался Этьену угрюмым и нелюдимым. Историю его Этьен узнал лишь позднее. Суварин был последним отпрыском дворянской семьи из Тульской губернии. В Петербурге он изучал медицину. Там он увлекся идеями социализма, захватившими в то время всю русскую молодежь. Он решил обучиться какому-нибудь ремеслу и выбрал профессию механика, чтобы потом пойти в народ, узнать его ближе и братски помогать ему. И вот теперь он жил этим ремеслом, бежав из России после неудавшегося покушения на жизнь императора: в течение целого месяца он прожил в подвале фруктовой лавки, делая подкоп через всю улицу и начиняя бомбы, под вечной угрозой взлететь на воздух вместе с домом. Семья отреклась от него. Без гроша, занесенный на черную доску во французских мастерских, которые подозревали в нем шпиона, Суварин умирал с голоду, пока наконец Компания в Монсу не наняла его в пору нехватки рабочих рук. Здесь он работал уже целый год — одну неделю днем, другую ночью, неизменно исправный, трезвый, молчаливый и аккуратный, так что начальство ставило его в пример другим.
— Неужели тебе никогда не хочется пить? — смеясь, спросил его Этьен.
А тот ответил своим тихим голосом, почти без всякого акцента:
— У меня бывает жажда во время еды.
Товарищ подшучивал над любовными похождениям» Суварина и клялся, что видел его с откатчицей во ржи, неподалеку от поселка «Шелковых чулок». Суварин только пожимал плечами, преисполненный спокойствия и безразличия. На что ему откатчица? К женщине он относился как к товарищу, если она проявляла к нему братские чувства и была смела, как мужчина. Иначе к чему совершать такую подлость? Он не хотел никого — ни жены, ни друга, никакой связи. Свободный сам, он не имел близких.
Каждый вечер, часов около девяти, когда кабачок пустел, Этьен оставался там и беседовал с Сувариным. Он пил маленькими глотками пиво, а машинист курил папиросу за папиросой; от табака у него порыжели тонкие пальцы. Блуждающим взором мистика, как бы сквозь сон, следил он за кольцами дыма. Левой рукой он, казалось, судорожно искал чего-то в пустоте; потом обычно брал на колени ручного кролика, жирную самку, вечно тяжелую, жившую в дом г на свободе. Эта крольчиха, которую он сам прозвал «Польшей», обожала его, обнюхивала его брюки, становилась перед ним на задние лапки и царапала до тех пор, пока он не брал ее на руки, как ребенка. Тогда, прижавшись к нему, она опускала уши и закрывала глаза; а он, в порыве бессознательной нежности, непрестанно гладил ее шелковистую серую шерсть. Его успокаивало это теплое и живое существо.
— Знаете, — сказал однажды вечером Этьен, — я получил письмо от Плюшара.
В комнате не было никого, кроме Раснера. Последний посетитель отправился в поселок, где все уже засыпало.
— А! — воскликнул кабатчик, подходя к своим жильцам. — Как его дела?
Этьен, сообщив Плюшару о своем поступлении на работу в Монсу, уже два месяца вел с ним оживленную переписку. А Плюшар, ухватившись за мысль о возможности пропаганды среди углекопов, давал Этьену различные указания на этот счет.
— Дела Товарищества, о котором вы уже знаете, идут как будто очень хорошо; к нему, видимо, присоединяются со всех сторон.
— А ты какого мнения об их обществе? — спросил Распер, обращаясь к Суварину.
Нежно почесывая голову Польши, тот выпустил изо рта клубы дыма и спокойно ответил:
— Вздор!
Но Этьен воодушевился. В нем назревало возмущение, и он мечтал о борьбе труда с капиталом. Как человек неопытный, он очень увлекался. Речь шла о Международном рабочем товариществе, о знаменитом Интернационале, который только что был создан в Лондоне. Разве это не начало той доблестной борьбы, которая приведет наконец к торжеству справедливости? Рушатся все перегородки, трудящиеся всего мира восстанут и объединятся, чтобы обеспечить рабочему кусок хлеба, который он добывает своим трудом. Какая простая и великая организация: сначала секция, представляющая собой данную общину; далее федерация, объединяющая секции одной и той же провинции; потом нация и, наконец, надо всем этим — человечество, воплощенное в генеральном совете, где каждая нация представлена секретарем-корреспондентом. Меньше чем в полгода можно завоевать мир и диктовать законы предпринимателям, если они будут упорствовать.
— Вздор! — повторил Суварин. — Ваш Карл Маркс желает пустить в ход естественные силы. Ни политики, ни заговора, не так ли? Все должно вестись в открытую и единственно ради повышения заработной платы… Подите вы с вашей эволюцией! Поджигайте города, — вырезайте целые народы, сметайте все на своем пути, и когда от этого растленного мира ничего не останется, вот тогда, может быть, и удастся построить лучший мир.
Этьен засмеялся. Он не всегда соглашался с тем, что говорил его товарищ: теория всеобщего разрушения казалась ему просто рисовкой. Раснер, еще более практичный и здравомыслящий, как человек с положением, даже не рассердился на эти слова. Он хотел только уточнить вопрос.
— Так в чем же дело? Ты собираешься создать секцию в Монсу?
К этому-то и стремился Плюшар, секретарь северной федерации. Особенно он указывал на помощь, которую Товарищество могло бы оказать углекопам в случае забастовки. Этьен предвидел неминуемую стачку: история с креплением плохо кончится; еще одно требование со стороны Компании, и волнения вспыхнут во всех копях.
— Самое досадное — это взносы, — авторитетным тоном объявил Раснер. — Пятьдесят сантимов в общий фонд да два франка секции — как будто бы и пустяки, но бьюсь об заклад, что многие откажутся платить.
— Тем более, — прибавил Этьен, — поэтому сперва надо создать здесь кассу взаимопомощи; если понадобится, мы могли бы превратить ее в стачечный фонд… Во всяком случае, пришло время подумать об этом. Я, со своей стороны, готов, если только готовы другие.
Наступило молчание. Керосиновая лампа на прилавке коптила. В распахнутую дверь явственно доносился стук лопаты: это истопник в Воре засыпал уголь в одну из топок машины.
— Все так дорого! — прибавила г-жа Раснер, вошедшая в комнату и мрачно слушавшая разговор; в своем неизменном черном платье она казалась очень высокой. — Подумайте только, я заплатила за яйца двадцать два су… В один прекрасный день все полетит к черту.
Мужчины были того же мнения. Посыпались жалобы, один за другим они говорили, сокрушенно вздыхая. Трудно рабочему вынести такую жизнь. Революция лишь усугубила его бедствия, и одни буржуа так разжирели с 89-го года, что не оставляют трудовому люду даже объедков со своих тарелок. Пусть скажут по чистой совести, перепало ли хоть что-нибудь на долю рабочих из того благополучия и несметных богатств, которые нажиты за сто лет? Над ними только глумились, объявив их свободными; да, им предоставили свободу умирать с голоду; но этого они и раньше не были лишены. Голосовать за каких-то прожорливых проходимцев, которые думают о них, как о прошлогоднем снеге, — от этого у них не станет больше хлеба в квашне. Нет, так или иначе, но с этим надо покончить — будь то законным путем, чинно, по взаимному соглашению, или же путем насилия, когда будут все жечь и будут резать друг друга. Если не мы, то наши дети, наверное, все это увидят, ибо столетие должно неминуемо завершиться другой революцией, на этот раз — рабочей. Будет разгром, который перевернет все общество во всех его слоях, чтобы построить его вновь на основах справедливости и честности.
— В один прекрасный день все должно полететь к черту, — решительно повторила г-жа Раснер.
— Да, да, все полетит к черту! — подтвердили мужчины.
Суварин гладил уши Польши, и носик ее морщился от удовольствия. Он заговорил вполголоса, как бы про себя, глядя в пространство невидящим взором:
— Возможно ли увеличить заработную плату? В силу железного закона, она сводится к самой ничтожной сумме, необходимой только для того, чтобы рабочие ели сухую корку хлеба да плодили детей… Если она падает чересчур низко, рабочие начинают умирать с голоду; возникает потребность в новых рабочих руках, и заработная плата поднимается. Если же она слишком повышается, приток рабочих усиливается, она снова падает. Это — равновесие пустых желудков, обрекающее рабочего на вечную голодную каторгу.
Когда он забывался и начинал развивать свои взгляды как образованный социалист, Этьен и Раснер слушали его с тревогой: их смущали его неутешительные выводы, и они не знали, что возразить.
— Слышите, — продолжал он своим обычно спокойным тоном, глядя им в лицо, — надо все уничтожить, иначе мы снова будем голодать. Да, да! Анархия — и ничего больше! Земля, омытая кровью и очищенная огнем!.. Потом видно будет.
— Господин Суварин вполне прав, — заявила г-жа Раснер.
Несмотря на свою бунтарскую резкость, она отличалась чрезвычайной учтивостью. Эгьен, в отчаянии от своего невежества, не хотел больше принимать участия в споре. Он поднялся и сказал:
— Идем спать. Что бы там ни было, а завтра придется вставать в три часа.
Суварин, потушив свой неизменный окурок, осторожно приподнял толстую крольчиху под брюшко и опустил ее на пол. Раснер запер входную дверь. Все молча разошлись. В ушах у них стоял звон, голова, казалось, распухла от важных, волнующих вопросов.
Каждый день вели они те же разговоры в опустевшей зале, собравшись вокруг единственной кружки пива, которую Этьен пил целый час. Рой темных мыслей, дремавших до сих пор у него в голове, оживал, кругозор его стал шире. Ощущая настоятельную потребность в знании, Этьен долго не решался просить книг у соседа; у того, как на грех, были только книги на немецком и русском языках. Наконец он где-то раздобыл французскую книгу о кооперативных товариществах. По словам Суварина, и это была ерунда. Кроме того, Этьен регулярно читал анархистский листок «Борьба», издававшийся в Женеве; его получал Суварин. Впрочем, несмотря на их ежедневное общение, машинист оставался все тем же замкнутым человеком; казалось, он проходит свой жизненный путь без увлечений, без любви, не вкушая никаких благ.
В начале июля положение Этьена улучшилось. Неожиданный случай нарушил бесконечное однообразие, жизни в шахте: рабочие вдруг обнаружили в пласту Гийома смешение пород, целую пертурбацию в угольном слое. Это служило несомненным признаком трещины; и действительно, вскоре напали на трещину, о существовании которой не подозревали даже сами инженеры, несмотря на превосходное знание почвы. Событие это озадачило всю шахту; только и говорили, что об исчезнувшей жиле, которая, видимо, спустилась ниже, по ту сторону трещины. Старые углекопы стали повсюду разнюхивать, словно охотничьи собаки, высланные в погоню за углем. Но пока что рабочие не могли сидеть сложа руки, и поэтому Компания назначила торги на разработку угля в новых местах.
Однажды Маэ, возвращаясь вместе с Этьеном из шахты, предложил ему вступить в его артель в качестве забойщика на место Левака, который переходил в другую артель. Он уже сговорился с главным штейгером и инженером; они были весьма довольны молодым человеком. Этьен согласился принять предложенное ему повышение, — он был счастлив доверием, которое оказывал ему Маэ.
Вечером они отправились вместе в шахту ознакомиться с объявлениями. Новые участки, сдававшиеся с торгов, находились в пласту Филоньер, в северной галерее Воре. Они были не очень выгодны. Шахтер только качал головой, слушая, как Этьен читал ему условия. И действительно, когда на другой день они пошли осматривать место разработок, Маэ обратил внимание Этьена на отдаленность участков от наклонного штрека, на зыбкий грунт, на маломощность угольного слоя и на твердость его. Но раз хочешь есть, надо работать. Поэтому в следующее же воскресенье они отправились на торги, которые происходили в бараке под председательством инженера шахты и главного штейгера, но в отсутствие окружного инспектора.
Перед маленькой эстрадой, стоявшей в углу, толпилось человек пятьсот-шестьсот углекопов. Торги шли таким темпом, что слышался только глухой гул голосов; цифры выкрикивались наперебой и тут же покрывались новыми цифрами. Одно мгновение Маэ боялся, что ему не удастся получить ни одного из сорока участков, предложенных Компанией. Конкуренты, охваченные паникой под влиянием слухов о кризисе и остановке работ, понижали цену. Инженер Негрель, несмотря на горячку, не спешил и старался сбить цену до самых низких пределов, а угодливый Дансарт нагло лгал, расхваливая сдаваемые участки. Маэ хотелось оставить за собой участок в пятьдесят метров, и ему пришлось состязаться с товарищем, который тоже не желал уступать. Они поочередно сбавляли по сантиму с вагонетки. Маэ оказался победителем, но вынужден был до того понизить плату, что даже штейгер Ришомм, стоявший позади, подталкивал его и в сердцах процедил сквозь зубы, что при такой низкой цене он ровно ничего не заработает.
Они вышли, и Этьен выругался, не вытерпев, когда увидел Шаваля, возвращавшегося с прогулки по полям в сопровождении Катрины: шляться, когда старик занят таким серьезным делом!
Черт возьми! — воскликнул Этьен. — Людей за горло хватают!.. Теперь они хотят, чтобы рабочие стерли друг друга с лица земли!
Шаваль вышел из себя и объявил, что он ни в коем случае не спустил бы цены! А Захария, подошедший из любопытства, нашел, что это безобразие. Но Этьен в гневе заставил их замолчать:
— Этому будет конец! Придет день, и мы станем хозяевами!
Маэ, молчавший с самого окончания торгов, казалось, пробудился и проговорил:
— Хозяевами!.. Эх, доля проклятая! Давно бы пора!
II
Последнее июльское воскресенье считалось в Монсу местным праздником. Во всем поселке в субботу вечером хозяйки вымыли в комнатах полы и стены, выливая воду целыми ведрами; пол не просох и к утру, хотя его посыпали белым песком, — роскошь, не всегда доступная для бедноты. День обещал быть очень жарким, — то был один из летних дней на севере, когда небо насыщено грозами, а бескрайные голые равнины задыхаются от зноя.
По воскресеньям в семье Маэ все вставали в разное время. Отец начал ворочаться в постели еще с пяти часов и все-таки встал и оделся, но дети нежились до девяти. На этот раз Маэ вышел в сад покурить, потом вернулся в дом и в одиночестве съел кусок хлеба с маслом, ожидая, когда встанут остальные. Так он и провел утро, не зная, за что взяться; починил лохань, которая стала течь, приклеил под часами портрет наследного принца, подаренный детям. Наконец сверху начали спускаться друг за другом остальные члены семьи; дед Бессмертный вынес стул, чтобы посидеть на солнце; мать и Альзира немедленно принялись стряпать; Катрина одела и привела Ленору и Анри. Пробило одиннадцать часов. По всему дому запахло вареным кроликом с картофелем. Наконец появились Захария и Жанлен, зевая, с заспанными глазами.
По случаю праздника весь поселок высыпал на улицу в ожидании обеда, который готовили раньше, чтобы скорее отправиться в Монсу. Детвора бесновалась, мужчины, без блуз, в рубашках и в шлепанцах, слонялись ленивой походкой людей, отдыхающих в воскресный день. На дворе стояла хорошая погода, и потому все окна и двери были распахнуты настежь. Из комнат доносились гул голосов, крики и звук шагов. Во всех домах пахло вареным кроликом, и этот приятный аромат вытеснял на один день застарелый запах жареного лука.
Маэ обедали ровно в полдень. У них в доме было довольно тихо; зато кругом так и жужжало. Соседи непрестанно переговаривались из двери в дверь, женщины собирались кучками и болтали, тут же занимали друг у друга всякие вещи по хозяйству, выгоняли детей из комнаты или, наоборот, тащили их обратно, наградив шлепком. Семейство Маэ в течение трех недель было в натянутых отношениях с соседями, Леваками, из-за Захарии и Филомены. Мужчины между собою разговаривали, но женщины делали вид, будто незнакомы друг с другом. Эта распря упрочила отношения с женою Пьеррона. В тот день, однако, она оставила мужа и Лидию на попечение матери и ушла рано утром к двоюродной сестре в Маршьенн; и вот над ней подтрунивали: всем известно, что это за двоюродная сестра! У нее усы и служит она в Воре, в должности главного штейгера. Жена Маэ объявила, что совсем. нехорошо бросать семью в праздник.
Кроме картофеля и кролика, которого целый месяц откармливали в сарае, у Маэ на обед был еще мясной суп и говядина. Двухнедельная получка пришлась как раз накануне, в субботу. Они давно не помнили такого пиршества. Даже в последний праздник св. Варвары — праздник шахтеров, когда они три дня не работают, — кролик не был таким жирным и нежным, как сегодня. Десять пар челюстей, начиная с маленькой Эстеллы, у которой уже стали прорезываться зубы, и кончая стариком Бессмертным, которому грозила опасность потерять последние, работали с таким усердием, что не оставалось даже костей. Мясо было хорошее, но желудки углекопов плохо переваривали его, так как мясное приходилось есть редко. Съели все дочиста; остался только кусок вареной говядины на ужин. Можно будет сделать еще бутерброды для тех, кто проголодается.
Первым исчез Жанлен. Бебер поджидал его возле школы. Они долго шатались, пока не выманили наконец Лидию; ее ни на шаг не отпускала от себя Прожженная, решившая не выходить из дому. Заметив, что девочка убежала, она стала браниться, потрясая костлявыми руками. Пьеррону все это надоело, и он отправился на прогулку. У него был вид супруга, развлекающегося со спокойной совестью, зная, что и жена его проводит время в свое удовольствие.
Затем ушел дед Бессмертный. Маэ тоже собрался подышать свежим воздухом, спросив предварительно жену, не хочет ли и она пройтись с ним; но она никак не могла, — сущее наказание с детьми; позднее она, может быть, выберется и, конечно, сумеет его найти. Выйдя из дома, Маэ постоял в раздумье у дверей, а потом пошел к соседям узнать, готов ли Левак. Там он застал Захарию, поджидавшего Фшюмену. Жена Левака тотчас заговорила на нескончаемую тему о свадьбе, стала кричать, что это издевательство и она объяснится с женой Маэ начистоту. Разве это жизнь — нянчить детей своей дочери, у которых нет отца, а дочь тем временем будет гулять со своим любезным? Филомена преспокойно надела чепец, и Захария увел ее, заявив, что женится хоть сейчас, если только согласится его мать. Самого Левака уже не было дома, и Маэ поспешил уйти, посоветовав соседке переговорить с его женой. Бутлу, положив локти на стол, доедал кусок сыра. Точно примерный муж, он наотрез отказался от предложения Маэ пойти распить с ним кружечку.
Мало-помалу поселок пустел; мужчины ушли один за другим; девушки дожидались у дверей своих кавалеров и затем уходили с ними под руку в противоположную сторону. Когда Маэ повернул за угол церкви, Катрина, давно уже увидавшая издали Шаваля, поспешила к нему, чтобы отправиться вместе в Монсу. Мать была дома одна, окруженная развозившимися детьми; она не могла заставить себя подняться со стула, налила еще стакан горячего кофе и стала пить небольшими глотками. В поселке остались одни женщины; они зазывали друг друга в гости и допивали кофе, сидя за столами с жирными пятнами на скатерти, где валялись объедки.
|
|