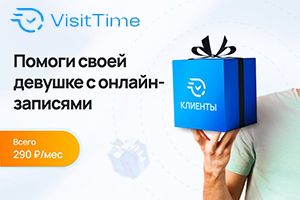Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
По делу о мултанском жертвоприношении 9 страница
|
|
В направлении им дел, в замечаниях на обвинительные акты, во взглядах на взаимные отношения различных судебных органов между собою сказывались у него глубокое знание и людей вообще, и истинных общественных потребностей, а также необыкновенная быстрота соображения, всегда направленного на отыскание живой, а не формальной только правды... Его трезвый, слегка скептический ум нельзя было отуманить ни громкими словами, ни трагическими картинами, ни напускным негодованием оскорбленного мелочного самолюбия. Ухватывая каждый вопрос, по его собственному выражению, " за пуп", он быстро шел к правде, нередко скрытой под обманчивою скорлупою, и добирался до ядра, причем все хитро задуманное представлялось иногда в совершенно новом и неожиданном свете. Здоровые нервы его были, однако, очень подвижны и восприимчивы. Это выражалось даже в том, как он слушал доклады или читал дела, обреченный хоть на время на некоторое бездействие. Он не мог сидеть и слушать или читать спокойно, а двигался в своем кресле, постоянно меняя позу, ерошил себе волосы, теребил бороду, бессознательно бормотал отрывки из стихов или курныкал какой-нибудь мотив, причем пальцы его нервно двигались, иногда мимически подбирая какие-то аккорды, а глаза - если это был доклад - мягко и рассеянно блуждали по комнате. Но вот доклад, сделанный с точностью и обстоятельностью, которых он безусловно требовал, окончен или дело им просмотрено, и лицо его принимает сосредоточенное выражение, глаза смотрят пристально и серьезно, и вдумчивый вывод, в котором ничего не опущено и не забыто, сменяет внешние признаки нервной рассеянности.
Всем интересующийся, меломан и театрал, умевший глубоко и сознательно наслаждаться искусством, вечно занятый пополнением своих собраний, Ровинский оставлял, однако, все это, если служебный долг требовал от него особого напряжения в одном направлении. Тогда он спозаранку являлся к себе в прокурорский кабинет, запирался в нем и лишь на минутку прерывал свою, всегда быструю и содержательную работу, чтобы съесть принесенный им с собою завернутый в бумаге простой завтрак или послать сторожа в знаменитый - увы! исчезнувший ныне - Сундучный ряд за закускою или пирожками. С усталым лицом, но бодрый и веселый, выходил он, окончив свою задачу, в канцелярию и любил отдохнуть, усевшись на стол и мерно качая ногою, в болтовне со своими молодыми сослуживцами " de rebus gestis et aliis" *(207), пересыпая свои рассказы и расспросы острыми словцами, меткими сравнениями и целыми эпизодами комического свойства из пережитого. " Ну, довольно, - прерывал он, наконец, свою беседу, - прощайте, господа, посмотрите-ка, что я там в кабинете на листочках " навараксал", да приведите это в порядок - кажется, выйдет ладно..."
В служебной работе, да, вероятно, и во всякой другой, у него не было систематической равномерности и усидчивости наших западных соседей. Иногда на него находило утомление, так сказать, пресыщение однообразною работою. Его начинало тянуть в деревенское уединение, поближе к природе, которую он любил и умел чувствовать. Тогда он удалялся в старый Сетунский стан, близ Москвы, на берег речки Сетуни, в свой маленький " хутор", хранивший для него освежающие и успокаивающие впечатления. Там, запершись от всех, кроме самых близких друзей, отдыхал он за своими, дорогими ему гравюрами, слушал любимый им далекий звон московских колоколов, сажал цветы или изготовлял фейерверки. И в садоводстве и в пиротехнике он был опытный знаток. Такой отдых продолжался неделю, десять дней... Если необходимость разрешения и подписи неотложных бумаг заставляли нарушить его уединение, то это приходилось делать с большим сожалением. " Подписал? " - спрашивали в канцелярии у возвратившегося с Сетуни курьера, носившего историческую фамилию Пугачева. " Подписали, да только бранятся..." - " А что он делает? " - " Да до обеда цветы сажали, а после обеда ракеты набивали... очень были все время заняты..." Но отдых быстро проходил, освеженные и обновленные силы возвращались с прежнею и даже большею энергиею - и работа снова закипала.
С переходом в Сенат тревожные впечатления ответственной службы прошли для Ровинского - и временный отдых на Сетуни оказалось возможным заменить долговременными и дальними путешествиями. Обыкновенно уже с Пасхи начинал он готовиться к большому странствию и при первой возможности уезжал на поиски нового материала для своих собраний и новых впечатлений и сведений для своего пытливого, вечно молодого ума. С 1870 года он объездил всю Европу до отдаленных и мало посещаемых ее уголков, побывал в Египте, Марокко и Алжире, посетил Иерусалим, был в Индии, на Цейлоне и Яве, в Китае и Японии. Последнее отдаленное его путешествие уже в преклонном возрасте совершено им в Туркестан, Хиву и Бухару. Его " Народные картинки" содержат в себе массу интереснейших личных замечаний, сравнений и указаний, вынесенных отовсюду, где он побывал. Сопряженный с сенаторством переезд в Петербург не изменил привычек старого москвича. На вопрос, каким образом освоится он с холодным, туманным и прямолинейным Петербургом после своих любимых московских урочищ и переулков, он отвечал: " Да я и здесь себе Москву устрою" - и, действительно, поскитавшись по квартирам казармоподобных домов Петровского " парадиза", он устроился в отдаленном конце 4-й линии Васильевского острова, в собственном домике-особняке, утонувшем в глубине небольшого сада, и здесь прожил, в буквальном смысле заваленный книгами и папками с гравюрами, окруженный своими драгоценными изданиями и лично взращенными цветами, до самой своей кончины.
Невидимый и недоступный для случайных или официальных посетителей, но радушный и приветливый хозяин для тех, кого он любил и кого приводил к нему действительный интерес к его личности или трудам, Ровинский оставался и у " Василия на острове" тем же простым и сердечным человеком, каким привыкли знать его сослуживцы, каким всегда знала его Москва. Постоянно работая, отдавая свой труд и время на службу правосудию и искусству, он никогда не выдвигался вперед и менее всего помышлял о своем сане и заслугах. Он скромно умалчивал о царственном внимании к его работам по истории искусства, неоднократно и непосредственно, в личной беседе, проявленном императором Александром III, и никогда не хотел играть никакой официальной роли, скромно и бесшумно исполняя свой служебный долг, но всегда и во всем упорно охраняя самостоятельность своей нравственной личности. Он осуществлял своим житейским поведением глубокие слова Флобера (письма 1877 г.): " Quand on est quelqu'un - pourquoi vouloir etre quelque chose? " *(208). Так достиг он почтенной старости. Несмотря на этот возраст, сопряженный для многих с развитием суетного, почти ребяческого тщеславия и с нравственным " склерозом" чувств и движений сердца, он мог спокойно выдержать опыт, предлагаемый Гейне, говорившим, что " человек в разгаре деятельности подобен солнцу: чтобы иметь о нем верное понятие, надо видеть его при восходе и при закате".
Когда этот закат стал быстро надвигаться, сослуживцы Ровинского - сенаторы уголовного кассационного департамента, в котором он проработал 24 года, поднесли ему переплетенный в старом русском вкусе адрес. В нем, по поводу 50-летия службы Ровинского, говорилось о неустанном его трудолюбии, безграничной любви к родине и науке, о теплом и светлом его взгляде на людей, на бедных, несчастных и даже впавших в преступление. И это были не обычные, юбилейные фразы - тем более, что Ровинский, предвидя возможность празднования своего юбилея, " убежал" за границу и тщательно скрывал свое там местопребывание - и не те приподнятые слова, которые, по обычаю, говорятся " октавой выше" против истины всякому юбиляру, причем ни он, ни говорящие сами им не верят. В словах, написанных многолетними свидетелями его труда, заключалась истинная оценка человека, которого удобнее и точнее можно было рассмотреть именно " на закате". В том же адресе выражалось Ровинскому его товарищами горячее пожелание еще многих лет жизн" M%20" и- " нам и потомству в назидание". В этом пожелании невольно сказывалось и тревожное опасение. Тяжелый недуг уже два года держал его в своих тисках, то усиливаясь, сопровождаемый мучительными болями, то " отпуская" на время. Он вынудил Ровинского прервать свои неутомимые ежегодные путешествия, свел живые краски здоровья с его побледневшего и похудевшего лица, окончательно засыпал сединою его бороду и длинные поредевшие кудри, придававшие ему такой патриархальный вид, заставил потускнеть полные ума и жизни прекрасные голубые глаза... Взгляд этих глаз чаще и чаще стал приобретать то особое выражение, которое бывает свойственно хорошим старикам, со спокойною совестью доживающим полезную жизнь. Он казался как будто устремленным не на находящиеся пред ним предметы, а куда-то вдаль, туда, на тот берег.
Ровинский, очевидно, готовился вступить на этот берег. Это сказывалось не в одной его наружности, но и в меланхолических нотах бесед, которые он стал любить по окончании заседания вести с наиболее близкими ему сослуживцами, отдаваясь преимущественно воспоминаниям прошлого. Его уже давно тяготило пребывание в обществе, и он сокращал его до самой крайней возможности, сидя по целым неделям дома. Узкая практичность многих из современных, претендующих на развитие и образованность, людей, отсутствие твердых убеждений и рисовка бездушными взглядами, искусственно воспринятыми ради житейских удобств, и, наконец, так часто наблюдаемое исчезновение нравственных идеалов в туманной мгле современности пугали и огорчали старика, оскорбляя его лучшие упования. Он все более и более замыкался в себя. " Да! все сижу дома, - сказал он зимою 1895 года своему старому сослуживцу по губернской прокуратуре, - да и что ходить в люди: вон их сколько, хотя в сажень складывай, а куда как трудно найти между ними человека..."
Напротив, сердце его лежало к старым, пережитым годам. Оно на них отдыхало. " Il faut, - говорит Гонкур, - que le passй nous revienne au coeur, - le passй qui ne revient que dans l'esprit est un passй mort" *(209). Для Ровинского это прошлое не было мертвым, и в своих рассказах он возвращался с любовью к эпохе честной служебной борьбы и творческой работы, оживляясь и как бы молодея при этом. Когда я попытался в 1892 году оживить пред слушателями публичных лекций в пользу голодающих забытую личность доктора Гааза, Ровинский сказал мне при первой затем встрече: " А знаете, батюшка, как вы меня на старости лет растревожили с Федором Петровичем (Гаазом)? Прочел я отчет о лекции в газете - и так живо вспомнилось мне прошлое и все эти люди, как живые, такая грусть взяла за душу, что я, сидя один, даже заплакал..." Так же тепло вспоминал он время подготовки судебной реформы и первых лет ее осуществления. Когда я - один из его молодых сослуживцев этой эпохи - затруднялся принять от него в подарок драгоценное издание фототипий с офортов Рембрандта и просил заменить его Перовым, Ровинский писал мне 24 декабря 1894 г.: " Перова я подарю вам с большим удовольствием, но и Рембрандта назад не возьму. Отказом вашим вы меня просто обидите; кому же, как не вам, дорогому и неизменившемуся товарищу из давних и самых светлых лет нашей жизни, подарить мне такую вещь, тем более, что вы оцените, сколько кропотливого труда положено на нее..."
В этих кратких словах - характеристика отношения Ровинского к настоящему и к своему прошлому. Но страдая физически и оглядываясь с грустью назад, он не терял энергии и никогда не уклонялся от исполнения своих обязанностей. Его привлекательная, невольно останавливавшая на себе внимание фигура появлялась во всех заседаниях, где ему надлежало по службе присутствовать, и он продолжал вносить в обсуждение дел всю силу своего богатого опытом и знанием жизни ума. Ядовитое слово Бисмарка: " Eine beurlaubte Leiche" *(210), столь верное и нравственно, и физически по отношению ко многим, было совершенно не применимо к нему. Даже добродушный юмор не покидал его в минуты свободы от болевых ощущений. Он заключил только что приведенное письмо милою шуткою в форме кассационной резолюции: " Ввиду всех этих доводов и не усматривая в действиях моих нарушения 130 и 170 статей Устава уголовного судопроизводства, прошу позволить оставить ваш отзыв без последствий, а мне по-прежнему называться человеком, сердечно вам преданным..."
Между тем " тот берег" приближался. Ровинский мог вступить на него безмятежно. Он оставлял своей родине богатое наследство знания и труда; знавшим его - светлый, привлекательный образ. Он и вступил на него 11 июня 1895 г., близ Франкфурта-на-Майне, в городке Вильдунгене, где ему сделали операцию камнедробления. Операция отлично удалась, но, снедаемый жаждою деятельности, торопясь ехать в Париж, чтобы заняться офортами Ван-Остада, он не поберегся, простудился - и болезнь быстро сделала свое дело. В биографии гравера Уткина он сам говорит: " Для Уткина труд составлял первую потребность в жизни - до последних дней не выпускал он резца из старческих рук своих; ровно за неделю пред смертью, поработав над " Св. Семейством", он сошел вниз к ученику своему Лебедеву и, отирая пот с лица своего, радостно сказал ему: " Как хорошо отдохнуть, поработавши! " ". Эти же самые слова вполне можно применить и к нему самому. Приехав в мае в Вильдунген, он писал П. А. Ефремову незадолго до смерти: " О себе скажу, что совсем выправился и потому не очень кручинюсь, что доктор заболел. Может быть, и без его инструмента еще на год обойдусь. Работа моя с Остадом идет успешно; отсюда в Париж и Лондон на работу, и пробуду там 18-26 дней".
" Работа, работа и работа! - восклицает в краткой заметке о Ровинском П. А. Ефремов (" Русские ведомости"), - и это в 70 лет! Честный, неутомимый труженик! Невольно слеза дрожит на реснице при мысли, что ты теперь успокоился так неожиданно и для дела, и для себя, и для всех, знавших и любивших тебя за твою добрую душу и отзывчивое сердце! "
Гроб с прахом усопшего был отправлен в Москву для погребения на погосте у Спаса-на-Сетуни, но по иронии судьбы, так часто преследующей не только живых, но даже и умерших замечательных людей русских, его встретил целый ряд железнодорожных, таможенных и полицейских недоразумений и формальностей, так что для Ровинского посмертное возвращение на горячо любимую им родину совершилось с великими затруднениями. А любовь эта выразилась и в его завещательных распоряжениях. Собрание оригинальных гравюр Рембрандта, которое он пополнял в течение всей своей жизни и которое, без всякого преувеличения, может быть поставлено в ряду с самыми полными собраниями офортов этого великого мастера, он просил государя императора принять для императорского Эрмитажа; городу Москве для хранения в Румянцевском музее завещал он свое собрание русских портретов, гравюр и народных картинок; императорской публичной библиотеке оставил собрание до 50 тысяч иностранных портретов и полный (свой личный) экземпляр всех своих изданий; Академии художеств - собрание медных гравированных досок и иностранных гравюр; Училищу правоведения - всю свою научную библиотеку. Вместе с тем он учредил премию с капитала в 40 тысяч рублей для выдачи, попеременно, за лучшие сочинения по художественной археологии и за лучшую картину, которая затем должна быть, в пользу автора, воспроизведена резцом на 1/3 часть выдаваемой премии, и оставил 26 тысяч рублей на устройство и содержание первоначальных народных школ. Наконец, свой хутор на Сетуни он завещал Московскому университету с тем, чтобы из доходов с него ежегодно выдавалась премия за лучшее иллюстрированное научное сочинение для народного употребления...
Так богато одарил свою родину этот человек, лично себе во всем отказызавший и мало заботившийся о том, как жить, потому что чуткою душою нашел и уразумел - зачем жить... Весь его труд и вся его деятельность были направлены на развитие в русском обществе и народе правосознания и исторического самосознания, на служение искусству увековечением произведений великих его мастеров.
Прах этого выдающегося человека почивает у Спаса-на-Сетуни, где издали приветно сияют золотые главы Москвы, той Москвы, в которой бьется и переливается, как в сердце страны, коренная жизнь русская, столь любимая и понятая покойным. Хочется думать, что эта жизнь будет становиться все светлее и шире, хочется, обратясь к его могиле, сказать, в благодарном воспоминании: " Ты был прежде всего человеком, ты послужил родине всеми силами души, ты верил горячо в духовные силы своего народа, ты умел даже в падшем различать черты брата... Почивай же с миром, почивай, брат наш!.."
|
|