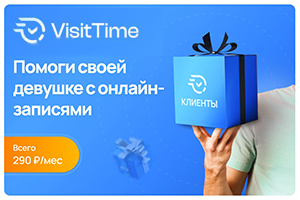Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Воспоминания и размышления 1 страница
|
|
Жуков Георгий Константинович
Проект " Военная литература": militera.lib.ru
Издание: Жуков Г К. Воспоминания и размышления. В 2 т. — М.: Олма-Пресс, 2002.
Книга на сайте: militera.lib.ru/memo/russian/zhukov1/index.html
Иллюстрации: militera.lib.ru/memo/russian/zhukov1/ill.html
OCR: Андрианов Пётр (assaur@mail.ru)
Правка: Бабин Сергей
Дополнительная обработка: Hoaxer (hoaxer@mail.ru)
Текст печатается с учетом последней прижизненной правки автора
{1}Так помечены ссылки на примечания. Примечания в конце текста
[1] Так помечены страницы. Номер предшествует странице.
Аннотация издательства: Широко известная книга четырежды Героя Советского Союза Маршала Георгия Константиновича Жукова впервые вышла в 1969 году и с тех пор выдержала двенадцать изданий. Все эти годы книга пользуется неизменно огромной популярностью у читателей разных поколений Новое издание приурочено к 60-летию Битвы под Москвой и 105-й годовщине со дня рождения Г. К. Жукова.
Содержание
Том I
Призвана жить долго. М. Г. Жукова
Вместо предисловия
Глава первая. Детство и юность
Глава вторая. Служба солдатская
Глава третья. Участие в Гражданской войне
Глава четвертая. Командование полком и бригадой
Глава пятая. В инспекции кавалерии РККА. 4-я кавалерийская дивизия Первой Конной армии
Глава шестая. 3-й и 6-й конные корпуса Белорусского военного округа
Глава седьмая. Необъявленная война на Халхин-Голе
Глава восьмая. Командование Киевским особым военным округом
Глава девятая. Накануне Великой Отечественной войны
Глава десятая. Начало войны
Глава одиннадцатая. Ставка Верховного Главнокомандования
Глава двенадцатая. Ликвидация Ельнинского выступа противника
Глава тринадцатая. Борьба за Ленинград
Том II
Глава четырнадцатая. Битва за Москву
Глава пятнадцатая. Суровые испытания продолжаются (1942 год)
Глава шестнадцатая. Стратегическое поражение противника в районе Сталинграда
Глава семнадцатая. Разгром фашистских войск на Курской дуге
Глава восемнадцатая. В сражениях за Украину
Глава девятнадцатая. Освобождение Белоруссии и Украины
Глава двадцатая. От Вислы до Одера
Глава двадцать первая. Берлинская операция
Глава двадцать вторая. Безоговорочная капитуляция фашистской Германии
Глава двадцать третья. Потсдамская конференция. Контрольный совет по управлению Германией
Заключение
Примечания
Список иллюстраций
Глава первая. Детство и юность
На склоне лет своих трудно вспомнить все, что было в жизни. Годы, дела и события выветрили из памяти многое, особенно относящееся к детству и юности. Запомнилось лишь то, что забыть нельзя.
Дом в деревне Стрелковке Калужской губернии, где я родился 19 ноября (по старому стилю) 1896 года, стоял посредине деревни. Был он очень старый и одним углом крепко осел в землю. От времени стены и крыша обросли мохом и травой. Была в доме всего одна комната в два окна.
Отец и мать не знали, кем и когда был построен наш дом. Из рассказов старожилов было известно, что в нем когда-то жила бездетная вдова Аннушка Жукова. Чтобы скрасить свое одиночество, она взяла из приюта двухлетнего мальчика — моего отца. Кто были его настоящие родители, никто сказать не мог, да и отец потом не старался узнать свою родословную. Известно только, что мальчика в возрасте трех месяцев оставила на пороге сиротского дома какая-то женщина, приложив записку: “Сына моего зовите Константином”. Что заставило бедную женщину бросить ребенка на крыльцо приюта, сказать невозможно. Вряд ли она пошла на это из-за отсутствия материнских чувств, скорее всего — по причине своего безвыходно тяжелого положения.
После смерти приемной матери, едва достигнув восьмилетнего возраста, отец пошел в ученье к сапожнику в большое село Угодский Завод. Он рассказывал потом, что ученье сводилось в основном к домашней работе. Приходилось и хозяйских детей нянчить, и скот пасти. “Проучившись” таким образом года три, отец отправился искать другое место. Пешком добрался до Москвы, где в конце концов устроился в сапожную мастерскую Вейса. У Вейса был и собственный магазин модельной обуви.
Я не знаю подробностей, но, по рассказам отца, он в числе многих других рабочих после событий 1905 года был уволен и выслан из Москвы за участие в демонстрациях. С того времени и по день своей смерти в 1921 году отец безвыездно жил в деревне, занимаясь сапожным делом и крестьянскими работами.
Мать моя, Устинья Артемьевна, родилась и выросла в соседней Деревне Черная Грязь в крайне бедной семье. [12]
Когда отец и мать поженились, матери было тридцать пять, а отцу— пятьдесят{1}. У обоих это был второй брак. После первого брака оба рано овдовели.
Мать была физически очень сильным человеком. Она легко поднимала с земли пятипудовые мешки с зерном и переносила их на значительное расстояние. Говорили, что она унаследовала физическую силу от своего отца — моего деда Артема, который подлезал под лошадь и поднимал ее или брал за хвост и одним рывком сажал на круп.
Тяжелая нужда, ничтожный заработок отца на сапожной работе заставляли мать подрабатывать на перевозке грузов. Весной, летом и ранней осенью она трудилась на полевых работах, а поздней осенью отправлялась в уездный город Малоярославец за бакалейными товарами и возила их торговцам в Угодский Завод. За поездку она зарабатывала рубль — рубль двадцать копеек. Ну какой это был заработок? Если вычесть расходы на корм лошадям, ночлег в городе, питание, ремонт обуви и т. п., то оставалось очень мало. Я думаю, нищие за это время собирали больше.
Однако делать было нечего, такова была тогда доля бедняцкая, и мать трудилась безропотно. Многие женщины наших деревень поступали так же, чтобы не умереть с голоду. В непролазную грязь и стужу возили они грузы из Малоярославца, Серпухова и других мест, оставляя малолетних детей под присмотром бабушек и дедушек, еле передвигавших ноги.
Большинство крестьян наших деревень жили в бедности. Земли у них было мало, да и та неурожайная. Полевыми работами занимались главным образом женщины, старики и дети. Мужчины работали в Москве, Петербурге и других городах на отхожем промысле. Получали они мало — редкий мужик приезжал в деревню с хорошим заработком в кармане.
Конечно, были в деревнях и богатые крестьяне — кулаки. Тем жилось неплохо: у них были большие светлые дома с уютной обстановкой, на дворах много скота и птицы, а в амбарах — большие запасы муки и зерна. Их дети хорошо одевались, сытно ели и учились в лучших школах. На этих людей в основном трудились бедняки наших деревень, часто за нищенскую плату — кто за хлеб, кто за корм, кто за семена.
Мы, дети бедняков, видели, как трудно приходится нашим матерям, и горько переживали их слезы. И какая бывала радость, когда из Малоярославца привозили нам по баранке или прянику! Если же удавалось скопить немного денег к Рождеству или Пасхе на пироги с начинкой, тогда нашим восторгам не было границ!
Когда мне исполнилось пять лет, а сестре Маше шел седьмой год, мать родила еще мальчика, которого назвали Алексеем. Был [13] он очень худенький, и все боялись, что он не выживет. Мать плакала и говорила:
— А от чего же ребенок будет крепкий? С воды и хлеба, что ли?
Через несколько месяцев после родов она вновь решила ехать в город на заработки. Соседи отговаривали ее, советовали поберечь мальчика, который был еще очень слаб и нуждался в материнском молоке. Но угроза голода всей семье заставила мать уехать, и Алеша остался на наше попечение. Прожил он недолго: меньше года. Осенью похоронили его на кладбище в Угодском Заводе. Мы с сестрой, не говоря уже об отце с матерью, очень горевали об Алеше и часто ходили к нему на могилку.
В том году нас постигла и другая беда: от ветхости обвалилась крыша дома.
— Надо уходить отсюда, — сказал отец, — а то нас всех придавит. Пока тепло, будем жить в сарае, а потом видно будет. Может, кто-нибудь пустит в баню или ригу.
Я помню слезы матери, когда она говорила нам:
— Ну что ж, делать нечего, таскайте, ребята, все барахло из дома в сарай.
Отец смастерил маленькую печь для готовки, и мы обосновались в сарае как могли.
На “новоселье” к отцу пришли его приятели и начали шутить:
— Что, Костюха, говорят, ты с домовым не поладил, выжил он тебя?
— Как не поладил? — сказал отец. — Если бы не поладил, он нас наверняка придавил бы.
— Ну что ты думаешь делать? — спросил Назарыч, сосед и приятель отца.
— Ума не приложу...
— А чего думать, — вмешалась мать, — надо корову брать за рога и вести на базар. Продадим ее и сруб купим. Не успеешь оглянуться, как пройдет лето, а зимой какая же стройка...
— Верно говорит Устинья, — загалдели мужики.
— Верно-то верно, но одной коровы не хватит, — сказал отец, — а у нас, кроме нее, только лошадь старая.
На это никто не отозвался, но всем было ясно, что самое тяжелое для нас еще впереди.
Через некоторое время отцу удалось где-то по сходной цене, да еще в рассрочку, купить небольшой сруб. Соседи помогли нам перевезти его, и к ноябрю дом был построен. Крышу покрыли соломой.
— Ничего, поживем и в этом, а когда разбогатеем, построим лучше, — сказала мать.
С наружной стороны дом выглядел хуже других: крыльцо было сбито из старых досок, окна застеклены осколками. Но мы все были очень рады, что к зиме будем иметь свой теплый угол, а что касается тесноты, то, как говорится, в тесноте, да не в обиде. [14]
С осени 1902 года мне пошел седьмой год. Рано наступившая зима для нашей семьи оказалась очень тяжелой. Год выдался неурожайный, и своего зерна хватило только до середины декабря. Заработки отца и матери уходили на хлеб, соль и уплату долгов. Спасибо соседям, они иногда нас выручали то щами, то кашей. Такая взаимопомощь в деревнях была не исключением, а скорее традицией дружбы и солидарности русских людей, живших в тяжелой нужде.
С наступлением весны дела немного наладились, так как на редкость хорошо ловилась рыба в реках Огубляйке и Протве. Огублянка — небольшая речка, мелководная и сильно заросшая тиной. Выше деревни Костинки, ближе к селу Болотскому, где речка брала свое начало из мелких ручейков, места были очень глубокие, там и водилась крупная рыба. В Огублянке, особенно в районе нашей деревни и соседней деревни Огуби, было много плотвы, окуня и линя, которого мы ловили главным образом корзинами. Случались очень удачные дни, и я делился рыбой с соседями за их щи и кашу.
Нам, ребятам, особенно нравилось ходить ловить рыбу на Протву, в район Михалевых гор. Дорога туда шла через густую липовую рощу и чудесные березовые перелески, где было немало земляники и полевой клубники, а в конце лета — много грибов. В этой роще мужики со всех ближайших деревень драли лыко для лаптей, которые у нас называли “выходные туфли в клетку”.
Сейчас рощи и перелесков нет — их вырубили немецкие оккупанты, а после Отечественной войны колхоз распахал землю под посевы.
Однажды летом отец сказал:
— Ну, Егор, ты уже большой — скоро семь, пора тебе браться за дело. Я в твои годы работал не меньше взрослого. Возьми грабли, завтра поедем на сенокос, будешь с Машей растрясать сено, сушить его и сгребать в копны.
Мне нравился сенокос, на который меня часто брали с собой старшие. Но теперь я ехал туда с сознанием, что отправляюсь не забавляться, как это бывало раньше. Я гордился, что теперь сам участвую в труде и становлюсь полезным семье. На других подводах видел своих товарищей-одногодков, также с граблями в руках.
Работал я с большим старанием, и мне было приятно слышать похвалу старших. Но, кажется, перестарался: на ладонях быстро появились мозоли. Мне было стыдно в этом признаться, и я терпел до последней возможности. Наконец мозоли прорвались, и я уже не мог больше грести.
— Ничего, пройдет! — сказал отец.
Лоскутом он перевязал мне ладони. Несколько дней я не мог работать граблями и только помогал сестре носить и складывать сено в копны. Ребята надо мной посмеивались. Но через несколько дней я вновь вошел в строй и работал не хуже их.
Когда подошла пора уборки хлебов, мать сказала: [15]
— Пора, сынок, учиться жать. Я тебе купила в городе новенький серп. Завтра утром пойдем жать рожь.
Жатва пошла неплохо, но скоро меня опять постигла неудача. Желая блеснуть своими успехами, я поторопился, резанул серпом по мизинцу левой руки. Мать сильно перепугалась, я тоже. Соседка, тетка Прасковья, которая оказалась рядом, приложила к пальцу лист подорожника и крепко перевязала его тряпицей.
Сколько лет с тех пор прошло, а рубец на левом мизинце сохранился и напоминает мне о первых неудачах на сельскохозяйственном фронте...
Быстро прошло трудовое лето. Я уже приобрел навык в полевых работах и окреп физически.
Близилась осень 1903 года, и для меня наступала ответственная пора. Ребята — мои одногодки — готовились идти в школу. Готовился и я. По букварю сестры старался выучить печатные буквы. Из нашей деревни этой осенью должны были пойти в школу еще пять ребят, в их числе мой закадычный друг Лешка Колотырный. “Колотырный” — это было его прозвище, а настоящая фамилия — Жуков. Жуковых в нашей деревне было пять дворов. Однофамильцев различали по именам матерей. Нас звали Устиньины, других — Авдотьины, третьих — Татьянины и т. д.
Учиться нам предстояло в церковно-приходской школе, которая была в деревне Величково, в полутора километрах от нас. Там учились ребята из четырех окрестных деревень — Лыково, Величково, Стрелковки и Огуби.
Некоторым ребятам родители купили ранцы, и они хвастались ими. Мне и Лешке вместо ранцев сшили из холстины сумки. Я сказал матери, что сумку носят нищие и с ней ходить в школу не буду.
— Когда мы с отцом заработаем деньги, обязательно купим тебе ранец, а пока ходи с сумкой.
В школу меня отвела сестра Маша. Она училась уже во втором классе. В нашем классе набралось 15 мальчиков и 13 девочек.
После знакомства с нами учитель рассадил всех по партам. Девочек посадил с левой стороны, мальчиков — с правой. Я очень хотел сидеть с Колотырным. Но учитель сказал, что вместе посадить нас нельзя, так как Леша не знает ни одной буквы и к тому же маленький ростом. Его посадили на первую парту, а меня — на самую последнюю. Лешка мне сказал, что постарается поскорее выучить все буквы, чтобы нам обязательно сидеть вместе. Но этого так и не случилось. Леша постоянно был в числе отстающих. Его часто за незнание уроков оставляли в классе после занятий, но он был на редкость безропотным парнем и не обижался на учителей.
Учителем в школе был Сергей Николаевич Ремизов, опытный педагог и хороший человек. Он зря никого не наказывал и никогда не повышал голоса на ребят. Ученики его уважали и слушались.
Отец Сергея Николаевича, тихий и добрый старичок, был священником и преподавал в нашей школе “Закон Божий”. [16]
Сергей Николаевич, как и его брат Николай Николаевич — врач, был безбожник и в церковь ходил только ради приличия. Оба брата пели в церковном хоре. У меня и у Леши Колотырного были хорошие голоса, и нас обоих включили в школьный хор.
Во второй класс все ребята нашей деревни перешли с хорошими отметками, и только Лешу, несмотря на нашу коллективную помощь, не перевели — по “Закону Божьему” у него была двойка.
Моя сестра училась тоже плохо и осталась во втором классе на второй год. Отец с матерью решили, что ей надо бросать школу и браться за домашнее хозяйство. Маша горько плакала и доказывала, что она не виновата и осталась на второй год только потому, что пропустила много уроков, ухаживая за Алешей, когда мать уезжала в извоз. Я заступался за сестру и говорил, что другие родители тоже работают, ездят в извоз, но своих детей никто из школы не берет и все подруги сестры будут продолжать учебу. В конце концов мать согласилась. Маша была очень довольна, и я был рад за нее.
Нам было жаль мать, мы с сестрой своим детским умом понимали, что ей очень трудно. К тому же отец, который был в это время на заработках в Москве, стал очень редко и мало присылать нам денег. Раньше он высылал матери два-три рубля в месяц, а в последнее время — когда пришлет рубль, а когда и того меньше. Соседи говорили, что не только наш отец, но и другие рабочие в Москве стали плохо зарабатывать.
Помню, в конце 1904 года отец приехал в деревню. Мы с сестрой очень обрадовались и все ждали, когда он нам даст московские гостинцы.
Но отец сказал, что ничего на сей раз привезти не смог. Он приехал прямо из больницы, где пролежал после операции аппендицита двадцать дней, и даже на билет взял взаймы у товарищей.
Отца моего уважали в деревне, считались с его мнением. Обычно на сходках, собраниях последнее слово принадлежало ему. Я очень любил отца, и он меня баловал. Но бывали случаи, когда отец строго наказывал меня за какую-нибудь провинность и даже бил шпандырем (сапожный ремень), требуя, чтобы я просил прощения. Но я был упрям — и сколько бы он ни бил меня — терпел, но прощения не просил.
Один раз он задал мне такую порку, что я убежал из дому и трое суток жил в конопле у соседа. Кроме сестры, никто не знал, где я. Мы с ней договорились, чтобы она меня не выдавала и носила мне еду. Меня всюду искали, но я хорошо замаскировался. Случайно меня обнаружила в моем убежище соседка и привела домой. Отец еще мне добавил, но потом пожалел и простил.
Помню, как-то отец был в хорошем настроении и взял меня с собой в трактир пить чай. Трактир был в соседней деревне Огуби. Его владелец, деревенский богатей Никифор Кулагин, торговал разными бакалейными товарами. Мужчины и молодежь любили собираться в трактире, где можно было поговорить о новостях, [17] сыграть в лото, карты и выпить по какому-либо поводу, а то и без всякого повода.
Мне понравилось пить чай в трактире среди взрослых, рассказывавших интересные истории о Москве и Петербурге. Я сказал отцу, что всегда буду ходить с ним и слушать, что они там говорят.
В трактире работал половым брат моей крестной матери Прохор. У него было что-то неладно с ногой, и все звали его хромым Прошкой. Несмотря на свою хромоту, Прохор был страстным охотником. Летом он стрелял уток, а зимой ходил на зайца, у нас их тогда было великое множество.
Прохор часто брал меня с собой. Охота доставляла мне огромное удовольствие. Особенно я радовался, когда он убивал зайца из-под моего загона. За уткой мы ходили на Огублянку или на озеро. Обычно Прохор стрелял без промаха. В мою обязанность входило доставать из воды уток.
Я и до сего времени страстно люблю охоту. Возможно, что любовь к ней привил мне в детские годы Прохор.
Отец скоро вновь отправился в Москву. Перед отъездом он рассказал матери, что в Москве и Питере участились забастовки рабочих, доведенных безработицей и жестокой эксплуатацией до отчаяния.
— Ты, отец, не лезь не в свое дело, а то и тебя жандармы сошлют туда, куда Макар телят не гонял, — говорила мать.
— Наше дело рабочее, куда все, туда и мы.
После отъезда отца мы долго ничего не слышали о нем и сильно беспокоились.
Скоро мы узнали, что в Питере 9 января 1905 года царские войска и полиция расстреляли мирную демонстрацию рабочих, которая шла к царю с петицией просить лучших условий жизни.
Весной того же 1905 года в деревнях все чаще и чаще стали появляться неизвестные люди — агитаторы, призывавшие народ на борьбу с помещиками и царским самодержавием.
У нас в деревне дело не дошло до активного выступления крестьян, но брожение среди них было большое. Крестьяне знали о политических стачках, баррикадных боях и декабрьском вооруженном восстании в Москве. Знали, что восстание рабочих Москвы и других городов России было жестоко подавлено царским правительством и многие революционеры, вставшие во главе рабочего класса, зверски уничтожены, заточены в крепости или сосланы на каторгу. Слышали и о Ленине — выразителе интересов рабочих и крестьян, вожде партии большевиков, партии, которая хочет добиться освобождения трудового народа от царя, помещиков и капиталистов.
Все эти сведения привозили в деревню наши односельчане, работавшие в Москве, Питере и других городах России.
В 1906 году возвратился в деревню отец. Он сказал, что в Москву больше не поедет, так как полиция запретила ему жительство [18] в городе, разрешив проживание только в родной деревне. Я был доволен тем, что отец вернулся насовсем.
В том же году я окончил трехклассную церковно-приходскую школу. Учился во всех классах на “отлично” и получил похвальный лист. В семье все были очень довольны моими успехами, да и я был рад. По случаю успешного окончания школы мать подарила мне новую рубаху, а отец сам сшил сапоги.
— Ну вот, теперь ты грамотный, — сказал отец, можно будет везти тебя в Москву учиться ремеслу.
— Пусть поживет в деревне еще годик, а потом отвезем в город, — заметила мать. — Пускай подрастет немножко...
С осени 1907 года мне пошел двенадцатый год. Я знал, что это моя последняя осень в родном доме. Пройдет зима, а потом надо идти в “люди”. Я был очень загружен работой по хозяйству. Мать часто ездила в город за грузом, а отец с раннего утра до поздней ночи сапожничал. Заработок его был исключительно мал, так как односельчане из-за нужды редко могли с ним расплатиться. Мать часто ругала отца за то, что он так мало брал за работу.
Когда же отцу удавалось неплохо заработать на шитье сапог, он обычно возвращался из Угодского Завода подвыпившим. Мы с сестрой встречали его на дороге, и он всегда вручал нам гостинцы — баранки или конфеты.
Зимой в свободное от домашних дел время я чаще всего ходил на рыбалку, катался на самодельных коньках на Огублянке или на лыжах с Михалевых гор.
Наступило лето 1908 года. Сердце мое щемило при мысли, что скоро придется оставить дом, родных, друзей и уехать в Москву. Я понимал, что, по существу, мое детство кончается. Правда, прошедшие годы можно было лишь условно назвать детскими, но на лучшее я не мог рассчитывать.
Помню, как в один из вечеров собрались на нашей завалинке соседи. Зашла речь об отправке ребят в Москву. Одни собирались везти своих детей в ближайшие дни, другие хотели подождать еще год-два. Мать сказала, что отвезет меня после ярмарки, которая бывала у нас через неделю после Троицына дня. Лешу Колотырного уже отдали в ученье в столярную мастерскую, хозяином которой был богач из нашей деревни Мурашкин.
Отец спросил, какое ремесло думаю изучить. Я ответил, что хочу в типографию. Отец сказал, что у нас нет знакомых, которые могли бы помочь определить меня в типографию. И мать решила, что она будет просить своего брата Михаила взять меня в скорняжную мастерскую. Отец согласился, поскольку скорняки хорошо зарабатывали. Я же был готов на любую работу, лишь бы быть полезным семье.
В июле 1908 года в соседнюю деревню Черная Грязь приехал брат моей матери Михаил Артемьевич Пилихин. О нем стоит сказать несколько слов.
Михаил Пилихин, как и моя мать, рос в бедности. Одиннадцати [19] лет его отдали в ученье в скорняжную мастерскую. Через четыре с половиной года он стал мастером. Михаил был очень бережлив и сумел за несколько лет скопить деньги и открыть свое небольшое дело. Он стал хорошим мастером-меховщиком и приобрел мною богатых заказчиков, которых обдирал немилосердно
Пилихин постепенно расширял мастерскую, довел число рабочих-скорняков до восьми человек и, кроме того, постоянно держал еще четырех мальчиков-учеников. Как тех, так и других эксплуатировал беспощадно. Так он сколотил капитал примерно в пятьдесят тысяч рублей.
Вот этого своего брата мать и упросила взять меня в ученье. Она сходила к нему в деревню Черная Грязь, где он проводил лето, и, вернувшись, сказала, что брат велел привести меня к нему познакомиться. Отец спросил, какие условия предложил Пилихин.
— Известно какие, четыре с половиной года мальчиком, а потом будет мастером.
— Ну что ж, делать нечего, надо вести Егорку к Михаилу.
Через два дня мы с отцом пошли в деревню Черная Грязь. Подходя к дому Пилихиных, отец сказал:
— Смотри, вон сидит на крыльце твой будущий хозяин. Когда подойдешь, поклонись и скажи: “Здравствуйте, Михаил Артемьевич”.
— Нет, я скажу: “Здравствуйте, дядя Миша! ” — возразил я.
— Ты забудь, что он тебе доводится дядей. Он твой будущий хозяин, а богатые хозяева не любят бедных родственников. Это ты заруби себе на носу.
Подойдя к крыльцу, на котором, развалившись в плетеном кресле, сидел дядя Миша, отец поздоровался и подтолкнул меня вперед. Не ответив на приветствие, не подав руки отцу, Пилихин повернулся ко мне. Я поклонился и сказал:
— Здравствуйте, Михаил Артемьевич!
— Ну, здравствуй, молодец! Что, скорняком хочешь быть?
Я промолчал.
— Ну что ж, дело скорняжное хорошее, но трудное.
— Он трудностей не должен бояться, к труду привычен с малых лет, — сказал отец.
— Грамоте обучен?
Отец показал мой похвальный лист.
— Молодец! — сказал дядя, а затем, повернув голову к двери, крикнул:
— Эй, вы, оболтусы, идите сюда!
Из комнаты вышли его сыновья Александр и Николай, хорошо одетые и упитанные ребята, а затем и сама хозяйка.
— Вот смотрите, башибузуки, как надо учиться, — сказал Дядя, показывая им мой похвальный лист, —- а вы все на тройках катаетесь.
Обратившись наконец к отцу, он сказал:
— Ну что ж, пожалуй, я возьму к себе в ученье твоего сына. [20]
Парень он крепкий и, кажется, неглупый. Я здесь проживу несколько дней. Потом поеду в Москву, но с собой его взять не смогу. Через неделю едет брат жены Сергей, вот он и привезет его ко мне.
На том мы и расстались.
Я был очень рад, что поживу в деревне еще неделю.
— Ну, как вас встретил мой братец? — спросила мать.
— Известно, как нашего брата встречают хозяева.
— А чайком не угостил?
— Он даже не предложил нам сесть с дороги, — ответил отец. — Он сидел, а мы стояли, как солдаты. — И зло добавил: — Нужен нам его чай, мы с сынком сейчас пойдем в трактир и выпьем за свой трудовой пятачок.
Мать сунула мне баранку, и мы зашагали к трактиру...
Сборы в Москву были недолгими. Мать завернула пару белья, пару портянок и полотенце, дала на дорогу пяток яиц да лепешек. Помолившись, присели по старинному русскому обычаю на лавку.
— Ну, сынок, с Богом! — сказала мать и, не выдержав, горько заплакала, прижав меня к себе.
Я видел, что у отца покраснели глаза и пробежали по щекам слезинки. И я чуть-чуть не заревел, но удержался.
До Черной Грязи мы с матерью шли пешком. По этой дороге я раньше ходил в школу и в лес за ягодами и грибами.
— Помнишь, мать, как вот на этой полоске, около трех дубов, когда мы с тобой жали, я разрезал себе мизинец?
— Помню, сынок. Матери всегда помнят о том, что было с их детьми. Плохо поступают дети, когда они забывают своих матерей.
— Со мной, мать, этого не случится! — твердо сказал я.
Когда мы с дядей Сергеем сели в поезд, полил проливной дождь. В вагоне стало темно. Одна сальная свечка едва освещала узкий проход вагона третьего класса. Поезд тронулся, за окном замелькали темные очертания лесов и огоньки далеких деревень.
Раньше мне не приходилось ездить в поездах, и я никогда не видел железной дороги. Поэтому поездка эта произвела на меня огромное впечатление. Проехали станцию Балабанове. Вдруг вдали показались какие-то ярко освещенные многоэтажные здания.
— Дядя, что это за город? — спросил я у пожилого мужчины, стоявшего у окна вагона.
— Это не город, паренек. Это нарофоминская ткацкая фабрика Саввы Морозова. На этой фабрике я проработал 15 лет, — грустно сказал он, — а вот теперь не работаю.
— Почему? — спросил я.
— Долго рассказывать... здесь я похоронил жену и дочь.
Я видел, как он побледнел и на минуту закрыл глаза.
— Каждый раз, проезжая мимо проклятой фабрики, не могу спокойно смотреть на это чудовище, поглотившее моих близких... [21]
Он вдруг отошел от окна, сел в темный угол вагона и закурил, а я продолжал смотреть в сторону “чудовища”, которое “глотает” людей, но не решался спросить, как это происходит.
В Москву мы приехали на рассвете. Ехали более четырех часов. Сейчас это расстояние поезд проходит за час с небольшим. Вокзал меня ошеломил. Все страшно спешили к выходу, толкаясь локтями, корзинами, сумками, сундучками. Я не понимал, почему все так торопятся.
— Ты рот не разевай, — сказал мой провожатый. — Здесь тебе не деревня, здесь ухо востро нужно держать.
Наконец мы выбрались на привокзальную площадь.
Возле трактира, несмотря на ранний час, шла бойкая торговля сбитнем, лепешками, пирожками с ливером, требухой и прочими яствами, которыми приезжие могли подкрепиться за недорогую цену. Идти к хозяину было еще рано, и мы решили отправиться в трактир. Около трактира стояли лужи воды и грязи, на тротуаре и прямо на земле примостились пьяные оборванцы. В трактире громко играла музыка, я узнал мелодию знакомой песни “Шумел, горел пожар московский”. Некоторые посетители, успев подвыпить, нестройно подтягивали.
|
|