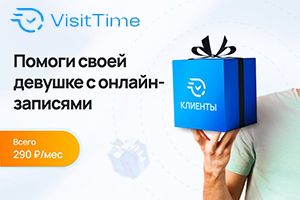Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Любимые игрушки
|
|
Моим главным развлечением в детские годы (приблизительно до 8 лет) были солдатики всякого вида и образца. Их я любил так, как только мог любить свои войска какой-нибудь немецкий «серениссимус» — великий охотник до парадов. Друг дома А. П. Панчетта меня даже прозвал «бум-бум», ибо именно так я сам называл солдат, когда еще не умел произносить настоящие слова, но грохот барабанов проходивших мимо наших окон полков уже вызывал во мне особенное возбуждение. «Бумбумом» называл меня этот милый человек до самой своей смерти, случившейся тогда, когда мне стало лет под сорок, и я из прежнего милитариста давным-давно успел превратиться в завзятого пацифиста.
Солдатиков было у меня несколько сотен. Одни были оловянные, другие бумажные, вырезанные папой, наконец, в удовлетворение моей страсти, папочка мне делал их из игральных карт, которые он перегибал пополам в высоту и обкромсывал по краю с заострением кверху. Такая форма позволяла им стоять довольно стойко, но истинную радость мне все же доставляло не стояние их, а падение. Если, бывало, дунешь на первого, он валился на соседа, тот на третьего, и вся линия оказывалась убитой. Никаких жестоких чувств я при этом не испытывал, впрочем, думаю, что и современный летчик, бросающий бомбу на город, тоже в этот момент ни о чем, специфически жестоком, не помышляет. Он скорее так же невинно веселится, как Шуренька веселился, когда ухлопывал свои бумажные легионы.
Из оловянных солдатиков особую слабость я питал к тем сортам, которые стоили дороже и которые являлись как бы аристократией среди прочего населения моих коробок. Это были кругленькие, выпуклые солдатики, причем кавалеристы насаживались на своих коней и для большей усидчивости обладали штифтиком, который входил в дырочку, проделанную в седле лошади. Спешенные, такие всадники имели препотешный вид: они оставались с расставленными ногами, точно они замочили себе штаны (неприятное чувство замоченных штанов было мне тогда хорошо знакомо), и вместе с тем в таком виде они походили на настоящих кавалеристов, у которых от езды тоже ноги становятся колесом, — брат Коля в позднейшие годы являл живой пример такого типичного кавалериста. Эти толстые солдатики продавались в коробках, в которых обыкновенно помещались еще всякие другие вещи: холщовые палатки, которые можно было расставлять, пушки на колесах и т. п. Все это было страшно интересно, и я действительно блаженствовал, когда расставлял все это на столе, создавал себе иллюзию, что все это настоящее. Если же к этому прибавлялись оловянные тонко-ажурные кусты и деревца, а также те восхитительные домики, которые папа мне вырезал и клеил, то иллюзия правды становилась еще полнее.
Вся эта домашняя военщина, будучи привозной, заграничной, довольно дорого стоила. Напротив, почти ничего не стоили военные игрушки народные, иначе говоря, те деревянные солдатики, которых можно было купить за несколько копеек на любом рынке. К сожалению, эти солдатики по формату не соответствовали оловянным, — самые маленькие из них раза в три превышали самого большого оловянного солдатика. Это обстоятельство, однако, не мешало мне любить и свои деревянные полки. Нравились они мне по двум причинам — и потому, что они были раскрашены в особенно яркие и глубокие колеры (например, голубые мундиры с желтыми пуговицами при белых штанах), и потому, что они восхитительно пахли, «пахли игрушками», — пахли тем чудесным запахом, которым густо были напитаны и игрушечные лавки. Самые замечательные игрушечные лавки были Дойниковские в Апраксиной рынке и в Гостином дворе, но по игрушечной лавке имелось и на нашем фамильном Литовском рынке и на недалеко от нас отстоявшем Никольском.
Эти деревянные солдатики пролетарского характера были разных типов: одни были крашеные, другие просто из белого дерева; были пехотинцы, были кавалеристы, были генералы. Но особенное удовольствие мне доставлял барабанщик, стоявший у своей будки, или целый полк с офицером во главе. Барабанщик выстукивал дробь, — стоило только повертеть за ручку, вделанную в кубик, служивший подставкой; что же касается полка, то тут фигурки в светло-голубых формах при белых штанах были нашпилены на деревянные, скрепленные накрест полоски, которые раздвигались и сдвигались, вследствие чего солдатики то размыкали, то смыкали ряды.
Но не одни солдатики пленяли меня среди простонародных игрушек: были еще такие, с которыми я познакомился в самом раннем детстве, но которые и позже вызывали во мне настоящую радость. К ним принадлежали, например, кланяющийся господин, одетый во фрак по моде 30-х годов, и его пара — дамочка, делавшая ручкой и одетая в широкое и короткое розовое платьице. Сколько я этих «Иван Петровичей» и «Марий Степановных» на своем веку переломал! И как был я счастлив, когда, принявшись в 90-х годах систематически собирать игрушки (вся моя большая коллекция игрушек была в 20-х годах приобретена Русским музеем в Петербурге, где она до сих пор, вероятно, украшает Бытовой отдел), я приобрел несколько последних экземпляров этих удивительных «живых статуэток», изобретенных еще во времена Гоголя и с тех пор неизменно повторяющихся мастерами Троицкого посада. Тут же нужно помянуть с сердечной благодарностью и о тех игрушечных «усадьбах», перед которыми под дребезжащую струнную музычку плавали гусята, а также о всяких пестро раскрашенных птицах и зверях из папье-маше (барашки делали «мэээ», птички — «пью, пью, пью»), о турке, глотающем солдат, и т. п.
Вспоминая выше о своем милитаризме, я позабыл упомянуть о предмете моего особенного вожделения — о большом солдате (из папье-маше), на котором был красный мундир и у которого была такая милая, круглая, розовая рожица с черными усиками. Он стоял вытянувшись, выпятив грудь, и браво держал ружье. Ростом он был с меня! Когда я, наконец, лет трех получил такого солдата и полагавшуюся при нем полосатую будку, то я точно получил себе живого товарища. Я даже клал его вместе с его неотделимым ружьем к себе в кровать под одеяло, а в его будку я мог свободно влезать. Временами, впрочем, я и сам походил на воина, нахлобучив на голову игрушечную каску или же облачившись в рыцарский панцирь. При панцире полагался и шлем с забралом и очень страшная кривая сабля. Все эти предметы были сделаны из картона и оклеены золоченой бумагой.
Если бы дать себе волю, то моя глава об игрушках могла бы разрастись в целый трактат. Однако я никак не могу не упомянуть еще о двух категориях игрушек — о том, что я бы назвал «карликовым миром», и о том, что можно объединить термином «оптические игрушки». И то и другое отвечало, пожалуй, еще в большей степени существу моего характера; то и другое имеет связь с театром и со всяким художеством, воспроизводящим жизнь.
Что касается до «карликового начала», то, мне кажется, это было во мне нечто наследственное, ибо, несомненно, уже у папы была страсть ко всему крошечному. Эту свою страсть он выражал в тех моделях, которые он клеил как для своих детей, так даже и для представления начальству. У него в книжном шкафу, рядом с целой деревней чудесных домиков, привезенных им в 40-х годах из Швейцарии, хранилась модель Стрелинского вокзала, которую папа когда-то склеил для представления ее самому государю Николаю Павловичу. Такие же модели (рассказывали братья) он делал раньше почти для каждой своей значительной постройки, больше для собственной утехи, нежели по необходимости, тратя на это кропотливое дело массу времени.
И вот в 1875 году ко дню моего рождения папа пожелал особенно распотешить младшего своего сынка этим своим искусством. Для этого он вздумал склеить целую квартиру, которая должна была заменить доставшиеся мне по наследству от братьев деревянные комнаты столярной работы, довольно-таки нелепые и громоздкие (ведь мог же я из одной комнаты в другую проползать на четвереньках через соединявшие их двери!). Приготовления к этому подарку держались в секрете, но я очень скоро заподозрил, что нечто особенное зреет для меня, да и пробегая по папиной чертежной, куда он с Альбером или с Леонтием, по окончании очередных серьезных дел, уединялись, я мог, бросив украдкой взгляд на рабочий стол, заметить какие-то крошечные рамы для окон, что-то вроде кухонной плиты, что-то похожее на фортепьяно. Наконец день моего рождения, 21 апреля 1875 года, наступил. Когда я, тщательно причесанный, в бархатном костюмчике с кружевной отделкой и в новых полосатых чулочках вышел сияюще-смущенный в столовую, то между двух горшков с гиацинтами я узрел настоящее чудо, сразу наполнившее мое сердце восторгом. Будучи, как большинство детей, лишенным чувства благодарности (назойливыми и никчемными мне тогда казались все эти поминутно повторявшиеся понукания: «Скажи „спасибо“, Шуренька»), я на сей раз все же «до краев сердца» переполнился этим чувством и даже расплакался. Маме и тут же стоявшим с поздравлением прислугам показалось, что Шуреньке опять не угодили, и уже собирались меня за это журить, но я, преодолев конфуз, все же успел между судорожными рыданиями промолвить: «Я заплакал, потому что боюсь это испортить…» — после чего я зарылся головой в папин халат и бешено стал его (т. е. именно халат) целовать.
Правда, этот домик был бумажный, картонный, комнаты были не выше пяти вершков, да и комнат было всего три, из которых одна, большая, служила залой, другая — столовой и спальней, а третья — кухней, но зато все это изумительно воспроизводило настоящую и притом довольно «шикарную» квартиру. В зале, оклеенной белыми обоями, топился (холодным пламенем из красной фольги) камин, над ним перед зеркалом стояли канделябры и часы, у окна (со слюдой вместо стекла) были повешены кружевные занавески, в углу стоял рояль с поднимавшейся крышкой; стены были украшены картинами в рельефных рамочках. В оклеенной красными обоями столовой, кроме обеденного стола и стульев, стоял еще удобный диванчик, кресло-качалка и большой буфет с настоящей фарфоровой и стеклянной микроскопической посудой, а смежная со столовой кухня была полна кастрюль, тазов, сковородок, на стене же висел колокольчик, который заливался тоненькой дробью, если отворяли входную дверь. В петербургских домах только тогда стали вводить общественное водоснабжение, но уже в моем домике был водопровод, по крайней мере, на это указывали кран и раковина.
Официальными жильцами моей квартиры значились куколки, очень мило одетые: господин и дама (для дамы пришлось прикупить железную кроватку с матрацем и подушками, тогда как господин удовольствовался диваном, на который я его укладывал, не снимая фрака). Однако подлинным обитателем был, разумеется, я. Мне и не нужны были эти фигуранты, которых я вскоре и спровадил в коробку со всякой всячиной, раз я мог сам часами просиживать перед своей квартирой, расставляя мебель, накрывая стол, возясь с камином, у которого, за металлической решеточкой, лежала лопаточка и щипцы. При этом я воображал, что «сегодня будут гости», что вот гости явились и им из кухни несут вкусные вещи. Мне не приходило в голову, что тут нужна еще хозяйка, но с какими-то все же воображаемыми товарищами, с Петей и с Сашей, я мог подолгу разговаривать, они меня навещали в квартире, и с ними же я продолжал беседовать, когда бонна укладывала меня спать.
Культ «маленького» достиг настоящего маньячества, когда в русском переводе я познакомился с Гулливером (прелестное издание «Зеленой библиотеки»). Ах, как мне тогда захотелось попасть в столицу лилипутов, заглядывать в окошечки их домов и наблюдать, как они живут в своих крошечных квартирках! Я давал себе слово, что буду крайне осторожен при прогулках по их улицам и что никого из них не задавлю. Я так живо представлял себе этих человечков, их лошадок, их костюмы, вооружение, что моментами мне казалось, точно я, как Гулливер, действительно, уже когда-то держал их в руках, точно действительно чувствовал, как они дрыгают в перепуге ногами, точно я их подносил под самый нос, чтобы лучше разглядеть. Да, может быть, я и впрямь все это видел в своих, всегда очень реальных снах. Вечером, когда тушили лампу, я начинал вглядываться в полумрак освещенной ночником комнаты в надежде, что кто-нибудь на комоде или на висячей полке вдруг и закопошится, и это окажется лилипут. Случись это действительно, я, наверно, и не испугался бы, тогда как умер бы от страха при появлении какого-нибудь мохнатого-рогатого. Меня интересовал и точный размер гулливерских лилипутов. Когда мне прочли в книжке, что они были семидюймовой высоты, то я просто обиделся, — это уже не были бы те совсем маленькие людики, в существование коих я так слепо верил и с которыми так хотелось войти в общение! Как было бы приятно брать их в карман, вынимать во время прогулок — пусть погуляют среди травки, которая должна им казаться дремучим лесом. Но годы шли, а лилипуты не удостаивали меня своим посещением; приходилось довольствоваться марионетками и всякой другой неодушевленной мелочью.
Здесь же нужно упомянуть о тех замках, о целых городках, которые продавались во время Вербного торга и в которых, как и в картонажных рыцарских доспехах, доживали свой век мечты отошедшей в вечность романтики! О романтике, как о некоем литературном движении, пятилетний мальчик, разумеется, никакого понятия не имел, но о замках я знал, что в них жили разные персонажи из любимых сказок: рыцари, принцы и принцессы, Синяя Борода, Людоед, которого в виде мышонка сожрал Кот в сапогах, и т. п. Да и про самые замки мне много рассказывал Иша, и я знал, что у них подъемные мосты, что их окружают зубчатые стены с башнями по углам; я приблизительно знал и то, как выглядят замки внутри, какие там лестницы, переходы, залы. Многое такое я видел в папиных путевых альбомах, но со многим я знакомился как раз по тем замкам из пробки, о которых я упомянул только что.
Кто создавал эти чудесные и прямо-таки поэтичные вещицы? Кто был тот милый, уютный художник, который, вероятно, задолго до Вербного торга подбирал пробки, разрезал их на пласты, клеил их, сочинял самую архитектуру, бесконечно варьируя комбинации элементов, из которых складывались эти крошечные сооружения. Этот же анонимный волшебник выкладывал скалы, на которых возвышались его многобашенные замки, ярко-зеленым мхом, сажал по ним крошечные рощи из перьев, он же вставлял в пробочные берега зеркальца, представлявшие пруды чистой воды. Какие тончайшие пальцы лепили этих малюсеньких восковых лебедей, что подплывали к ажурным перильцам пристани? Неужели этот архитектор, доживший вероятно до глубокой старости, пережил себя и познал коварную переменчивость вкусов? Неужели он терпел нужду, боролся за жизнь, производил все эти чудеса для того, чтобы заработать десятка два рублей за те семь дней, что длилась Вербная неделя? Постепенно мода на эти замки стала проходить. Их уже редко кто покупал, хоть и стоили они не больше рубля или двух; никого не трогала их подлинная поэтичность. Над ними стали смеяться, как над непонятным пережитком глупой старины. И странное дело, даже у меня, хотя не обходилось и года, чтобы я не приобретал такого замка, даже у меня не сохранилось их ни одного. Хрупкие эти изделия требовали большой осторожности, их следовало бы держать под стеклянными колпаками! Но и колпаки ломались от недостаточно осторожного обращения прислуги и меня самого.
Радость, совершенно подобную той, которую я получал от этих вербных замков, испытывал я при виде того, что было сгруппировано в одной из зал Академии художеств. Через нее надо было проходить, отправляясь в комнаты, отданные под «конкурентов». Так как папа всегда меня брал с собой, когда делал свой обход знакомых академистов, в том числе и моих двух братьев, то я побывал в этом «зале моделей» несколько раз. Это была просторная, но не очень светлая комната. В самой глубине ее и в наиболее освещенной ее части возвышался дивный купол римского San-Pietro, а перед ним в некотором беспорядке были расставлены прямо на полу знакомые мне Исаакиевский собор, Михайловский замок, Петербургская биржа, Смольный монастырь и десяток античных руин. Каждая такая миниатюрная постройка была представлена со всеми подробностями — с крышами, трубами, колоннами, подъездами, колокольнями и шпилями. Вот где воочию я видел город Гулливера! Мне разрешалось пройтись среди этих зданий, из которых немногие превышали мой рост и внутрь которых я мог заглядывать через окошечки. Часть этих зданий стояла как бы разрезанная пополам, что позволяло различить и внутреннее убранство, местами весьма роскошное.
Но выше всех и прекраснее всех казался мне именно собор св. Петра! Мало того, когда я очутился уже зрелым человеком перед папским собором в натуре, я не ощутил столь же сильного восторга, какой я испытывал ребенком, когда цепенел перед этой величественной массой, хотя она и не превышала высоты одной сажени (двух метров). Ничего я еще тогда не знал о художественном значении этого памятника, о том, когда и кем он был построен, я имел только смутное представление о том, что это самая большая церковь на свете и что она находится в Риме, где живет папа, — не мой папа, а папа римский, царь всех священников. Этот мой восторг был поистине непосредственным и подлинным! И именно этот восторг от собора св. Петра вместе с таким же подлинным восторгом от Рафаэля остался как бы путеводным талисманом на всю мою жизнь. Постепенно он отложился в моей душе в целую систему неопровержимых и совершенно для меня ясных аксиом, и каждый раз, когда мной овладевали сомнения в отношении чего-то главного, я, благодаря этому талисману, спасался от деморализации. Впоследствии все эти модели были (благодаря моим же стараниям и после многих лет небрежного отношения) расставлены в залах нижнего этажа Академии художеств, но, увы, модели св. Петра среди них не было; она погибла за несколько лет до того в пожаре 1900 года. Она была слишком велика, чтобы пожарные могли ее вынести через единственную дверь той залы, в которой была сгруппирована эта бесподобная коллекция.
|
|