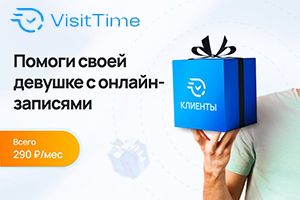Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Часть вторая. В то время, когда обрушился дом Джузеппе Бальдини, Гренуй находился на пути в Орлеан
|
|
В то время, когда обрушился дом Джузеппе Бальдини, Гренуй находился на пути в Орлеан. Он оставил за собой кольцо испарений большого города, и с каждым шагом, по мере удаления от Парижа, воздух вокруг него становился яснее, свежее и чище. Одновременно он терял насыщенность. В нем перестали с бешеной скоростью на каждом метре вытеснять друг друга сотни, тысячи различных запахов, но те немногие, которые были — запахи дорожной пыли, лугов, почвы, растений, воды, — длинными полотнищами тянулись над землей, медленно вздуваясь, медленно колыхаясь, почти нигде резко не обрываясь.
Гренуй воспринимал эту деревенскую простоту как избавление. Эти безмятежные ароматы ласкали его обоняние. Впервые он не должен был следить за каждым своим вдохом, чтобы не учуять нечто новое, неожиданное, враждебное или не упустить что-то приятное. Впервые он мог дышать почти свободно и при этом не принюхиваться настороженно каждую минуту. «Почти» — сказали мы, ибо по-настоящему свободно ничто, конечно, не проникало через нос Гренуя. Даже если у него не было к тому ни малейшего повода, в нем всегда бодрствовала инстинктивная холодная сдержанность по отношению ко всему, что шло извне и что приходилось впускать внутрь себя. Всю свою жизнь, даже в те немногие моменты, когда он испытывал отзвуки чего-то вроде удовлетворения, довольства, может быть счастья, он предпочитал выдыхать: ведь он же и начал жизнь не полным надежды вдохом, а убийственным криком. Но кроме этого неудобства — ограничения, составлявшего суть его натуры, — Гренуй по мере удаления от Парижа чувствовал себя все лучше, дышал все легче, шел все более стремительным шагом и даже глядел почти как обычный подмастерье, то есть как вполне нормальный человек. Больше всего его раскрепощало удаление от людей. В Париже люди жили скученней, чем в любом другом городе мира. Шестьсот, семьсот тысяч человек жили в Париже. Они кишмя кишели на улицах и площадях, а дома были набиты ими битком, с подвалов до чердаков. Любой закоулок был скопищем людей, любой камень, любой клочок земли вонял человечиной.
Только теперь, постепенно удаляясь от человеческого чада, Гренуй понял, что был комком этого месива, что оно восемнадцать лет кряду давило на него, как душный предгрозовой воздух. До сих пор он всегда думал, что мир вообще таков и от него нужно закрываться, забираться в себя, уползать прочь. Но то был не мир, то были люди. Теперь ему показалось, что с миром — с миром, где не было ни души, — можно было примириться.
На третий день своего путешествия он попал в поле притяжения запахов Орлеана. Еще задолго до каких-либо видимых признаков близости большого города Гренуй ощутил уплотнение человеческого элемента в воздухе и решил изменить свое первоначальное намерение и обойти орлеан стороной. Ему не хотелось так быстро лишаться только что обретенной свободы дыхания, погружаясь в тяжелое зловоние человеческого окружения. Он сделал большой крюк, миновал город, около Шатонеф вышел к Луаре и переправился через нее у Сюлли. До Сюлли ему хватило колбасы. Он купил себе еще одно кольцо и, покинув русло реки, свернул в глубь страны.
Он избегал не только городов, он избегал и деревень. Он был как пьяный от все более прозрачного, все более далекого от людей воздуха. Только чтобы запастись новой порцией провианта, он приближался к какому-либо селению или одинокому хутору, покупал хлеб и снова исчезал в лесах. Через несколько недель ему стали неприятны даже встречи с редкими путешественниками на проселочных дорогах, он больше не переносил возникавшего иногда запаха крестьян, косивших первую траву на лугах. Он боязливо избегал каждого овечьего стада, не из-за овец, а чтобы обойти запах пастухов. Он шагал не разбирая дороги, прямо через поля, делал много мильные крюки, стоило ему лишь учуять эскадрон рейтар на расстоянии нескольких часов верховой езды. Не потому, что он, как другие подмастерья и бродяги боялся проверки бумаг и отправки при первой же оказии на военную службу, — он даже не знал, что шла война, — а только и единственно потому, что ему был отвратителен человеческий запах всадников. И так сам собой и без особого решения его план — как можно скорее достичь Граса — постепенно поблек; этот план, так сказать, растворился в свободе, как все прочие планы и намерения. Гренуй не стремился больше никуда, а единственно прочь, прочь от людей.
В конце концов он стал перемещаться только по ночам. Днем он заползал в подлесок, спал под кустами, прятался в зарослях, в самых недоступных местах, свернувшись клубком, как животное, натянув на тело и голову конскую попону, уткнувшись носом в сгиб локтя и отвернувшись к земле, чтобы ни малейший чужой запах не мешал его грезам. На закате он просыпался, принюхивался ко всему вокруг себя и только тогда, когда обоняние убеждало его, что самый последний крестьянин покинул поле и что самый отчаянный путник с наступлением темноты нашел себе кров и приют, только тогда, когда ночь с ее мнимыми опасностями загоняла под крыши людей, Гренуй выползал из своего убежища и продолжал свое путешествие. Чтобы видеть, ему не нужно было света. Уже раньше, когда он еще двигался днем, он часто часами шел с закрытыми глазами только по нюху. Яркая картина ландшафта ослепительность, внезапность и острота зрения причиняли ему боль. Ему нравился только лунный свет. Лунный свет не давал красок и лишь слабо очерчивал контуры пейзажа. Он затягивал землю грязной серостью и на целую ночь удушал жизнь. Этот словно отлитый из чугуна мир, где все было неподвижно, кроме ветра, тенью падавшего подчас на серые леса, и где не жило ничего, кроме ароматов голой земли, был единственным миром, имевшим для него значение, ибо он походил на мир его души.
Так двигался он в южном направлении. Приблизительно в южном направлении, потому что шел не по магнитному компасу, а только по компасу своего обоняния, а оно позволяло ему обходить каждый город, каждую деревню, каждое селение. Неделями он не встречал ни души. Он мог бы убаюкать себя успокоительной верой, что он — один в темном или залитом холодным лунным светом мире, если бы его точный компас не подсказал ему, что есть нечто лучшее.
Даже ночью в мире были люди. Даже в самых удаленных местах были люди. Только они прятались по своим укромным норам, как крысы, и спали. Земля не очищалась от них, потому что даже во сне они источали свой запах, проникавший сквозь открытые окна и щели их обиталищ наружу и отравляли природу, предоставленную, казалось бы, самой себе. Чем больше привыкал Гренуй к более чистому воздуху, тем чувствительнее терзал его человеческий запах, который внезапно, совершенно неожиданно возникал в воздухе, ужасный, как козлиное зловоние, и выдавал присутствие какого-то пастушьего приюта, или хижины углежога, или разбойничьей пещеры. И Гренуй бежал все дальше прочь, реагируя все чувствительнее на встречающийся все реже запах человечины. Так его нос уводил его во все более отдаленные местности страны, все более удалял его от людей и все энергичнее притягивал его к магнитному полюсу максимально возможного одиночества.
Этот полюс, то есть самая удаленная от людей точка во всем королевстве, находился в центральном массиве Оверни, примерно в пяти днях пути от Клермона, на высоте двух тысяч метров, на вершине вулкана Плон-дю-Канталь.
Вулкан представлял собой огромный конус, сложенный из свинцово-серых пород и окруженный бесконечным унылым плоскогорьем, лишь кое-где поросшим серым мхом и серым стелющимся кустарником. Там и сям из него торчали, как гнилые зубы, коричневые скалы и несколько деревьев, обугленных от пожаров. В самые светлые дни местность выглядела столь унылой и безжизненной, что даже беднейший из пастухов этой беднейшей из провинций не стал бы перегонять сюда своих овец. А уж по ночам, в бледном свете луны, эта забытая богом пустыня казалась чем-то потусторонним. Даже разыскиваемый по всей стране бандит Лебрен предпочел пробиваться в Севенны, где его схватили и четвертовали, чем скрываться на Плон-дю-Канталь, где его, правда, никто не нашел бы, но где его ждала верная смерть пожизненного одиночества, а она казалась ему еще более ужасной.
На много миль вокруг не было ни людей, ни обычных теплокровных животных — только несколько летучих мышей, жуков и гадюк. Десятилетиями никто не поднимался на вершину.
Гренуй достиг горы августовской ночью 1756 года. К рассвету добрался до вершины. Он еще не знал, что его путешествие закончилось. Он думал, что это лишь этап на пути к еще более чистому воздуху и, обшаривая нюхом грандиозную панораму вулканической пустыни, крутился волчком: к востоку, где расстилалось широкое плоскогорье Сен-Флур и болотистые берега речки Риу, к северу, откуда он пришел, много дней подряд перебираясь через карстовые хребты, к западу, откуда легкий утренний ветер доносил до него лишь запах камня и жестких трав; к югу, наконец, где на многие мили протянулись отроги Плон-дю-Канталь вплоть до темных пропастей Трюйера.
Везде, во всех направлениях, царило то же безлюдье, но каждый шаг в любую сторону означал приближение к человеку. Стрелку компаса зашкалило, она вертелась по кругу. Ориентиров больше не было. Гренуй достиг цели. Но в то же время он попал в ловушку.
Когда взошло солнце, он все еще стоял на том же месте и ловил носом ветер. С отчаянным напряжением он пытался определить направление, откуда ему грозила человечина, и противоположное направление, куда ему следовало бы бежать дальше. Отовсюду до него долетали едва уловимые обрывки человечьих запахов, приводившие его в ярость. А здесь, где он стоял, не было ничего. Здесь был только покой, спокойствие запахов, если можно так сказать. Кругом царило лишь подобное тихому шороху однородное веяние мертвых камней, серых ползучих растений и сухой травы.
Греную понадобилось очень много времени, чтобы поверить в отсутствие человечьих запахов. Счастье застало его врасплох. Его недоверие долго сопротивлялось благоразумию. Он даже, когда поднялось солнце, призвал на помощь зрение и глазами обследовал горизонт, ища малейший признак человеческого присутствия — крышу хижины, дым огня, забор, мост, стадо. Он приставил ладонь к ушам и постарался расслышать звон косы, или лай собаки, или плач ребенка. Целый день он просидел под палящим солнцем на вершине Плон-дю-Канталь, тщетно ожидая малейшего знака. Только на закате его недоверие постепенно отступило перед нарастающим чувством эйфории: он ушел от ненавистного зловония! Он действительно остался совершенно один! Он был единственным человеком в мире!
В нем разразилась буря ликования. Как потерпевший кораблекрушение после многих недель блуждания по морю в экстазе приветствует первый обитаемый остров, так Гренуй праздновал свое прибытие на гору одиночества. Он кричал от счастья. Отбросив рюкзак, попону, палку, он топал по земле ногами, вздымал вверх руки, кружился в диком танце, с рычанием выкрикивал на все четыре стороны собственное имя, сжимал кулаки, победоносно грозил ими всей лежавшей под ним стране и заходящему солнцу, празднуя свой триумф. Он бесновался как безумный до глубокой ночи.
Следующие несколько дней он потратил на то, чтобы обосноваться на горе — ибо ему было ясно, что он не скоро покинет это дивное место. Для начала он поискал нюхом воду и нашел ее в расселине под вершиной, где она тонкой пленкой сбегала по скале. Ее было немного, но если он терпеливо лакал ее в течение часа, он утолял свою дневную потребность в жидкости. Он разыскал и пищу, то есть маленьких саламандр и змей, которым отрывал головы и проглатывал целиком, с кожей и костями. Он заедал их сухим лишайником, и травой, и клюквой. Этот рацион, совершенно немыслимый с обывательской точки зрения, не смущал его ни в малейшей степени. В последние недели и месяцы он уже больше не питался приготовленной человеком пищей вроде хлеба, и колбасы, и сыра, но, ощутив голод, пожирал подряд все съедобное, что попадалось ему под руку. Менее всего он был гурманом. Он вообще не знал никакого наслаждения, кроме наслаждения чистым бестелесным запахом. Он и о комфорте не имел никакого понятия и удовлетворился бы голым камнем в качестве ложа. Но он нашел кое-что получше.
Недалеко от родника он открыл естественную узкую штольню, которая, образуя множество изгибов, вела внутрь горы и метров через тридцать заканчивалась завалом. Там, в конце штольни, было так тесно, что плечи Гренуя едва вмещались в проем, и так низко, что стоять он мог, лишь согнувшись. Но он мог сидеть, а если сворачивался клубком, то и лежать. Это полностью удовлетворяло его потребность в комфорте. Ибо такое место имело неоценимые преимущества: в конце туннеля даже днем царила непроглядная ночь, стояла мертвая тишина, и воздух дышал влажной солоноватой прохладой. Гренуй сразу учуял, что здесь никогда не бывало ни одного живого существа. Когда он завладел этим местом, его охватило чувство, близкое к священному трепету. Он аккуратно расстелил на земле свою конскую попону, словно покрывал алтарь, и улегся. Он чувствовал небесное блаженство. Он лежал в самой одинокой горе Франции, в пятидесяти метрах под землей, как в собственном гробу. Еще никогда в жизни он не чувствовал себя в такой безопасности — разве что в чреве своей матери. Если б даже снаружи сгорел весь мир, здесь он ничего бы не заметил. Он тихо заплакал. Он не знал, кого благодарить за такое непомерное счастье.
В последующее время он выходил наружу только для того, чтобы лакать воду из родника, быстро освобождаться от мочи и экскрементов и охотиться за ящерицами и змеями. По ночам они ловились легко, потому что забирались под камни или в мелкие норы, где он находил их по запаху.
В первые недели он еще несколько раз поднимался на вершину, чтобы обшарить нюхом горизонт. Но вскоре это стало больше обременительной привычкой, чем необходимостью, потому что он ни разу не почуял ничего угрожающего. И тогда он прекратил экскурсии; он стремился лишь к тому, чтобы, совершив отправления, необходимые для элементарного выживания, как можно скорее вернуться в свой склеп. Ибо здесь, в склепе, он, собственно, и жил. Это значит, что двадцать часов в сутки он в полной темноте и полной тишине сидел на своей попоне в конце каменного коридора, прислонившись спиной к куче осыпавшейся породы, втиснув плечи между скалами, и довольствовался самим собой.
Бывают люди, ищущие одиночества: кающиеся грешники, неудачники, святые или пророки. Они предпочитают удаляться в пустыню, где питаются акридами и диким медом. Некоторые даже живут в пещерах и ущельях на пустынных островах или сидят — немного кокетничая — в клетках, подвешенных на ветвях или укрепленных на столбах. Они делают это ради того, чтобы приблизиться к Богу. Одиночество нужно им для умерщвления плоти и покаяния. Они поступают таким образом в убеждении, что ведут богоугодную жизнь. Или же они месяцами и годами ждут, что в одиночестве им будет ниспослано божественное откровение, дабы они срочно сообщили о нем людям.
Ничего похожего не происходило с Гренуем. О Боге он не имел ни малейшего понятия. Он не каялся и не ждал никакого откровения свыше. Он ушел от людей единственно для собственного удовольствия, лишь для того, чтобы быть близко к самому себе. Он купался в собственном, ни на что не отвлекаемом существовании и находил это великолепным. Как труп, лежал он в каменном склепе, почти не дыша, почти не слыша ударов своего сердца — и все же жил такой интенсивной и извращенной жизнью, как никто иной из живущих в мире.
Ареной этих извращений была — а так же иначе — его внутренняя империя, куда он с самого рождения закапывал контуры всех запахов, которые когда-либо встречал. Чтобы настроиться, он сначала вызывал в памяти самые ранние, самые отдаленные из них: враждебные душные испарения спальни мадам Гайар; вонь иссохшей кожи ее рук; уксусно-кислое дыхание патера Террье, истерический, горячий материнский пот кормилицы Бюсси, трупное зловоние Кладбища невинных, убийственный запах своей матери. И он упивался отвращением и ненавистью, и у него вставали дыбом волосы от сладострастного ужаса.
Иногда этот аперитив мерзостей оказывался недостаточным, и чтобы разогнаться, он позволял себе небольшой обонятельный экскурс к Грималю и отведывал зловонья сырых покрытых мясом кож и дубильных смесей или воображал чадные испарения шестисот тысяч парижан в душной, порочной жаре разгара лета.
И тогда вдруг — в том и состоял смысл упражнения — накопленная ненависть с оргиастической мощью прорывалась наружу. Как гроза, он собирался над этими запахами, посмевшими оскорбить его светлейший нос. Как град на пшеничном поле, он обрушивался на эту пакость, как ураган, он обращал ее в прах и топил в огромном очищающем половодье дистиллированной воды. Столь праведным был его гнев. Столь величественной была его месть. А! Какой возвышенный миг! Гренуй, этот маленький человек, дрожал от возбуждения, его тело судорожно сжималось в сладострастном удовольствии и извивалось так, что в какой-то момент он ударялся о потолок штольни, затем медленно расслаблялся и оставался лежать, опустошенный и глубоко удовлетворенный. Этот акт извержения всех отвратительных запахов был действительно слишком приятен, слишком… В сценарии его воображаемого мирового театра этот номер был, кажется, самым любимым, ибо доставлял чудесное чувство заслуженного изнеможения, которым вознаграждаются лишь истинно великие героические деяния.
Теперь он имел право некоторое время отдыхать. Он вытягивался на своем каменном ложе: физически — настолько, насколько хватало места в темной штольне. Однако внутренне, на чисто выметенной территории своей души, он с комфортом вытягивался во весь рост и предавался сладким грезам об изысканных ароматах. Например, он вызывал в своем обонянии пряное дуновение весенних лугов; тепловатый майский ветер, играющий в зеленой листве буков; морской бриз, терпкий, как подсоленный миндаль.
Он поднимался под вечер — так сказать, од вечер, потому что, конечно, не было никакого вечера, или утра, или полудня, не было ни тьмы, ни света, и не было ни весенних лугов, ни зеленой буковой листвы… вообще во внутреннем универсуме Гренуя не было никаких вещей, а были только ароматы вещей. (Потому-то единственно адекватная, но и единственно возможная facon de parle [5]об этом универсуме — говорить о нем как о ландшафте, ибо наш язык не годится для описания мира, воспринимаемого обонянием.) Итак под вечер в душе Гренуя возникало состояние и наступал момент, подобный окончанию сиесты на юге, когда полуденное оцепенение медленно спадает с ландшафта и приостановленная жизнь опять готова начаться. Воспламененная яростью жара — враг тонких ароматов — отступала, сонм мерзких демонов был уничтожен. Поля внутренних битв, гладкие и мягкие, предавались ленивому покою пробуждения и ожидали, что на них снизойдет воля хозяина. И Гренуй поднимался — как было сказано — и стряхивал с себя сон. Он вставал, великий внутренний Гренуй, он воздвигался как великан, во всем своем блеске и великолепии, упоительно было глядеть на него — почти жаль, что никто его не видел! — и озирал свои владения, гордо и высокомерно.
Да! Это было его царство! Бесподобная империя Гренуя! Созданная и покоренная им, бесподобным Гренуем, опустошенная, разрушенная и вновь возведенная, по его прихоти, расширенная им до неизмеримости и защищенная огненным мечом от любого посягательства. Здесь не имело значения ничего, кроме его воли, воли великого, великолепного, бесподобного Гренуя. И после того как были истреблены, дотла сожжены скверные миазмы прошлого, он желал, чтобы его империя благоухала. И он властно шагал по распаханной целине и сеял разнообразнейшие ароматы, где — расточительно, где — скупо; на бесконечно широких плантациях и на маленьких интимных клумбах, разбрасывая семена горстями или опуская по одному в укромных местах. В самые отдаленные провинции своей империи проникал Великий Гренуй, неистовый садовник, и скоро не осталось угла, куда бы он ни бросил зерно аромата.
И когда он видел, что это хорошо и что вся страна пропитана его божественным гренуевым семенем, Великий Гренуй ниспосылал на нее дождь винного спирта, легкий и постоянный, и семена прорастали, радуя его сердце. На плантациях пышно колосились всходы, и в укромных садах наливались соком стебли. Бутоны просто лопались, торопясь выпустить цветы из оболочки. Тогда Великий Гренуй повелевал дождю прекратиться. И дождь прекращался. А Гренуй посылал стране солнце своей улыбки, и в ответ на нее миллионы роскошных цветов в едином порыве распускались, расстилаясь от края до края империи сплошным ярким ковром, сотканным из мириадов флаконов с драгоценными ароматами. И Великий Гренуй видел, что это хорошо, весьма, весьма хорошо. И он ниспосылал на страну ветер своего дыхания. И под этой лаской цветы источали аромат и смешивали мириады своих ароматов в один, переливающийся всеми оттенками, но все же единый в постоянной изменчивости универсальный аромат, воскуряемый во славу Его, Великого, Единственного, Великолепного Гренуя, и, восседая на троне золотого ароматного облака, он снова втягивал в себя это благоухание, и запах жертвы был ему приятен. И Он спускался с высоты, дабы многократно благословить свое творение, а творение благодарило его ликованием, восторгом, и все новыми взрывами благоухания. Тем временем вечерело, и ароматы расходились все шире, сливаясь с синевой ночи во все более фантастические знамения. Предстояла настоящая бальная ночь ароматов с гигантским фейерверком, пахнущим бриллиантами.
Однако Великий Гренуй испытывал некоторое утомление, он зевал и говорил: «Вот, я сотворил великое дело, и Я вполне доволен. Но как все совершенное, оно начинает наводить скуку. Я желаю удалиться и завершить сей богатый трудами день, доставив себе еще одну радость».
Так говорил Великий Гренуй, и в то время когда простой пахучий народ внизу радостно ликовал и танцевал, Он, спустившись с золотого облака, плавно парил на широко распростертых крыльях над ночной страной своей души, устремляясь домой — в свое сердце.
Ах, это было приятно — возвращаться к себе! Двойной сан — Мстителя и Производителя миров — изрядно утомлял, и выдерживать потом часами восторги собственных созданий тоже было слегка обременительно. В изнеможении от божественных обязанностей творения и представительства Великий Гренуй предвкушал домашние радости.
Его сердце было пурпурным замком в каменной пустыне. Его скрывали дюны, окружал оазис болот и смесь каменных стен. Добраться до него можно было только по воздуху. В нем имелась тысяча кладовых, и тысяча подвалов, и тысяча роскошных салонов, в том числе один с простым пурпурным канапе, на котором Гренуй, теперь уже больше не Великий Гренуй, а вполне частное лицо Гренуй или просто дорогой Жан-Батист, любил отдыхать после дневных трудов.
А в кладовых замках стояли высокие, до самого потолка стеллажи, и на них располагались все запахи, собранные Гренуем за его жизнь, несколько миллионов запахов. И в подвалах замка хранились бочки лучших благовоний его жизни. Когда они настаивались, до готовности, их разливали по бутылкам и километрами укладывали в прохладных влажных проходах, в соответствии с годом и местом производства, и было их столько, что не хватило бы жизни, чтобы отведать каждую бутылку.
И когда наш дорогой Жан-Батист, возвратившись наконец chez soi [6], ложился в пурпурном салоне на свою уютную софу — если угодно, стянув наконец сапоги, — он хлопал в ладоши и призывал своих слуг, которые были невидимы, неощутимы, неслышны и прежде всего неуловимы на нюх, то есть были полностью воображаемыми слугами, и посылал их в кладовые, дабы из великой библиотеки запахов доставить ему тот или иной том, и приказывал им спуститься в подвал, дабы принести ему питье. И воображаемые слуги спешили исполнить повеления, и желудок Гренуя сжимался в судороге мучительного ожидания. Он внезапно испытывал ощущение пьяницы у стойки, которого охватывал страх, что по каким-либо причинам ему откажутся подать заказанную водку. А вдруг подвалы и кладовые сразу опустели? Вдруг вино в бочках испортилось? Почему его заставили ждать? Почему не идут? Зелье требовалось ему сейчас, немедленно, он погибает от жажды, он умрет на месте, если не получит его.
Ну что ты, Жан-Батист! Успокойся, дорогой! Они же придут, они принесут то, чего ты так жаждешь. Вон они, слуги, летят на всех арах, держа на невидимом подносе эту книгу запахов. Невидимые руки в белых перчатках подносят драгоценные бутылки, очень осторожно снимают их с подноса; слуги кланяются и исчезают.
И, оставшись в одиночестве — наконец-то снова в одиночестве! — Жан-Батист хватает вожделенные запахи, открывает первую бутыль, наливает себе бокал до краев, подносит к губам и пьет. Одним глотком он осушает бокал прохладного запаха, и это восхитительно! Это так спасительно хорошо, что от блаженства у нашего дорогого Жан-Батиста наворачиваются на глаза слезы, и он тут же наливает себе второй бокал этого аромата: аромата 1752 года, уловленного весной, в сумерках на Королевском мосту, когда с запада дул легкий ветер, в котором смешались запах моря, запах леса и немного смолистого запаха причаленных к берегу лодок. Это был запах первой, клонившейся к концу ночи, которую он провел, шатаясь по Парижу без разрешения Грималя. Это был свежий запах наступавшего дня, первого рассвета, пережитого им на свободе. Он был предвестием какой-то другой жизни. Запах того утра был для Гренуя запахом надежды. Он бережно хранил его. И каждый день отведывал понемногу.
После второго бокала вся нервозность и неуверенность, все сомнения исчезали и его наполнял величественный покой. Он откидывался на мягкие подушки дивана, раскрывал книгу и начинал читать о запахах своего детства, о школьных запахах, о запахах улиц и закоулков города, о человеческих запахах. И его пронизывала приятная дрожь ужаса, ибо тут он заклинал сплошь ненавистные, истребленные запахи. С отвращением и интересом Гренуй читал книгу мерзких запахов, и когда отвращение пересиливало интерес, он просто захлопывал ее, откладывал прочь и брал другую.
Попутно он беспрерывно пригубливал благородные ароматы. После бутылки с ароматом надежды он раскупоривал бутыль 1744 года, наполненную теплым запахом дров перед домом мадам Гайар. А затем выпивал флягу вечернего аромата, насыщенного духами и терпкой тяжестью цветов, подобранного на окраине парка в Сен-Жермен-де-Пре летом 1753 года.
Теперь он был уже сильно наполнен ароматами. Тело его все тяжелее давило на подушки, а дух волшебно затуманивался. И все же на этом его пиршество не кончалось. Правда, глаза его больше не могли читать, книга давно выскользнула из рук — но он не хотел заканчивать вечер, не осушив еще одной, последней, фляги, самой роскошной: это был аромат девушки с улицы Марэ…
Он выпивал его благоговейно и для этого выпрямлялся на своем канапе, хотя ему это было тяжело, так как пурпурный салон качался и кружился вокруг него при каждом движении. В позе примерного ученика, сжав колени и плотно сдвинув ступни, положив левую руку на левое бедро, — вот как пил маленький Гренуй драгоценнейший аромат из подвалов своего сердца, пил бокал за бокалом и при этом становился все печальнее. Он знал, что выпил слишком много. Он знал, что такого количества удовольствий ему не перенести. И все же пил до дна. Он шел по темному проходу с улицы во двор. Шел на свет. А в круге света сидела девушка и разрезала сливы. Изредка доносился треск ракет и петард фейерверка…
Он отставлял бокал и оставался сидеть, словно окаменев от сентиментальности и опьянения, еще несколько минут, пока с его языка не исчезал последний привкус выпитого. Он неподвижно глядел перед собой. В его мозгу вдруг становилось так же пусто, как в бутылках. Тогда он опрокидывался на бок, на пурпурное канапе и мгновенно погружался в отупляющий сон.
В то же время внешний Гренуй тоже засыпал на своей попоне. И сон его был столь же бездонно-глубоким, как сон внутреннего Гренуя, ибо геркулесовы подвиги и эксцессы одного не менее изнуряли и другого — ведь оба они, в конце концов, были одним и тем же лицом.
Правда, когда он просыпался, он просыпался не в пурпурном салоне пурпурного замка за семью стенами и даже не на весенних лугах своей души, а всего лишь в каменном убежище в конце туннеля на жестком полу в кромешной тьме. И его мутило от голода и жажды, и мучил озноб и похмелье, как запойного пьяницу после разгульной ночи. На карачках он выползал из своей штольни.
Снаружи было какое-то время суток, начало или конец нчи, но даже в полночь свет звезд резал ему глаза. Воздух казался пыльным, едким, сжигающим легкие, ландшафт — жестким, он натыкался на камни. И даже нежнейшие запахи терзали и жалили его отвыкший от мира нос. Гренуй, этот клещ, стал чувствительным как рак, который вылез из своего панциря и нагишом странствует по морю.
Он шел к роднику, слизывал со скалы влагу — час, два часа подряд, это была мука, время не кончалось, то время, когда его настигал реальный мир. Он срывал с камней несколько клочков мха, давясь, впихивал их в себя, приседал на камни, испражнялся и пожирал одновременно — все должно было совершаться быстро, быстро, быстро — и сломя голову, как маленький мягкотелый зверь, над которым в небе уже кружат ястребы, бежал назад в свою пещеру, в конец туннеля, где лежала попона. Здесь он наконец снова был в безопасности.
Он прислонялся спиной к груде щебня, вытягивал ноги и ждал. Теперь ему надо было успокоить свое тело, совсем успокоить, как сосуд, который грозит расплескаться, если его слишком сильно трясти. Постепенно ему удавалось усмирить дыхание. Его возбужденное сердце начинало биться ровнее, шторм внутри него медленно стихал. И внезапно одиночество, как черная гладь штиля, падало на его душу. Он закрывал глаза. Темная дверь в его «я» открывалась, и он входил. В театре гренуевой души начинался очередной спектакль.
Так проходил день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Так прошли целых семь лет.
Тем временем во внешнем мире царила война. Дрались в Силезии и в Саксонии, в Ганновере и в Бельгии, в Богемии и Померании. Солдаты короля погибали в Гессене и Вестфалии, на Балеарских островах, в Индии, на Миссисипи и в Канаде, если они не умирали от тифа еще по пути туда. Миллиону человек война стоила жизни, королю Франции — его колониальных владений, а всем странам, участвовавшим в ней — столько денег, что они наконец скрепя сердце решили ее окончить.
Однажды в это время, зимой, Гренуй чуть не замерз, сам не заметив этого. Пять дней он пролежал в пурпурном салоне, а очнувшись в штольне, не мог шевельнуться от холода. Он сейчас же снова закрыл глаза, чтобы умереть во сне. Но тут наступила оттепель, разморозила его и спасла.
Один раз навалило столько снегу, что у него не хватило сил прорыть его, чтобы докопаться до лишайников. И он питался замерзшими летучими мышами.
Как-то перед пещерой он обнаружил и съел мертвого ворона. Это были единственные события, воспринятые им за эти семь лет из внешнего мира. В остальном он жил только в своей крепости, только в самодержавном царстве своей души. И он оставался бы там до смерти (ведь он ни в чем не испытывал недостатка), если бы не случилась катастрофа, которая прогнала его из горы и выплюнула во внешний мир.
Эта катастрофа была не землетрясение, не лесной пожар, не горная лавина и не обвал штольни. Она вообще была не внешней катастрофой, но внутренней, а потому особенно мучительной, так как она блокировала предпочитаемый Гренуем путь к бегству. Она произошла во сне. Точнее сказать, в мечтах, во сне, в сердце, в его воображении.
Он возлежал на канапе в пурпурном салоне и спал. Вокруг него стояли пустые бутылки. Он ужасно много выпил, под конец целые две бутылки аромата рыжеволосой девушки. Вероятно, это было слишком, потому что в его сон, хотя и глубокий, как смерть, на этот раз проникла рябь каких-то призрачных сновидений. В этой ряби были явно различимы обрывки некого запаха. Сначала они только тонкими волокнами проплывали мимо носа Гренуя, потом становились плотнее, превращались в облако. И ему начинало казаться, что он стоит посреди гнилого болота, а из топи поднимается туман. Туман медленно поднимался все выше, вскоре он полностью окутал Гренуя, пропитал его насквозь, и среди туманного смрада больше не оставалось ни капли свежего воздуха. Если он не хотел задохнуться, ему пришлось бы вдохнуть этот туман. А туман этот был, как сказано, запахом. И Гренуй знал также, чей это был запах. Этот туман был его собственным запахом — вот чем был этот туман.
А ужасным было то, что Гренуй, хотя и знал, что это его запах, не мог его вынести. Полностью утопая в самом себе, он ни за что на свете не мог себя обонять!
Осознав это, он закричал так страшно, словно его сжигали живьем. Крик разбил стены пурпурного салона, разрушил стены замка, вырвавшись из сердца, он пролетел над рвами, и болотами, и пустынями, пронесся над ночным ландшафтом его души, как огненная буря, он выплеснулся из его глотки и стремительно ринулся по изгибам штольни наружу, в мир, растекаясь по плоскогорью Сен-Флур, — казалось, кричала сама гора. Проснувшись, он стал отбиваться, словно стараясь прогнать невыносимый смрад, который грозил задушить его. Он был до смерти перепуган, трясся всем телом просто от смертельного страха. Если бы его крик не разорвал этого смрада, он захлебнулся бы самим собой — жуткая смерть! Вспоминая об этом, он содрогался. И пока он сидел, все еще сотрясаясь от ужаса и пытаясь привести в порядок свои перепуганные, сумбурные мысли, он твердо понял одно: он изменит свою жизнь хотя бы для того, чтобы не увидать во второй раз такой чудовищный сон. Второй раз ему этого не перенести.
Он набросил на плечи попону и вылез наружу. Там как раз было утро, позднее утро конца февраля. Солнце светило. Земля пахла влажным камнем, мхом и водой. Ветер уже доносил слабый аромат анемонов. Он присел на землю у входа в пещеру, согреваясь на солнце и вдыхая свежий воздух. Его все еще знобило при воспоминании о смраде, от которого он бежал, и знобило от блаженного тепла, разливавшегося по спине. Все-таки хорошо, что этот внешний мир еще существовал, хотя бы как цель побега. Было бы невообразимо жутко не обнаружить при выходе из туннеля никакого мира! Ни света, ни запаха — только этот ужасный смрад, внутри, снаружи, везде…
Шок постепенно проходил. Тиски страха постепенно разжались, и Гренуй почувствовал себя уверенней. К полудню он снова обрел свое хладнокровие. Поднеся тыльной стороной к носу указательный и средний пальцы левой руки, он дышал сквозь пальцы, вдыхая влажный, приправленный анемонами аромат весеннего воздуха. Пальцы ничуть не пахли. Он повернул ладонь и обнюхал внутреннюю сторону. Он почувствовал тепло руки, но ничего не учуял. Тогда он завернул обтрепанный рукав рубашки и уткнулся носом в сгиб локтя. Он знал, что это — то место, где все люди пахнут сами собой. Однако он не учуял ничего. Не учуял ничего под мышками, ничего на ногах, ничего на половом органе, к которому пригнулся насколько смог. Это было чудно! Он, Гренуй, способный за несколько миль обнаружить по запаху другого человека, не мог учуять свой собственный половой орган на расстоянии ладони! Несмотря на это, он не поддался панике, но, холодно поразмыслив, сказал себе следующее: «Дело не в том, что я не пахну, ведь пахнет все. Дело, наверное, в том, что я не слышу, как я пахну, потому что с самого рождения изо дня в день нюхал себя, и поэтому мой нос не воспринимает моего собственного запаха. Если бы я мог отделить от себя свой запах или хотя бы его часть, немного отвыкнуть и через некоторое время вернуться к нем, то очень даже смог бы услышать свой запах, а значит — себя».
Он снял с себя попону и одежду или то, что еще осталось от его одежды, снял эти отрепья, эти лохмотья. Он не снимал их с тела семь лет. Ни должны были насквозь пропитаться его запахом. Он побросал их в кучу перед пещерой и удалился. И вот, впервые за семь лет, он снова поднялся на вершину горы. Там он встал на то же место, где стоял тогда, в день своего прибытия, повернулся носом к западу и позволил ветру обвевать свое обнаженное тело. Его цель была настолько проветриться, настолько накачаться западным ветром — то есть запахом моря и влажных лугов, — чтобы этот ветер пересилил запах его собственного тела, чтобы возникла ловушка для запаха между ним, Гренуем, и его одеждой, и тогда он смог бы ясно расслышать, как она пахнет. И чтобы к нему в нос попало как можно меньше собственного запаха, он наклонился вперед, изо всех сил вытянул шею против ветра, а руки — назад. Он выглядел как пловец перед прыжком в воду.
В этом чрезвычайно смешном положении он пребывал несколько часов подряд, так что его отвыкшая от света, белая, как у червя, кожа стала красноватой, как у лангусты, хотя солнце грело еще слабо. Под вечер он снова спустился к пещере. Он уже издали увидел кучу своей одежды. За несколько метров он зажал нос и разжал его снова лишь тогда, когда приблизил его вплотную к одежде. Он хотел снять пробу, как научился у Бальдини: втянул в себя воздух, а потом толчками стал выпускать его из себя. Чтобы поймать запах, он обеими руками образовал некий колокол над одеждой, в который, как язык, всунул свой нос. Он сделал все возможное, чтобы извлечь из одежды свой собственный запах. Но этого запаха в ней не было. В ней была тысяча других запахов. Запахи камня, песка, мха, смолы, вороньей крови — даже запах колбасы, которую он много лет назад покупал недалеко от Сюлли, все еще были ясно слышны. Одежда была обонятельным дневником последних семи-восьми лет. И только его собственного запаха, запаха того, кто носил ее, не снимая, все это время, у одежды не было.
И тут он все же немного испугался. Солнце зашло. Он стоял голый у входа в штольню, где в темном конце прожил в темноте семь лет. Дул холодный ветер, и он замерз, но не замечал, что замерз, потому что в нем был встречный холод, а именно страх. Это был не тот страх, который он испытал во сне, омерзительный страх задохнуться от самого себя, который надо было стряхнуть любой ценой и от которого можно было убежать. То, что он испытывал теперь, был страх не узнать ничего о самом себе. Он был противоположен тому страху. От него нельзя было убежать, нужно было идти ему навстречу. Нужно было — даже если это открытие станет ужасным — узнать наверняка, есть у него запах или нет. И узнать теперь же. Сейчас.
Он вернулся в штольню. Уже через несколько метров его охватила полная темнота, но он ориентировался, как при самом ярком свете. Много тысяч раз он проходил этот путь, знал каждый шаг и каждый поворот, чуял каждый сталактит, каждый крошечный выступ. Найти дорогу было нетрудно. Трудно было бороться с воспоминанием о клаустрофобическом сновидении, которое, подобно приливу, накатывало на него все более высокими волнами. Но он не отступал. То есть страхом не знать он боролся со страхом узнать и одержал победу, потому что знал, что выбора у него не было. Когда он дошел до конца штольни, где возвышалась груда щебня, оба страха оставили его. Он почувствовал, что спокоен, что голова у него ясная, а нос — отточен, как скальпель. Он присел на корточки, закрыл глаза руками и принюхался. В этом месте, в этой удаленной от мира каменной могиле, он пролежал семь лет. Если уж где-нибудь на свете должен быть его запах, то здесь. Он дышал медленно. Он проверял тщательно. Он просидел на корточках четверть часа. У него была безошибочная память, и он точно помнил, как пахло на этом месте семь лет назад: камнем и влажной солоноватой прохладой, и эта чистота означала, что ни одно живое существо никогда сюда не ступало… Точно так же здесь пахло и теперь.
Он просидел еще некоторое время, совсем спокойно, только тихо качая головой. Потом повернулся и пошел к выходу, сперва согнувшись, а когда позволили высота штольни, выпрямившись, — на волю.
Выйдя из штольни, он надел свои лохмотья (башмаки его сгнили еще много лет назад), взвалил на плечи попону и в ту же ночь, покинув Плон-дю-Канталь, ушел на юг.
Он выглядел чудовищно. Волосы отросли по колено, жидкая борода — до пупа. Ногти стали похожу на птичьи когти, а на руках и на ногах, там, где тело не прикрывали лохмотья, клочьями облезла кожа.
Первые встреченные им люди — крестьяне, работавшие на поле недалеко от города Пьерфор, — при виде его с криками бросились прочь. В самом городе он произвел сенсацию. Дюди сбегались сотнями, чтобы поглазеть на него. Некоторые принимали его за беглого галерника. Другие говорили, что он не настоящий человек, а помесь из человека и медведя, какое-то лесное чудище. Один бывший моряк утверждал, что он похож на дикаря-индейца из Кайенны, которая находится по ту сторону океана. Его привели к мэру. Там он, к изумлению собравшихся предъявил свою грамоту, раскрыл рот и в довольно сбивчивых и неуклюжих выражениях — ведь это были первые слова, произнесенные им после семилетнего перерыва, — но вполне понятно рассказал, что он странствующий подмастерье, что на него напали разбойники, утащили в пещеру и держали там в плену семь лет. За это время он не видел ни солнечного света, ни людей, кормился из корзины, которую спускала в темноту невидимая рука, и, в конце концов, был освобожден с помощью лестницы, так ничего и не узнав о своих похитителях и спасителях. Эту историю он выдумал потому, что она казалась ему убедительней, чем правда, она и была убедительней, поскольку такие разбойничьи нападения то и дело случались в горах Оверни, Лангедока или в Севеннах. Во всяком случае мэр доверчиво занес это происшествие в протокол и доложил о нем маркизу де ла Тайад-Эспинассу, ленному владетелю города и члену парламента в Тулузе.
Этот маркиз уже в сорок лет потерял интерес к придворной жизни, покинул Версаль, удалился в свои владения и посвятил себя наукам. Его перу принадлежал значительный труд о динамической национальной экономике, в коем он предлагал отменить все налоги на землевладение и сельскохозяйственные продукты, а также ввести обратно пропорциональный подоходный налог, который сильнее всего ударял бы по бедным и тем самым вынудил бы их более энергично развивать свою экономическую активность. Вдохновленный успехом своей брошюры, он сочинил трактат о воспитании мальчиков и девочек в возрасте от пяти до десяти лет, затем увлекся экспериментальным сельским хозяйством и попытался путем переноса бычьего семени на различные сорта трав вывести животно-растительных продукт скрещивания для получения молока, что-то вроде дойного цветка. Поначалу он достиг некоторых успехов, позволивших ему изготовлять из травяного молока сыр, который Академия наук в Лионе определила как «близкий по вкусу к козьему, хотя несколько более горький». Однако ему пришлось приостановить опыты ввиду огромных расходов на бычье семя, которое гектолитрами разбрызгивалось по полям. Тем не менее занятия аграрно-биологическими проблемами пробудили у него интерес не только к так называемой почве, но и к земле вообще, и ее отношению к биосфере.
Едва успев закончить опыты по выведению молочно-дойного цветка, он с несокрушимым рвением принялся за большое сочинение о зависимостях между близостью к земле и витальностью. Его тезис гласил, что жизнь может развиваться только на определенном удалении от земли, поскольку сама земля постоянно испускает некий газ разложения, так называемый fluidum letale, каковой подавляет витальные силы и рано или поздно полностью их парализует. Поэтому все живые существа стремятся путем роста удалиться от земли, то есть как бы растут от нее прочь, а не врастают в нее; по той же причине они направляют вверх самые ценные свои части: пшеница — колос, цветок — свой бутон, человек — голову; и потому же, когда старость согнет их и снова склонит к земле, они неизбежно попадают под влияние летального газа, в который благодаря процессу разложения в конце концов сами и превращаются после своей смерти.
Услышав о том, что в Пьерфоре объявился индивидуум, проведший семь лет в пещере, где его полностью окружал элемент разложения — земля, маркиз де ла Тайад-Эспинасс пришел в восторг, и приказал немедленно доставить Гренуя к себе в лабораторию, и там подверг тщательному обследованию. Он нашел, что теория витальности подтверждается самым наглядным образом. Fluidum letale настолько повлиял на Гренуя, что его двадцатипятилетнее тело обнаружило признаки старческого разложения. Единственно то обстоятельство — так объяснял Тайад-Эспинасс, — что Гренуй во время своего нахождения в плену питался удаленными от земли растениями предположительно хлебом и фруктами, предотвратило его смерть. Теперь, считал маркиз, можно было восстановить прежнее состояние здоровья Гренуя лишь путем радикального удаления флюида с помощью изобретенного им, Тайад-Эспинассом, аппарата для вентиляции витального воздуха. Такой аппарат стоит в чулане его городского замка в Монпелье, и если Греную угодно предоставить себя в распоряжение маркиза в качестве демонстрационного объекта, то маркиз не только избавит его от безнадежного отравления земляным газом, но и наградит изрядной суммой денег…
Два часа спустя они сидели в карете. Хотя дороги в то время были скверные, шестьдесят четыре мили до Монпелье они преодолели всего за два дня, ибо маркиз, несмотря на преклонный возраст, не упускал случая собственноручно подхлестнуть кучера и лошадей, а при многочисленных поломках дышла и рессор лично участвовал в их починке, — в таком восторге он был от своего Найденыша, так жаждал как можно скорее представить его образованной публике. Зато Греную ни разу не было позволено сойти с козел кареты. Он должен был восседать рядом с кучером в своих лохмотьях, завернувшись с головой в попону, насквозь пропитанную влажной землей и глиной. Кормили его во время путешествия сырыми корнеплодами. Маркиз надеялся таким образом еще некоторое время законсервировать в идеальном состоянии отравление земляным флюидом.
По приезде в Монпелье он приказал немедленно поместить Гренуя в подвал своего дворца и разослал приглашения всем членам Медицинского факультета, Ботанического общества, Сельскохозяйственной школы, Химико-Физического объединения, Масонской ложи и прочих научных обществ, коих в городе было не менее дюжины.
И несколько дней спустя — ровно через неделю после того, как он покинул убежище в горах, — Гренуй оказался на помосте в актовом зале университета Монпелье перед многочисленной публикой, которой он был представлен как сенсация года.
В своем докладе Тайад-Эспинасс охарактеризовал его как живое доказательство правильности теории летального земляного флюида. Методически срывая с Гренуя лохмотья, маркиз пояснял, какой ужасающий эффект произвело воздействие гнилостного газа на тело демонстрируемого субъекта: обратите внимание на язвы и шрамы от газового поражения; а вот тут, на груди, огромная ярко-красная газовая карцинома; вся кожа растрескалась; налицо также явное флюидальное искривление скелета в виде горба и сросшихся пальцев ноги. Внутренние органы: селезенка, печень, легкие, желчный пузырь и пищеварительный тракт — тяжело заражены, о чем убедительно свидетельствует анализ пробы стула; проба собрана в тазике, стоящем на помосте рядом с демонстрируемым субъектом, и доступна для обозрения любому желающему. Отсюда следует вывод, что паралич витальных сил, причиной которого является семилетнее отравление fluidum letale Taillade уже настолько прогрессировал, что субъект — чей внешний вид, впрочем, уже обнаруживает заметные признаки вырождения — должен быть определен как существо, обращенное скорее к смерти, чем к жизни. Тем не менее докладчик попытается посредством вентиляционной терапии в сочетании с витальной диетой в течение восьми дней добиться очевидных признаков полного выздоровления. Присутствующих приглашают собраться здесь через неделю, дабы убедиться в успехе данного прогноза и получить бесспорное доказательство правильности теории земляного флюида.
Доклад имел огромный успех. Ученая публика наградила докладчика бурными аплодисментами, а затем продефилировала мимо помоста, на котором стоял Гренуй. Его страшная запущенность, заскорузлые шрамы и следы переломов производили столь ужасающее впечатление, что все сочли его полусгнившим заживо и обреченным, хотя он чувствовал себя вполне здоровым и сильным. Некоторые из ученых господ со знанием дела выстукивали его, измеряли, заглядывали ему в ром, оттягивали веки. Другие заговаривали с ним, интересуясь жизнью в пещере и теперешним самочувствием. Но он, строго придерживаясь полученной от маркиза инструкции, отвечал на вопросы только сдавленным хрипом и при этом обеими руками беспомощно указывал на горло, давая понять, что fluidum letale Taillade уже глубоко поразил его гортань.
Когда демонстрация закончилась, Тайад-Эспинасс снова упаковал его и отправил домой в кладовую своего дворца. Там он в присутствии нескольких избранных докторов медицинского факультета поместил его в аппарат для вентиляции витальным воздухом — то есть в чулан из тесно пригнанных друг к другу сосновых досок. Через высоченную всасывающую трубу на крыше чулан проветривался очищенным от летального газа воздухом, а отработанный воздух удалялся через кожаный вентиль в полу. Все это сооружение приводилось в действие командой слуг, которые денно и нощно заботились о том, чтобы встроенные в трубу вентиляторы находились в непрерывном движении. Таким образом Гренуй постоянно был окружен очищающим воздушным потоком, а через вырезанную в стену двустворчатую дверцу для пропускания воздуха ему каждый час подавали диетические блюда из удаленных от земли продуктов: голубиный бульон, паштет из жаворонков, рагу из диких уток, варенье из растущих на деревьях фруктов, хлеб из специальных высоких сортов пшеницы, пиренейское вино, молоко горной серны и крем из взбитых яиц кур, содержавшихся на чердаке дворца.
Пять дней продолжался этот лечебный курс дезинфекции и ревитализации. После чего маркиз приказал остановить вентиляторы и перевел Гренуя в ванную комнату, где его несколько часов отмачивали в ваннах с теплой дождевой водой и наконец вымыли с головы до ног мылом с примесью орехового масла, доставленного из города Потоси в Андах. Ему обстригли ногти на руках и ногах, тонким порошком из доломитовой извести вычистили зубы, его побрили, постригли и причесали, а волосы завили и напудрили. Пригласили портного, сапожника, и Гренуй получил сшитую по мерке сорочку с белым жабо и белым рюшем на манжетах, шелковые чулки, камзол, панталоны, и голубой бархатный жилет и красивые туфли с пряжками из черной кожи, из коих правая искусно маскировала его изувеченную ногу. Маркиз собственноручно припудрил белым тальком рябое лицо Гренуя, тронул кармином губы и щеки и придал бровям с помощью мягкого карандаша из угля жженой липы поистине благородный изгиб. Затем он опрыскал его своими личными духами с простоватым запахом фиалок, отступил на несколько шагов и долго не мог найти слов, чтобы выразить свое восхищение.
— Сударь, — начал он наконец, — я в восторге от самого себя. Я потрясен своею гениальностью. Разумеется, я никогда не сомневался в правильности моей флюидальной теории; никоим образом; но то обстоятельство, что она находит столь блестящее подтверждение в практической терапии, потрясает меня. Вы были животным, а я сделал из вас человека. Это прямо-таки божественное деяние. Позвольте же мне умилиться! — Подойдите вон к тому зеркалу и взгляните на себя! Вы впервые в жизни узнаете, что вы человек; не то чтобы особенный, или исключительный, или чем-то выдающийся, но все же вполне нормальный человек. Да подойдите же к зеркалу, сударь! Взгляните на себя и изумитесь чуду, которое я с вами совершил!
Впервые в жизни Греную сказали «сударь». Он подошел к зеркалу и всмотрелся в него. До сих пор он еще никогда не смотрелся в зеркало. Он увидел господина в изящном голубом одеянии, в белой сорочке и шелковых чулках и совершенно инстинктивно согнулся в три погибели, как всегда сгибался перед такими нарядными господами. Но нарядный господин тоже согнулся, а когда Гренуй снова выпрямился, нарядный господин сделал то же самое, и потом оба застыли, в упор разглядывая друг друга.
Больше всего Гренуя поразил тот факт, что он выглядел так неправдоподобно нормально. Маркиз был прав: в нем не было ничего особенного — не хорош собой, но и не слишком уродлив: низковат ростом, немного кособок, лицо невыразительное, короче, он выглядел как тысячи других людей. Если он теперь пойдет по улице, ни один человек не обернется ему вслед. Он и сам бы не обратил внимания на такого, каким он стал теперь, попадись он ему по дороге. Разве что в том случае, если бы учуял, что этот встречный ничем кроме фиалок не пахнет, как господин в зеркале и как он сам, стоящий перед зеркалом.
А всего десять дней назад крестьяне с криком разбегались при виде его. Тогда он чувствовал себя не иначе, чем теперь, а теперь, закрывая глаза, он чувствовал себя ничуть не иначе, чем тогда. Он втянул воздух, который окружал его тело, и услышал запах плохих духов, и бархата, и новой кожи своих туфель: он обонял шелк, пудру, растертую помаду, слабый аромат мыла из Потоси. И вдруг он понял, что не голубиный бульон, не трюк с вентиляцией сделали из него нормального человека, а единственно эти модные тряпки, прическа и небольшие косметические ухищрения.
Заморгав, он открыл глаза и увидел, что господин в зеркале подмигнул ему и тень улыбки коснулась его подкрашенных кармином губ, словно он хотел дать ему знак, что находит его не слишком противным. И Гренуй тоже нашел, что господин в зеркале, эта одетая как человек, замаскированная, не имеющая запаха фигура тоже вполне ему симпатична; по крайней мере ему показалось, что, если только довести маску до совершенства, она могла бы оказать такое воздействие на внешний мир, на которое он Гренуй никогда бы не осмелился. Он кивнул фигуре и увидел, что, отвечая ему кивком, она украдкой раздувает ноздри…
На следующий день — маркиз как раз обучал его необходимейшим позам, жестам и танцевальным па — Гренуй разыграл припадок головокружения и якобы совершенно обессилев в приступе удушья, повалился на диван.
Маркиз был вне себя. Он наорал на слуг, требуя немедленно принести опахала и переносные вентиляторы, и едва слуги кинулись исполнять приказание, как маркиз, опустившись на колени рядом с Гренуем начал обмахивать его своим носовым платком, благоухавшим фиалками, и заклинать, прямо-таки молить все-таки снова подняться, все-таки не испускать дух сейчас, но если возможно, потерпеть до послезавтра, иначе будущее летальной флюидальной теории окажется в серьезной опасности.
Гренуй корчился и извивался, кашлял, кряхтел, обеими руками отмахивался от платка, и, наконец, весьма драматически свалился с дивана, и забился в самый удаленный угол комнаты.
— Не эти духи! — воскликнул он как бы лишаясь последних сил. — Не эти духи! Они убьют меня!
И только когда Тайад-Эспинасс выбросил в окно не только платок, но и камзол, точно так же пахнувший фиалками, Гренуй дал своему приступу ослабнуть и более спокойным голосом рассказал, что он как парфюмер обладает свойственным людям его профессии чувствительным обонянием и всегда, но особенно во время выздоровления, весьма остро реагирует на некоторые ароматы. То обстоятельство, что именно аромат фиалки, в общем-то приятного цветка, так ему невыносим, он может объяснить тем, что духи маркиза содержат высокий процент фиалкового корня, а тот вследствие своего подземного происхождения оказывает вредное воздействие на такую подверженную летальному флюиду особу, как он, Гренуй. Уже вчера при первом опрыскивании духами он почувствовал себя совершенно одурманенным, а сегодня, услышав запах корня во второй раз, он почувствовал себя так, словно его столкнули назад, в ужасную душную земляную яму, где он пребывал семь лет. Наверное, его природа возмутилась против насилия, он не умеет этого выразить как-то иначе, ибо после того, как искусство маркиза подарило ему жизнь в очищенном от флюида воздухе он лучше умрет на месте, чем еще раз поддастся воздействию ненавистного флюида. Еще и сейчас внутри у него все сжимается при одном воспоминании о духах из корня. Однако он совершенно уверен, что силы мгновенно вернутся к нему, если маркиз для полного удаления запаха фиалки позволит ему изготовить собственные духи. Ему представляется очень легкий воздушный аромат, состоящий из удаленных от земли ингредиентов — миндальной и апельсиновой воды, эвкалипта, масла сосновых игл и кипарисового масла. Всего несколько брызг на платье, всего несколько капель на шее и щеках — и он навсегда будет застрахован от повторения мучительного припадка, только что накатившего на него…
То, что мы для удобочитаемости передали косвенной речью, было на самом деле получасовым косноязычным словоизвержением, которое прерывалось множеством хрипов, всхлипов и приступов удушья, сопровождалось дрожью взмахами рук и красноречивым закатыванием глаз. Марких был глубоко потрясен. Еще больше, чем симптомы страдания, его убедила изощренная аргументация подопечного. Конечно же, это фиалковые духи! Отвратительно близкий к земле, даже подземный продукт! Вероятно, он сам, употреблявший его много лет, уже заражен им. Он не имел понятия, что этот аромат с каждым днем приближал его к смерти. И подагра, и онемение затылка, и вялость члена, и геморрой, и шум в ушах, и гнилой зуб — несомненно результаты отравления зловонным фиалковым корнем. А этот глупый человечек, это убожество, забившееся в угол комнаты, открывает ему истину. Маркиз растрогался. Ему захотелось подойти, поднять его, прижать к своему просветленному сердцу. Но он боялся, что еще пахнет фиалками, а потому еще раз кликнул слуг и приказал убрать из дома все фиалковые духи, проветрить дворец, продезинфицировать свою одежду в аппарате витального воздуха и в носилках доставить Гренуя к лучшему парфюмеру города. Именно этого добивался Гренуй, разыгрывая свой припадок.
Производство ароматов имело в Монпелье старую традицию, и хотя за последнее время по сравнению с городом-конкурентом Грасом оно пришло в некоторый упадок, все же в городе жили несколько хороших мастеров — парфюмеров и перчаточников. Самый почтенный среди них некто Рунель, приняв в расчет деловые связи с семейством маркиза де ла Тайад-Эспинасса, которому он поставлял мыло, притирания и благовония, согласился на чрезвычайный шаг — уступить на час свое ателье доставленному в носилках странному парижскому подмастерью. Этот последний не выслушал никаких объяснений, не пожелал узнать, где что стоит, сказал, что сам разберется и сообразит, что к чему; и заперся в мастерской, и провел там целый час, а тем временем Рунель с управляющим маркиза отправился в кабачок, где, пропустив несколько стаканов вина, был вынужден узнать, почему его фиалковая вода более не имеет права на существование.
Мастерская и лавка Рунеля были оборудованы далеко не так роскошно, как в свое время магазин ароматических товаров Бальдини в Париже. Несколько сортов цветочных масел, воды и пряностей не давали простора для фантазии обычному парфюмеру. Однако Гренуй, едва втянув воздух, сразу же понял, что имеющихся материалов для его целей вполне достаточно. Он не собирался создавать никакого великого аромата; не хотел он смешивать, как в свое время у Бальдини, и престижных духов, которые выделялись бы из моря посредственности и сводили бы людей с ума. И даже простой запах цветов апельсинового дерева, обещанный маркизу, не был его целью. Расхожие эссенции эвкалипта и кипарисового листа должны были только замаскировать настоящий аромат, который он решил изготовить, — а этим ароматом был человеческий запах. Он хотел присвоить себе, пусть даже сперва в качестве плохого суррогата, запах человека, которым сам он не обладал. Конечно, запаха человека вообще не бывает, так же как не бывает человеческого лица вообще. Каждый человек пахнет по-своему, никто не понимал этого лучше, чем Гренуй, который знал тысячи индивидуальных запахов и с рождения различал людей на нюх. И все же, с точки зрения парфюмерии, была некая основная тема человеческого запаха, впрочем довольно простая: потливо-жирная, сырно-кисловатая, в общем достаточно противная основная тема, свойственная в равной степени всем людям, а уж над ней в более тонкой градации колышутся облачка индивидуальной ауры.
Однако эта аура, чрезвычайно сложный, неповторимый шифр личного запаха, для большинства людей все равно неуловима. Большинство людей его под платьем или под модными искусственными запахами. Им хорошо знаком лишь тот — основной — запах, то — первичное и примитивное — человеческое испарение; только в нем они и живут и чувствуют себя в безопасности, и всякий, кто источает из себя этот противный всеобщий смрад, воспринимается ими уже как им подобный.
В этот день Гренуй сотворил странные духи. Более странных до сих пор в мире еще не бывало. Он присвоил себе не просто запах, а запах человека, который пахнет. Услышав эти духи в темном помещении, любой подумал бы, что там стоит второй человек. А если бы ими надушился человек, который сам пахнет как человек, то он по запаху показался бы нам двумя людьми или, еще хуже, чудовищным двойным существом, как образ, который нельзя больше однозначно фиксировать, потому что его очертания нечетки и расплываются, как рисунок на дне озера, искаженный рябью на воде.
Для имитации этого человеческого запаха — пусть недостаточной, по его мнению, но вполне достаточнй, чтобы обмануть других — Гренуй подобрал самые незаметные ингредиенты в мастерской Рунеля.
Горстку кошачьего дерьма, еще довольно свежего, он нашел за порогом ведущей во двор двери. Он взял его пол-ложечки и положил в смеситель с несколькими каплями уксуса и толченой соли. Под столом он обнаружил кусочек сыра величиной с ноготь большого пальца, явно оставшийся от какой-то трапезы Рунеля. Сыр был уже достаточно старый, начал разлагаться и источал пронзительно-острый запах. С крышки бочонка с сардинами, стоявшего в задней части лавки, он соскреб нечто, пахнувшее рыбными потрохами, перемешал это с тухлым яйцом и касторкой, нашатырем, мускатом, жженым рогом и пригоревшей свиной шкваркой. К этому он добавил довольно большое количество цибетина, разбавил эти ужасные приправы спиртом, дал настояться и профильтровал во вторую бутылку. Запах смеси был чудовищен. Она воняла клоакой, разложением, гнилью, а когда взмах веера примешивал к этому испарению чистый воздух, возникало впечатление, что вы стоите в жаркий летний день в Париже на пересечении улиц О-Фер и Ленжери, где сливаются запахи рыбных рядов, Кладбища невинных и переполненных домов.
На эту жуткую основу, которая сама по себе издавала скорее трупный, чем человеческий запах, Гренуй наложил всего один слой ароматов эфирных масел: перца, лаванды, терпентина, лимона, эвкалипта, а их он смягчил и одновременно скрыл букетом тонких цветочных масел герани, розы, апельсинового цвета и жасмина. После повторного разбавления спиртом и небольшим количеством уксуса отвратительный фундамент, на котором зиждилась вся смесь, стал совершенно неуловимым для обоняния. Свежие ингредиенты сделали незаметным латентное зловоние, аромат цветов украсил омерзительную суть, даже почти придал ей интерес, и, странным образом, нельзя было больше уловить запаха гнили и разложения, он совершенно не ощущался. Напротив, казалось, что эти духи источают энергичный, окрыляющий аромат жизни.
Гренуй разлил их в два флакона, которые плотно закрыл пробками, и спрятал в своих карманах. Затем он тщательно вымыл водой смесители, ступы, воронки и ложки, протер их маслом горького миндаля, чтобы удалить все следы запахов, и взял второй смеситель. В нем он быстро скомпоновал другие духи, нечто вроде копии первых, которые тоже состояли из эфирных масел и из цветочных элементов, но основа не содержала колдовского варева, а включала вполне обычный мускус, амбру, немного цибетина и кипарисового масла. В общем-то они пахли совершенно иначе, чем первые, — не так загадочно, более безупречно, менее агрессивно, — ибо им не хватало элементов, имитирующих человеческий запах. Но если ими душился обычный человек и они смешивались с его собственным запахом, то их нельзя было совершенно отличить от тех, которые Гренуй изготовил исключительно для себя.
Наполнив флакон вторыми духами, он разделся донага и опрыскал свое платье теми, первыми. Потом надушился под мышками, между пальцами на ногах, в паху и за ушами; надушил шею и волосы, оделся и покинул мастерскую.
Выйдя на улицу, он вдруг испугался, так как знал, что впервые в своей жизни распространяет человеческий запах. Сам же он считал, что воняет, отвратительно воняет. И он не мог себе представить, что другие люди вовсе не воспринимают его запах как зловоние, и не решился зайти в пивную, где его ждали Рунель и мажордом маркиза. Ему казалось менее рискованным испробовать новую ауру в анонимной среде.
По самым узким и темным переулкам он прокрался к реке, где дубильщики и красильщики держали мастерские и где они занимались своим зловонным ремеслом. Встречая кого-нибудь или проходя мимо двери дома, где играли дети или сидели старухи, он
|
|