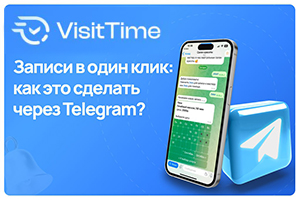Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Автор: Эльфика. Он приходит ко мне по вечерам, а еще чаще – глубокой ночью, когда я уже безумно хочу спать
|
|
ПАЛАЧ
Он приходит ко мне по вечерам, а еще чаще – глубокой ночью, когда я уже безумно хочу спать. Он хорошо знает, когда я меньше всего защищен и как легче меня уязвить. Вся моя душа в язвах и ранах – старых и свежих, многие из которых воспалены и гноятся. Они не успевают заживать, не дает он – мой личный Палач. А я, прикованный к серому тюремному камню ржавыми тяжелыми цепями, не могу ни сбежать, ни даже отодвинуться. Могу только собраться с силами и терпеть. И надеяться… Как это ни безумно, я все еще надеюсь.
Вот в который раз я слышу гулкие шаги по коридору, затем лязгает замок моей темницы, и возникает темный силуэт. Это он – Палач. За много лет я ни разу не видел его лица – он всегда в маске, а на теле – бесформенный балахон, и руки тоже в перчатках. Так что я даже не мог бы сказать, какой он комплекции или расы. Впрочем, какая разница, кто тебя мучает?
Я знаю только его голос – скучный такой, немного усталый, размеренный голос, сплошная рутина, как говорят в американских блокбастерах – «ничего личного». Я иногда думаю, что за столько-то лет и я, и вопросы, что он мне задает, надоели ему хуже горькой редьки. Ну сколько можно-то, одно по одному? А у него работа, ему, небось, за это зарплату начисляют… Мне – нет, у меня денег не прибавляется, только раны становятся все обширнее и глубже.
Он назубок знает все мои болевые точки и тупо бьет в одни и те же места. Я, разумеется, знаю их еще лучше, даже знаю, где отзовется болью каждый его вопрос. Знаю и заранее сжимаюсь в тоске от неизбежности этой боли. Вот он неспешно готовит свои страшные инструменты, всякие щипцы и клещи, раздувает жаровню, поправляет свою маску, и начинается допрос.
- Расскажи мне про свое детство.
Это удар под дых, у меня сразу перехватывает дыхание и возникает острая боль в животе.
- Детство… У меня не было детства. Был какой то вялотекущий кошмар, гонка преследования.
- Кто же тебя преследовал?
А вот это уже крючком за ребра…
- Все. Кроме отца, пожалуй. Он не преследовал, он вообще самоустранился. Отдал меня на заклание, безразлично наблюдал со стороны, как меня загоняют в угол.
- Он любил тебя?
- Нет, какое там «любил»… Ему было все равно. Он отмалчивался и прятался, постоянно куда-то испарялся, а все разговоры просто заминал еще в зародыше. Он не хотел ни в чем участвовать… А потом и вовсе свалил, бросил нас всех. Дезертировал, значит. Слабый и никчемный, как таракан, только и умел, что по щелям прятаться…
Пока я рассказываю все это, он закручивает на моей правой ноге «испанский сапог», боль адская, вынести ее невозможно, конечность немеет и отключается. Я переношу вес на левую ногу.
- Теперь расскажи про мать.
Про мать… Мне вовсе не хочется о ней говорить, но я не герой и не стоик, поэтому, не чинясь, начинаю бубнить:
- Мать мною почти не занималась, да и вообще никем не занималась, постоянно пребывала то в тоске, то в тревоге, бродила по дому, как зомби, и ей было на меня наплевать. Лучше было не попадаться ей на глаза, себе дороже. Стоило ей зацепиться за кого-то взглядом, и начиналось… У нее всегда была наготове хорошая порция дерьма, и это изливалось чаще всего на меня. Хотя и другим тоже доставалось…
- «Другим» – это кому? – уточнял Палач, методично переходя к левой моей ноге.
- Отцу, сестре. Мне. Всем. Ей было все равно, кто. Она все время словно была «не тут», делала что-нибудь по хозяйству, а думала будто о другом, и это ее очень напрягало. Она словно сама себя «заводила», и я чувствовал, что в воздухе начинает пахнуть грозой. Мы все чувствовали! Это пугало, это было опасно, это как в фильме «Чужой», когда из родного человека вылезает что-то непонятное и страшное, от этого хотелось сбежать, но бежать чаще всего было некуда. А потом она зацеплялась за какую-нибудь мелочь – и все, взрыв и апокалипсис… Спасения не было никому. От нее перло такой черной злобой, что от ужаса меня просто парализовывало… Она была как змея, кошмарная гремучая змея, быстрая и неотвратимая, как молния.
Мой голос прерывается. Вот и теперь я чувствую примерно то же самое. Заплечных дел мастер уже «обработал» и левую ногу, и теперь подо мной вообще нет опор. Я бы свалился кулем к его ногам, если бы меня не удерживали цепи. А так я прикован – и ничего, просто повис… Как в детстве, когда я не мог опереться ни на отца, ни на мать. Безвольное, истерзанное страхом тело маленького мальчика, полумертвого от горя и ужаса.
- Ну, теперь про сестру, — напоминает Палач.
Ладно, про сестру так про сестру. Сейчас у меня начнет жутко болеть голова – это Палач приладил обруч и стал его постепенно сжимать. Вот странно: череп сдавливает, а я чувствую, что его изнутри распирает ненависть. Вот-вот черепушка треснет, и мои бедные расплавленные от ярости мозги польются на грязный пол моей одиночной камеры.
- Сестра… Она была просто крыса, самая настоящая. Мерзкая крыса, которая воровала у матери деньги, вещи, билеты в театр и цирк (чтобы не идти с ней, так как мать заставляла), а вину сваливала на меня. Она была старше и хитрее, ей верили. А может, делали вид, что верят – так им было удобнее. Я не мог себя оправдать. Мне никогда не верили. Я всегда был плохой, всегда – козел отпущения.
- А любил ли тебя хоть кто-нибудь, малыш?
- Не знаю. Нет, не помню. Наверное, нет.
- Что больше всего запомнилось тебе из детства?
- Униженность. Изолированность. Одиночество. И еще мысль, что я такой плохой, что даже собственные родители меня отвергают. Сначала я хотел, чтобы меня любили, а потом уже просто умереть.
- А сейчас? Чего ты хочешь сейчас?
- Умереть, — устало говорю я. – Я не хочу больше страдать. Убей меня, Палач!
- Не могу, — отвечает он, и мне кажется, что в его голосе я слышу нотки сожаления. – Ты еще не ответил правильно ни на один вопрос. Придется продолжать. Держись, мой мальчик, — добавляет он, и я с удивлением понимаю, что он и правда мне сочувствует.
- На сегодня все, — объявляет Палач и начинает складывать инструменты. – До завтра. Думай, думай!
Ну вот, теперь и правда можно передохнуть. Все раны привычно ноют, Палач их опять разбередил. Но я привык, за столько-то лет. Мне 26, и сколько из них я провел в темнице, с полной изоляции, я и сам не знаю. Иногда кажется, что я тут с самого рождения. Я закрываю глаза. Вот сейчас перед ними начнут вновь и вновь прокручиваться сцены бесконечного фильма ужасов, моего «счастливого детства». Так бывает каждый раз. Но не сегодня. Я вдруг ощущаю особенное отчаяние. Я представляю себе, что и завтра, и послезавтра, и через год, и через сорок лет мне предстоит ежедневная встреча с Палачом, и во мне поднимается злость. Не отчаяние, как обычно, не безнадега, как очень часто, а именно злость. Я не верю, что рожден для страданий. Я вдруг понимаю, что ни один человек в мире рождается для страданий. Ни один, и я тоже! Да, во мне поднимается злость, но на этот раз я злюсь не на родителей, не на сестрицу, а на себя, бедного страдальца. Почему я сижу в этой проклятой темнице? Почему я ничего не могу для себя сделать? Да, я прикован, я весь опутан цепями, моя душа истерзана и искалечена, но до мыслей-то моих им добраться не удалось, и я могу решать, о чем мне думать, а о чем нет!
Так, чего я хочу? Чего я хочу на самом деле? Наверное, для начала хоть немного живого света… И я, крепко зажмурившись, мысленно рисую на одной из глухих стен камеры окно. Небольшое такое, чтобы не ослепнуть с непривычки. Когда контур окна готов, я как бы «выдавливаю» наружу кусок стены, и вот уже где-то там, под потолком, я вижу кусок голубого неба и край облака, и солнечный луч, который ложится на пол моего печального обиталища. Иллюзия столь сильна, что, кажется, я чувствую даже запах листьев оттуда, с воли.
Окрыленный успехом, я с новой силой начинаю строить картинку. Для начала я расширяю окно, делаю его более «домашним», и у меня получается. Теперь… Теперь я хочу, чтобы у меня появился помощник. Да, помощник. Некто, кто объяснил бы мне, почему я вынужден находиться здесь и день за днем терпеть эти муки. Но кто может это знать? Да, Палач. Уж он-то, я полагаю, в курсе. Итак, Палач.
Я представляю его силуэт на фоне окна, и вот уже он сидит на подоконнике, болтая ногой, такой же, как всегда, все в той же черной маске. Но инструментов при нем нет, ведь я вызвал его образ с другой целью – так, поболтать.
- Я хочу, чтобы ты мне кое-что рассказал, — откашлявшись, начинаю я.
- Спрашивай, — кивает мне Палач.
- Зв что меня сюда заточили?
- Неправильный вопрос. Не «за что», а «для чего», — поправляет он.
- Ну, для чего? – нетерпеливо спрашиваю я.
- Чтобы правильно ответить на мучающие тебя вопросы и обрести Силу. Ну и многое понять, разумеется.
- Силу? Вот в этих кандалах? – не верю я. – Пришпиленный к стене, как мотылек в гербарии?
- Пришпиленный? Так поправь это дело, кто мешает-то? – насмешливо советует он.
Во мне вновь вспыхивает злость. Эх, засветить бы ему между глаз, да вот оковы мешают, рассыпься они прахом…
Видимо, я так этого хочу, что оковы буквально взрываются прямо на мне и осыпаются к ногам горстками ржавой пыли. Меня больше ничто не держит, и я от неожиданности падаю на колени, но тут же, цепляясь за стенку, поднимаюсь. Как ни странно, ноги держат. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», — всплывает цитата из какого-то классика.
- Ну вот, а говорил – «оковы», — одобрительно говорит Палач. – Колдун, однако!
Я передумываю давать ему в лоб меня сейчас другое интересует.
- Ладно, будем считать, Силу я обрел, — сообщаю я. – Теперь дальше: что я должен понять?
- А что тебе больше всего непонятно? – интересуется он.
- Родители. Я так и не понял, какого черта они меня рожали, если я им был на фиг не нужен.
- Ну так и спроси у них, — советует он.
И правда… Раз пошла такая пьянка, что мне стоит «нарисовать» родителей? И я пытаюсь вызвать к жизни светлый лик матери. Но у меня, хоть ты тресни, получается только змея. Та самая, гремучая, опасная до ужаса.
- Сссынок… — свистит она, извиваясь по направлению ко мне.
- Стой, где стоишь! – в панике кричу я, и она замирает.
- Ответь только на один вопрос: зачем ты меня рожала? По залету? Чтобы мужа удержать? Или потому что время пришло? Говори, только не надо врать!
- Ни то, ни то и ни то… Я просто хотела заполнить свою пустоту, — нехотя, словно через силу, отзывается змея. – Я думала, что смогу полюбить своего ребенка и что он будет любить меня, и мы оба спасемся. Но ничего не вышло… Слишком сильно было проклятие…
- Какое еще проклятие? – не понимаю я. И тут же пред моим внутренним взором начинают мелькать картинки. Какие-то люди в старинных одеждах… Вот вроде бы какие-то мужики с кольем и факелами, куда-то идут толпой, при этом жутко боятся, но полны решимости… Плачущие женщины, то ли молятся, то ли голосят над покойником… А вот старая страшная бабка с седыми космами варит в котле какое-то адское зелье, и мне кажется, что там, в булькающей воде мелькают… нет, не хочу видеть деталей, и так мерзко… Она же, перед ней на лавке новорожденный младенец, а в руках у нее нож, и черная свеча горит, а бабка бормочет какие-то заклинания, явно задумав что-то против младенца… Черная магия, что ли? Мне жутко, и совершенно не тянет вдаваться в подробности.
- Прости меня, сынок, я не смогла, — говорит моя мать. – Меня с ума сводили разные мысли, я их боялась и не хотела думать, а они разрывали мою бедную голову… Прости, видит бог, я старалась, но не смогла с этим совладать…
Я поворачиваюсь к ней и вижу, что это уже не змея извивается – совсем молодая женщина, почти девчонка, но лицо уже измученное, в глазах плещется ужас, словно она видит что-то невидимое, невыносимо страшное, и ее плющит и корежит… Мать. Моя мама. Я вдруг – впервые в жизни! – чувствую к ней такую щемящую жалость, что из моих глаз сами собой брызжут слезы.
- Я просто нуждался, чтобы ты меня любила, — говорю я, ощущая себя тем маленьким, всеми покинутым мальчиком.
- Возьми мою Силу, — просит она. – Ее совсем немного, но это все, что я могу передать тебе в наследство. Когда ты родишь своих детей, люби их, пожалуйста… Хотя бы попробуй!
Она протягивает мне руку, в ней – глиняная свистулька. Кажется, в детстве у меня была такая игрушка. Я беру и подношу ее ко рту, у нее простой незамысловатый звук. Я вижу, как мама слабо улыбается, машет мне рукой и исчезает.
- Прости и отца, — шепчет она на прощание.
И тут же передо мной возникает отец. Нет, он не слабый и не таракан, как я всегда думал, мужик как мужик.
- Я ничего не смог сделать, — виновато говорит он. – Судьба… Я вынужден был уйти. Я должен был дать вам с сестрой жизнь, и я ее дал. Все остальное – не в моей власти. Так уж вышло…
- Все нормально, батя, — хриплым голосом говорю я. – Родил – и ладно, дальше я не в претензии.
Он кивает и бросает мне что-то, завернутое в тряпицу. Разворачиваю – там перочинный ножичек с перламутровой ручкой, в детстве я о таком мечтал. У пацанов были, у меня – нет. Ладно, лучше поздно, чем никогда. Будем считать, мечты сбываются, жизнь налаживается…
А вот и крыса, сестрица моя ненаглядная…
- Я защищалась, как смогла, — сразу начинает показывать зубы она. – В нашей проклятой семейке каждый сам за себя, уж не обессудь. Вот я тебя и подставляла, я же девочка, мне еще хуже, чем тебе. И вообще, выживает сильнейший!
- Я выжил, — говорю ей я. – Как это ни удивительно…
- Ты сильный, — с завистью говорит она. – Я бы так не смогла, в темнице, да по пытками, а ты вот выдержал, прям герой…
- Ладно, ну тебя, — машу рукой я. – Крысой была, крысой и осталась… А я крыс не люблю.
- А думаешь, мне не хотелось, чтобы меня любили? – вдруг шмыгает носом она. – Да мне-то, девчонке, еще больше это было нужно! Только взять этой любви было негде! Я вообще не знаю, как мне жить, я ведь и не в курсе, как это – любить… Страшно мне, братишка…
- Всем нам тут страшно, — говорю я. – Ты это… не падай духом. Пробуй, авось научишься. Я бы и подсказал, да сам не умею.
- Ладно, я ж понимаю, — машет рукой молодая женщина, моя сестрица. – Ты уж не обижайся, что я на тебя все валила. Старалась быть хорошей, чтоб хоть алую толику любви получить.
- Все, проехали, — грубовато говорю я ей. – Живи!
- Буду, — мрачно соглашается она. – Иначе зачем столько жертв?
Да, о жертвах… Где там мой персональный Палач? Ага, сидит на подоконнике, смотрит бесплатное представление…
- Ну, а ты? – обращаюсь я к нему. – Ты, мой мучитель, откуда ты взялся?
- Из твоих обид, — говорит он. – Вообще-то я всего лишь маленький мальчик, каким ты был тогда, но ты кормил-кормил меня обидами, вот я и вырос в полноценного Палача.
- Ах, так? Но кто приказывает тебе мучить меня? Кто вообще меня заточил в это подземелье?
- Ты. Ты заточил и ты приказал. Здесь вообще все – ты, ведь это твой собственный внутренний мир.
- А ну, Гюльчетай, покажи личико! – требую я.
- Да пожалуйста, — пожимает плечами он и стягивает маску. Я невольно отшатываюсь: у Палача – мое лицо.
- Ты – это я? – довольно глупо спрашиваю я.
- Точно подметил. Я – это ты. В принципе, только от самого человека зависит, кем он для себя будет – Любящим Родителем или Вечным Палачом.
- Я не знал, как выглядят Любящие Родители, — медленно говорю я. – Но теперь я сильно повзрослел, многое испытал и кое-что понял. И уж точно не собираюсь впредь быть для себя Палачом. Кормить обидами больше не стану, имей в виду.
- Ладно, обойдусь. А кем ты собираешься быть? – живо интересуется разоблаченный Палач.
- Я намерен научиться любить. Для начала – хотя бы себя. Потом, возможно, и других. И даже родителей. Не могу сказать, чтобы уже сейчас их до конца простил, но, по крайней мере, я их понял, а прощение – это будет следующий шаг.
- Прощая родителей, ты прощаешь себя, — подтвердил Палач. – Ведь ты создан из двух наборов генов – от матери и от отца, и пришел в этот мир, чтобы взять родительское «плохое» и превратить его в свое «хорошее». Нет смысла проклинать их, этим ты отнимаешь Силу у себя. Лишаешь опоры!
Опора… Опора для ребенка – его родители, это понятно. А для взрослого? Наверное, он сам. Сейчас, как ни странно, я чувствую эту опору, крепко стою на ногах.
- Помнишь, я спрашивал, любил ли тебя кто-нибудь? – спрашивает Палач.
- Помню. Я ответил, что нет. Все, от кого я ждал любви, меня бросили, это факт.
- Ну, у каждого на свете есть хотя бы один человек, который всегда с тобой и никогда не бросит. Это ты сам. Научись любить себя – с течением времени сможешь и ближнего возлюбить. Это тоже факт!
- Придется тебе поверить на слово, — улыбнулся я. – Не буду мучиться сомнениями. Хватит, натерпелся. И не пора ли открыть дверь камеры? Полагаю, мое одиночное заключение завершилось. Надо выбираться, восстанавливаться, лечить свои душевные раны…
- Ладно, переквалифицируюсь в Айболиты, ты только свистни, — согласился Палач. – Только зачем тебе ключи, если ты можешь сотворить новые двери? Или еще чего покруче?
Действительно, чего это я все усложняю… Я поднапрягся, представил – и открыл глаза. Тюрьмы больше не было. Я оглянулся и успел ухватить глазом тающие образы – моя одиночная камера, мать, отец, сестрица… Они были далеко, и у меня не возникло желания как-то их приближать. Да и у них, полагаю, тоже. Такая уж у нас семья, где каждый несет такой тяжкий груз, что если держаться друг за друга, утонут все, а поодиночке еще можно попробовать выбраться…
- Удачи вам, родичи, — искренне пожелал я. – И мне тоже – удачи…
Вокруг меня простиралось поле, чуть поодаль вилась дорога, и я, вздохнув несколько раз полной грудью, решительно зашагал к ней, чтобы отправиться куда глаза глядят, обосноваться в каким-нибудь спокойном местечке и, может быть, узнать, наконец, что это такое – Любовь….
|
|