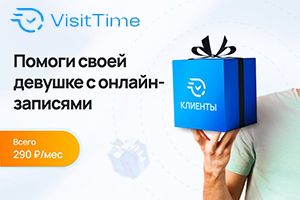Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Искусство как спасительный создатель альтруистически-героических установок
|
|
Стихи и легенды играли до появления письменности гораздо более жизнеспасающую роль, чем ныне. Само существование скальдов и бардов не давало убегать с поля боя. Воин, знающий, что он будет воспет или опозорен скальдом, сражается насмерть. Что значило это бесстрашие?
Когда в сагах описывался какой-нибудь конунг, перечислялось, сколько у него кораблей и воинов; однако в эту опись входило особо, сколько у него берсеркеров. Так много берсеркеры значили в бою. Так было тысячелетия. Тысячелетия рисунки, песни, саги вдохновляли воинов и охотников, особенно тех, кто надеялся занять место в них.
Воинов, объединенных, спаянных поэзией Библии, Эдды, песней о Нибелунгах, легендой о 42 самураях, трудно победить. «Их надо не только убить, но и повалить», — как говаривал о русских Наполеон. Следовательно, их родители не будут перебиты, женщины и дети не будут уведены в гарем или рабство. Так было многие тысячелетия. Но даже народ побежденный, однако сберегший свои легенды, соберется в целое, как разбрызганные капли ртути, сбережет и свои гены. Есть народы, само существование которых живо доказывает значение этих легенд, этого этического и эстетического единства; назовем три: баски, евреи и цыгане. Если у первых есть территориальное единство, то оба последних объединены лишь традицией, во многом эстетико-этической. Недаром евреев называют на Востоке «народом книги».
Но живопись, скульптура являлись не менее мощным создателем и стабилизатором этики, чем слово. Даже эмоционально тупого и невосприимчивого зрителя Рафаэлевская мадонна потрясает. Почему? Результат поверки алгеброй гармонии, в упрощенном и вульга-ризованном для конкретности виде: совершенно земная, прекрасная, крупная женщина, созданная для телесных радостей. Умна ли она? Это неважно. Она несет своего младенца, но не только несет, а отдает, отдает на страшные муки и смерть. Она это видит, знает, понимает, чувствует, но не столько прижимает к себе, сколько именно жертвует; младенец пухлый и красивый не небесной, а земной красотой, тоже видит и понимает, что его ждет. Но не боится. Оба — земные. Но плывут на облаке. Даже не замечается, что это плавание увесистой матери и младенца на облаке — лживо: они должны провалиться вниз. Но та ложь, что они на облаке, а не на земле, сразу поднимает их. Это не обычная мать, знающая, что ее сын когда-то умрет, это — чудо, и вместе с тем достоверное, земное чудо. И это понимают даже чуть туповатые ангелочки по углам. Нарочно не станем проверять, что об этой картине написали тысячи компетентных искусствоведов. Здесь важно то, что мог почувствовать именно заурядный зритель, продукт длительного отбора на эстетическую восприимчивость.
Идея самопожертвования божества ради людей в любой форме, хотя бы Прометея, принесшего огонь и пошедшего ради этого на вечные муки, пронизывает множество религий и легенд. Эмоциональное воздействие огромно, может быть и пожизненно. Оно становится школой, маяком, ориентиром. Оно показывает, каким надо быть в идеале, и если это неосуществимо, если бесчисленные события жизни сталкивают с пути, продиктованного рафаэлевской мадонной, то стимул к возврату на этот путь останется.
Добавим, что эта картина — концентрированнейшее выражение альтруистической высшей, незаземленной идеи христианства, готовности к добровольной жертве самым дорогим ради человечества. Подчеркиваем, идеи. Потому что практика, в частности, заключалась, например, и в уничтожении альбигойцев, в сожжении в Испании за 320 лет существования инквизиции 32 тыс. человек и отдаче на пытки и суд более трети миллиона людей, в истреблении 60 тыс. гугенотов во Франции во время Варфоломеевской ночи, уничтожении миллионов язычников в Латинской Америке, в порабощении негров. Протестантская практика не очень отставала от католической. Эти рекорды зверства над беззащитными были побиты только в XX в.
Почти каждый посетитель Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина легко вспомнит дворик эпохи Возрождения, где высятся копии микеланджеловского Давида спращой, конные статуи кондотьера Бартоломео Коллеоне Верроккио, Гаттамелаты из Нарни Донателло и рядом Артур Пендрагон, Дитрих (Теодорих) и гробница Фишера. Остановимся на Коллеоне Верроккио. Могучий конь и всадник, приподнявшийся в стременах, с необычайно волевым, бесстрашным и безжалостным лицом. Наивысшее воплощение гордости. Так сказать, под микроскопом придется искать в истории войны и сражения, которые вел этот кондотьер. Да и сражения-то были не слишком героическими или кровопролитными. Никто из наемников Италии того времени не хотел рисковать здоровьем или жизнью, а кондотьер — потерей части своего войска (кто стал бы наниматься к кондотьеру, не берегущему своих солдат?), и когда они столкнулись с французами, воевавшими «не на живот, а на смерть», то первые же бои кончились таким разгромом и потрясением, что возникло выражение furie francaise — французская ярость. Но бывает, что не искусство подражает жизни, а жизнь искусству. Сколько бесстрашия и героизма породил Коллеоне не живой, а именно бронзовый!
С эволюционной точки зрения, с позиций теории отбора совершенно безразлично, что может написать искусствовед и художник о Моне Лизе (Джоконде). То, что поняли или почувствовали эти сотни или тысячи ценителей, способных объяснить, как это достигнуто, совершенно не важно по сравнению с тем, что почувствовали миллионы: очень красивая женщина, полуулыбаясь, спрашивает, не опуская глаз, тебя лично, «персонально»: кто же ты? Этот доброжелательный экзамен и вместе с тем проницательный суд, требующий от зрителя внутренней исповеди, по своей глубине, по социальной значимости эквивалентен миллионам исповедей верующих в исповедальнях.
Но кто же эта вопрошательница? В ней одновременно вся многоплановость созерцательной грусти, радости, изумления — недаром Леонардо да Винчи во время сеансов приглашал музыкантов, артистов, поэтов развлекать Мону Лизу, чтобы вписать все потенции переживаний в ее лицо. И она на фоне грандиозного пейзажа выступает как равная ему, а следовательно, и имеющая право познать того, на кого смотрит, за кем следит, не спуская глаз.
Но возникает вопрос: если так воспринимается отнюдь не властная Мона Лиза, то какую власть над собой, какую силу закона чувствовали люди верующие, преклоняясь перед статуей всемогущего Бога, перед распятием или иконой? И как это использовала церковь?
Но законы этики в искусстве универсальны. Лепаж, «Деревенская любовь». Облокотившийся на плетень юноша в рваной, заношенной одежде, в обувках — не ботинках, не сапогах, такие они истрепанные, с печальным, смущенным, робким, простым, нежным и добрым лицом. Спиной к плетню девушка с куцыми косичками, в стираной-перестираной выцветшей кофточке, нищенской юбке. Их влечение не примитивно. Нет, это надолго, им надо пожениться, а к тому тьма препятствий, может быть, неодолимых. Ведь оба, нищие. Но если их любовь одолеет, то ведь они-то будут неразлучны, у них-то будут Дети, они-то — эти двое и им подобные — и продлевали род людской, а не умники, в миллиардный раз оригинально изобретавшие свободную любовь (в случае появления ребенка пожизненно превращавшую одинокую мать в рабыню). Впрочем, мнения расходятся. «Иметь детей, кому ума недоставало», — это по Грибоедову, с дворянской точки зрения, тогда как для большинства людей ребенок — прежде всего лишний голодный рот. И вот в «Великолепной семерке», уже забытом американском фильме, бесстрашный всадник, стрелок, кондотьер, постоянно рискующий жизнью, признается в том, что у него-то самого никогда не хватало храбрости стать семьянином, чтобы заботиться о жене и детях, отвечать за их судьбу и что трус — не отец семейства, который его предал ради спасения своей семьи, а он сам. И признается в своей трусости во время отчаянной перестрелки (в которой его вскоре застрелили).
Искусство, как и жизнь, имеет множество граней. Граф Анри де Тулуз-Лотрек, сын от брака между родственниками, отец и мать которого скрыто несли рецессивный ген обменного дефекта, вызывающего ломкость костей, изуродовавшую ему ногу, становится великим художником и пишет свою правду, правду подмеченного им у всех и во всем морального и физического уродства. Чтобы увидеть это уродство, ему достаточно только поглубже и поострее взглянуть. И вот портрет Иветт Гильбер, знаменитой певицы. Тонкие руки, в контрастных длинных черных перчатках, лицо, в котором все сплошной уродующий грим: красные губы, крашеные волосы и брови, тонкое, чересчур тонкое лицо, насквозь порочное. Но ведь и это одна из граней правды! Конечно, когда это уже показано художником, написать несколько строк комментариев несравненно легче, чем раскрыть кистью на трети квадратного метра холста. Однако «морализированию», конечно, грош цена по сравнению с образом.
Но правд много. Есть правда Иветт Гильберт. Но вот, в поясном ли портрете, или во весь рост, артистка Самари рвется к нам из рамок ренуаровских картин, она вся трепещет прелестью, красотой, жизнью — все горит, все в ней — и мягкие, робкие и такие нежные глаза или взгляд, и лицо, и шея, и руки, и платье — так прекрасно, что возрождается вера в человеческую красоту, внешнюю и внутреннюю.
Но где же здесь естественный отбор?
Троглодит, у которого чувства красоты и верности не было, не стал нашим предком. Его-то потомки вымерли. А сохранилось потомство нищего юноши с картины «Деревенская любовь».
Прожив много лет в голоде или под страхом голода, человек навсегда сохранит уважение к пище и передаст его своим детям и детям своих детей. Для голодных еда была подлинным чувственным наслаждением, гораздо большим, чем для записных гурманов. Миллионы фламандцев, брабантцев, голландцев пережили инквизицию, бесчисленные конфискации, контрибуции, грабежи, осады, сотнями тысяч бродили нищими, умирали от голода, холода и других лишений. Наконец пришли независимость, безопасность, свобода, обеспеченность или богатство. Нелегко далось. Пришлось не только восстановить разрушенное бесконечными войнами, но и отвоевывать землю моря. Но неужели можно за полвека или век забыть прошлое? И какая-нибудь рыба или лимон, серебряная чаша для художника была
остается чудом. «Сытый голодного не разумеет», и истинное происхождение голландского искусства ускользает от понимания тех, кому не пришлось годами испытывать голод. Но те, кто его испытал и их преемники открыли нам разительную красоту мясной, рыбной лавки или стола с едой. Так возникает голландская живопись, открывающая красоту заурядного пейзажа или быта, которую человек обычной судьбы без этой живописи не поймет. После всего перенесенного обыкновенный быт приобретает облик необычайного счастья. Но кончается XVII в., воспоминания о бедности проходят, голландская школа живописи с наслаждением обыкновенными людьми или пейзажами кончает свое существование.
Маяковский неделями подбирал лучшее слово для строки, а из бесчисленных возможностей в строку «Вот я иду, красивый и...» он подобрал слово «толстый». Когда, почему именно слово «толстый» могло попасть в строку? Но именно в это время «толстый» — почти идеал счастья, противоположность полуголодному, тощему гражданину недавней эпохи.
Не думается, чтобы после двух-трех поколений неголодного существования пышнотелые, жирные или мясистые красавицы рубенсовского типа представлялись бы особенно соблазнительными. Но во времена хронического голода, недоедания, нищеты, безмерных лишений именно эти женщины были желанным антиподом изнуренным женщинам, именно они носили в себе отпечаток недосягаемого, антиподного совершенства.
На другом конце земли, в Китае, где почти все население каждочасно работало на грани голода, подгоняемое им к непрерывному труду, появляется свой идеал: выхоленные, не знающие жгучих лучей солнца нежнолицые девушки и женщины со ступнями, с младенчества перебинтованными до невозможности нормально ходить. Появляется мода на длинные ногти, показывающие, что их владелица не занята трудом. Для голодающей России с быстро стареющими, увядающими женщинами идеалом женской красоты становятся малявинские бабы или кустодиевские купчихи.
Острая любовь к природе нищему человеку обычной судьбы не свойственна. Но в 1943—1944 гг. полумиллионным советским армиям, взявшим Витебск в полукольцо, пришлось полгода провести на земле, где все деревья на сотню километров в окружности были срублены на настилы и топку землянок, а выпавший снег через час становился черным от разрывов мин и снарядов. И когда армии перебросили в нерасстрелянные места, уцелевшие бежали смотреть на обыкновенную корову и любовались самыми обыкновенными хатой или деревом, как неведомым чудом. Но, увидев чудо, настоящий художник и напишет его как чудо.
Необычайно ценно именно для такого понимания прекрасного свидетельство одного из тех писателей, которые видели свой долг прежде всего в раскрытии социальных язв своего времени, тех писателей, для которых все средства искусства служили прежде всего этой цели.
Эту могучую роль искусства парадоксальным образом засвидетельствовал не сверхутонченный арбитр, а народник-бытописатель Глеб Успенский («Выпрямила»). Сельский учитель Тяпушкин, отнюдь не интеллектуал, сопровождая за границу какое-то семейство в качестве ментора при детях, попадает в Лувр и видит там Венеру Милосскую. «С этого дня я почувствовал не то что потребность, а прямо необходимость, неизбежность самого, так сказать, безукоризненного поведения; сказать что-нибудь не то, что должно, хотя бы даже для того, чтобы не обидеть человека, смолчать о чем-нибудь нехорошем, затаив его в себе, сказать пустую, ничего не значащую фразу, единственно из приличия, делать какое-либо дело, которое могло бы отозваться в моей душе малейшим стеснением или, напротив, могло малейшим образом стеснить чужую душу — теперь, с этого памятного дня, сделалось немыслимым; это значило потерять счастье ощущать себя человеком, которое мне столь знакомо и которое я не смел желать убивать даже на волосок». «И все-таки я бы не смог определить, в чем заключается тайна этого художественного произведения и что именно — какие черты, какие линии животворны, " выпрямляют", расширяют скомканную человеческую душу».
.Далее о скульпторе. «Ему нужно было и людям своего времени и всем векам и всем народам вековечно и нерушимо запечатлеть в сердцах и умах огромную красоту человеческого существа, ознакомить человека — мужчину, женщину, ребенка, старика с ощущением счастья быть человеком, показать всем нам и обрадовать нас великой для всех возможностью быть прекрасным — вот какая огромная цель овладела его душой и руководила» (Успенский Г., 1944, с. 278).
Едва ли можно яснее раскрыть связь между восприимчивостью к красоте и чувством долга, справедливости, правды, внутренней потребности и в том, и в другом. Показательно то, что это не истреблялось, а подхватывалось естественным отбором.
Но если так, если эстетическая восприимчивость так неразрывно связана с этической восприимчивостью, то отбор на оба социально-необходимых свойства должен был неразрывно сплетаться в ходе становления человечества.
Воздействие может быть и незаметным. В рассказе В. Гроссмана «Московская любовь» деловитый инженер, всем своим прошлым, настоящим, делами, духом, бытом абсолютно непричастный к искусству, ожидает свидания в музее у картины Ван Гога. Идут минуты; он непроизвольно поглядывая на картину, постепенно проникается всем ее внутренним смыслом.
Можно восторженно разглядывать снежинки, любуясь их симметрией; нормальному среднему, музыкально неподготовленному человеку доставит удовольствие серия гармоничных аккордов... Мы естественно легко, радостно принимаем гармонию, симметрию и простые отношения вроде золотого сечения — в живописи, скульптуре, архитектуре, — словом, охотно воспринимаем простые закономерности, испытывая при этом радость, чем-то близкую к той, когда нам в результате уже не непосредственного восприятия, а в результате упорного труда на школьной парте, в аудитории или лаборатории вдруг раскрывается какая-то ранее скрытая, но емкая закономерность. Мы испытываем эстетическое наслаждение, радость, нередко вовсе не спортивную и достаточно часто бескорыстную, от решения шахматной задачи, внезапного понимания внутренних закономерностей политических событий прошлого или настоящего.
Когда мы радуемся красоте кристалла или здания, то под это можно подвести рациональное начало — понимание сложности или симметрии. Но красоту аккорда чувствуют люди бессознательно, не зная о законе соотношения длин волн. Прелесть картины доходит и до неопытного зрителя, не знающего о законах контрастного восприятия цветов. Следовательно, работают подсознательные, инстинктивные восприятия. Откуда же они?
Со времен Маркса, Энгельса и Чернышевского представления о социальной и классовой природе эстетических эмоций повторялись так настойчиво и часто, что общечеловечность их стала забываться и совершенно забыто то, что классики марксизма, громя буржуазную эстетику, вовсе не собирались отменить эстетику общечеловеческую.
Прежде всего надо представить себе огромную познавательную, информативную, воспитательную, а главное, сплачивающую роль искусства в жизни первобытных орд, лишенных письменности. Противопоставим друг другу две орды, два племени, одно — лишенное эстетических инстинктов и эмоций, не сплачиваемое ими, а другое — ими объединяемое. В чью пользу при прочих равных условиях в борьбе ли с природой, или между собой будет работать групповой отбор? Однако и индивидуальный отбор мог действовать против тех, кто не подчинялся эстетическим требованиям, вытекающим из эстетических воздействий, ими не воспринимаемых.
Человек, не восприимчивый к языку рисунка, живописи, скульптуры, этики, легко оказывается изгоем. А остракизм или у германцев изгнание из племени (Vogelfrei — свободен, как птица), лишавшее человека покровительства общины, недаром считалось самым тяжелым наказанием после смертной казни.
Драмы Эсхила и Софокла, «Илиада» и «Одиссея», конечно, были не только проводниками особых эстетических начал, но и создателями общего эмоционального начала, что не меньше сплачивало греков древности, чем в наше время единый, общий язык науки сплачивает математиков, физиков, химиков и других естествоиспытателей всех стран и наций.
Поэма, песня, статуя, картина — мрачная, давящая или бодрящая — создает общность и единство восприятия, универсальный язык. Прописная истина, что в мире, обладающем водородными бомбами, силы войны не в малой мере сдерживаются тем, что и ученые, и художники говорят общим языком, протягивая друг другу руки через все границы. Но насколько большей центростремительной силой обладало искусство в доисторические времена!
Человечество знает три универсальных языка — морали, искусства и науки; все эти три языка легко переходят через любые географические и даже исторические границы; все три языка интернациональнее любых эсперанто, все три языка опираются на созданную отбором социальную природу человека.
Говоря об универсальности языка искусства, нельзя не остановиться на причинах, почему же современное изобразительное искусство переживает кризис непонимания. Этот кризис совершенно закономерно возник из-за радикального изменения места, которое раньше, и в древности, и в средневековье, искусство занимало в повседневной жизни народа.
Дело в том, что каждое воскресенье и большой праздник (а их было у католиков в году почти столько же, сколько и воскресений) прихожане с раннего детства до глубокой старости проводили по многу часов в церкви; они почти все эти часы разглядывали картины, статуи, иконы, раки, дароносицы — произведения большого искусства, во всяком случае почти всегда дело рук настоящего профессионала-художника, Волей-неволей они в церкви подвергались воздействию искусства больше часов в неделю, чем может провести в музеях за год рядовой столичный интеллигент с высшим образованием.
С появлением книгопечатания духовные интересы человечества естественно в огромной мере отвлекались на книги, а падение религиозности, развитие протестантства, враждебного церковному искусству, основательно отвадило население северо-западной части Европы от живописи и скульптуры.
Интерес к нему все больше сосредоточивался в кругах знати и коллекционеров. Но, утратив интерес и понимание масс, живопись продолжала развиваться и усложняться. Утратив свое впечатляющее действие, она перешла в такое состояние, когда непрофессионал уже неспособен самостоятельно осознать ее былую впечатляющую мощь. Этому немало способствует несколько снобистское отношение к зрителям многих даже идейно честных художников. Они считают, что достаточно всмотреться в картину, и не сознают, насколько трудно без комментарием художника понять его язык даже высокоинтеллигентному посетителю выставки. Это затрудняет нам понимание того, какое стимулирующее и объединяющее действие оказывало изобразительное искусство в прошлом и тем более во времена варварства и дикости, когда каждое произведение было чудом для окружающих.
Показательно, что этот кризис, этот разрыв почти не имеет места в музыке, которая благодаря радио, кино, телевидению проникла в повседневную жизнь.
Рассмотрев вопрос о кризисном непонимании живописи, нам следует перейти к другой проблеме. Существует ли хоть теперь та наследственная гетерогенность по эстетической восприимчивости, которую мог некогда использовать естественный отбор?
В результате длительных предварительных экспериментов (Вагron Р., 1970) был найден метод, позволяющий оценивать художественный вкус индивида. Студенты, тестируемые при оценке черно-белых рисунков, распались на две группы: одна группа — S—предпочитала симметричные, относительно простые фигуры, другая — А — асимметричные, неправильные, сложные. Основное же исследование заключалось в том, что тестируемым предлагались 150 почтовых карточек с репродукциями картин известных художников и предлагалось разделить их на 4 группы:
1) понравившиеся больше всего,
2) очень понравившиеся,
3) не особенно понравившиеся,
4) наименее понравившиеся.
Оказалось, что группе S наиболее понравились наименее понравившиеся в группе А картины Венециано («Портрет молодой дамы»), Боттичелли («Святая дева с ребенком»), Коро («Женщина с жемчугом»), Леонардо да Винчи («Иоанн Креститель»), «Портрет Елизаветы Австрийской», Гейнсборо («Мальчик в голубом»), Реберн («Мальчик с кроликом») и два портрета Франциска 1.
В наиболее понравившиеся группе S картины попали также три портрета Рембрандта («Гендрика Стоффельс», два автопортрета) и «Синдики», рафаэлевский портрет Бальтазара Кастильоне, пейзаж Утрилло, Гоген («Сена у Парижа»). Наименее понравились группе S картины Пикассо, Модильяни, Тулуз-Лотрека, Сезанна, Ренуара.
Хотя частично вкусы группы S и А совпали, группе А больше всего понравились Ренуар («Купальщица»), Ван Гог («Мост»), Вламинк («Дом с барометром»), Домье («Собиратель гравюр»), Тулуз-Лотрек («Два вальса»), Гоген («Таитянки» и «Золото их тела»), Дега («Гладильщицы»).
Наименее понравились группе А, помимо уже перечисленных: Леонардо да Винчи («Богоматерь, младенец и Св. Анна»), Лукреций Кривелли («Благовещение»), Редон («Цветы»), Гольбейн («Портрет Анны Клевской»), некоторые картины Уистлера, Коро («Ландшафт»), Гойи, Энгра («Одалиска»), Беато Анжелико («Благовещение»). Нельзя не отметить что студенты могли ранее видеть репродукции картин и выработать отношение к знаменитым художникам и их произведениям. По Ф. Варрону, тестируемые распались на две полярные группы: группе S нравятся картины на религиозные темы, парадные портреты властных, знатных, святых; не нравятся картины, близкие к абстракции, эксперименту, картины, изображающие незнатных женщин в обыденных и сексуальных ситуациях. Наоборот, группе А нравится «модерн», экспрессионизм, импрессионизм, кубизм, нарушение традиций, динамика; не нравится религиозная тематика.
Обе группы четко отличались друг от друга и по словарному составу (прилагательные), а при личностной оценке выяснилось, что группа S не только в картинах, но и в жизни предпочитает прямоту, простоту, тогда как группа А — сложное и проблематичное.
Среди тех и других в равной мере представлены эффективные и профессионально перспективные, «как простота, так и сложность имеют свои положительные стороны, но приводят к разнонаправленным склонностям и достижениям» (с. 100). По результатам тестирования другими методиками «сложные» оказались более экспрессивными, экспансивными и речистыми, а «простые» — более естественными, дружелюбными, прямыми и менее склонными к обману. Таким образом, речь идет о целом комплексе личностных свойств.
Естественный отбор на эстетическую восприимчивость был возможен лишь при существовании значительной наследственной гетерогенности по этому свойству. Что эта гетерогенность существует, показано при помощи специального теста Варрона-Уэлша, при котором испытуемым предлагается набор из 15 геометрических фигур и рисунков, соотносительный художественный ранг которых был установлен по независимым оценкам большого числа художников-профессионалов. Уровень тестируемого оценивался по соответствию его оценок профессиональным. Другим мерилом являлся тест Готтшальда: способность обнаружить в сложном рисунке более простой. Тестировались кончавшие или окончившие среднюю школу близнецы со средним возрастом 17, 2 года, а именно 30 пар ОБ (однояйцевых) и 28 пар ДБ (двуяйцевых) близнецов итальянского происхождения, 29 пар ОБ и ДБ американского происхождения. На фоне полного отсутствия роль наследственных факторов в «вербальной экспрессивности» (словесной выразительности) у этих тестируемых четко выявилась роль наследственных факторов в «эстетической оценке зрительных ощущений».
Основные данные сведены в таблицу, цифры которой (h2) показывают, какая доля изменчивости обусловлена наследственными факторами.
 |
Вербальная экспрессивность в большой мере определяется микросредой и подражанием, отсюда и сходство между близнецами-партнерами независимо от их одно- или двуяйцевости. Наоборот, зрительная эстетическая оценка, как правило, внутренний акт, не требующий обсуждения и согласования. Необходимо оговорить, что тест Варрона-Уэлша оценивает скорее эстетическую восприимчивость, тогда как тест Готтшальда оценивает до некоторой степени интегрированно способность к образному мышлению и видению.
Гораздо более надежны данные (Shuter R., 1966) по изучению роль наследственности и среды в музыкальных способностях. Коэффициент корреляции (степень связи) между средними обоих родителей и ребенком составил 0, 48, причем значительно большей оказалась корреляция отец-ребенок (0, 63), чем мать-ребенок (0, 29). Повышенная корреляция с отцом в значительной мере подкрепляет представление о роли социальной преемственности в передаче или развитии музыкальных способностей. Но любопытно, что корреляция по музыкальным способностям между отцом и матерью оказалась довольно высокой (f = 0, 33), может быть вследствие брачного подбора. Изучение 50 пар ОБ, выросших вместе, и 5 пар выросших раздельно, показало, что наследственные факторы, по-видимому, определяют быстроту обучения и верхний предел достижения. На двухстах парах близнецов этот вывод подтвержден (Stafford R. Е., 1970).
Итак, человечество и теперь наследственно гетерогенно по уровню эстетической восприимчивости. Следовательно, естественный отбор тем более имел материал для действия в прошлом.
Представим себе в мраморе идеальную девушку, которой суждено стать идеальной, верной, благородной женой и матерью, и мы получим ряд других греческих статуй. Стабилен ли этот идеал? Разумеется, нет. Вот (И. Сельвинский) идеал женской красоты недавнего времени:
|
|