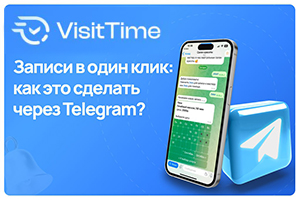Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Глава VI. Языческие верования древней Руси. 5 страница
|
|
В своем коренном значении это слово вполне соответствует слову Ярый, почему Ярило и Купаю в коренном смысле однозначительными. Они сливаются и в языческом поклонении 169.
По-видимому, как на купальском празднике, так и при всех других годовых обрядах, сжигаемый огонь представлял видимый образ того невидимого, но ощущаемого духа, который возводил весну и лето, творил созревание жита и всякой растительности, давал спорынью, плодородие, который и в существе самого человека обнаруживал свои действия особым буйством и яростью жизни, что, конечно, всегда и сопровождалось обычными вакханалиями и игрищами. В 1505 г. один игумен так описывал купальскую вакханалию в городе Пскове: " Когда приходить этот великий праздник, день Рождества Предтечева, и в ту святую ночь мало не весь город возмятется и взбесится... Встучит город сей и возгремят в нем люди... стучать бубны, голосят сопели, гудут струны; женам и девам плескание (плеск в ладоши) и плясание, и главам их накивание, устам их кличь и вопль, всескверные песни, хребтом их вихляние и ногам их скакание и топтание; тут мужам и отрокам (парням) великое прельщение и падение; женам замужним беззаконное осквернение, девам растление"... По свидетельству Стоглава, люди, возвращавшиеся домой с этих вакханалий, падали, аки мертвые, от того великого хлохотания. " Те же Псковичи, прибавляет игумен, в тот святый день выходят, обавники, мужчины и женщины, чаровницы, по лугам и по болотам, в пути и в дубравы, ищут смертной травы и привета, чревоотравного зелия, на пагубу человечеству и скотам, тут же и дивия копают коренья на потворение и на безумие мужам; это все творят с приговоры сатанинскими"... Мы видели, что вещие травы собирались и на Петров день 29 июня. Точно также на другой день после этого праздника, то есть с наступлением мясоеда, происходят особые вакханалии, которые несомненно были те же купальские или Яруновы вакханалии, перенесенные на мясоед, вероятно, вследствие церковных запрещений веселиться в постные дни.
Таким образом, в течении целого полугодия, в промежутке солнцевых поворотов от зимы на лето и от лета на зиму, язычник праздновал постепенное восхождение природы от холодного мертвого сна к цветущей и огненной поре лета. Он внимательно и чутко следил за каждым дуновением весеннего тепла, этого радостного и милостивого духа, пел ему песни, водил хороводы, завивая и развивая венки, гадая о счастье и любви, и живя сам радостною жизнью всеобщего возрождения, искренно веровал, что тою же жизнью должны веселиться и умершие (каковы Русалки), что они, за одно со всею природою, участвуют в ее возрождении и дышат тем же теплом жизни и веселья. По пословице: живой живое и думает, язычник не мог иначе и понять состояние земных дел во время оживления всей природы.
О окончанием купальских празднеств наставала, по народ ному выражению, Макушка лета, начиналась Страда -- горячая пора полевых работ, следовавших одна за другою без устали и без отдыха. Песни, хороводы, игрища притихали. " Плясала бы баба плясала, да Макушка лета настала", говорить народ об этой страдной поре. " Всем лето пригоже, да Макушка тяжела! "
Работы начинались сенокосом, потом следовало жнитво. Созревший хлеб, конечно, возводил мысль язычника к " Растителю класов ", к божеству хлебного плодородия, которым, по-видимому, у нас почитался Волос или Велес. Самый праздник жатвы называется Волотками. На юге России в начале жатвы завиваютВолосу бороду. Это делает одна из жниц: захватив в руку куст колосьев она свивает их на корню, как косу, потом заламывает и в таком виде оставляет. Этот куст-завиток приобретаеть святое значение; к нему опасаются и прикоснуться из боязни, что от прикосновения того человека изогнет и скорчить в такой же завиток. В Костромских местах в начале жатвы оставляют на ниве волотку на бородку -- куст несжатых колосьев. На севере (Архан. губ.) подобный обряд делается в конце жатвы: последние не сжатые колосья связывают на корню снопом и украшают этот сноп цветами. Там употребляются даже выражения: хлебная борода завить -- значить окончить жатву и убрать хлеб; сенная борода завить -- окончить сенокос и убрать сено. В Новгород, губ. при завивке Волосу бороды жница воспевает:
Благослови-ка меня, Господи,
Да бороду вертеть:
А пахарю-то сила,
А севцу-то корова",
А коню-то голова.
А Микуле -- борода.
Если это имя Микула должно обозначать известного мифического пахаря русских былин, Микулу Селяниновича, то здесь он прямо сближается с Волосом, который, следовательно, не только был пастух, скотий Бог, но и селянин-пахарь. Мы уже заметили, что он точно также, как Скифский третий брат обладал золотою сошкою. 170
В иных местах подобную бороду завязывают Илье Пророку, из овса, также чуд. Николе или самому Христу -- явное влияние уже христианских понятий.
Конечно нива, растущий хлеб вызывали в чувстве язычника особое благоговение и особое внимание ко всем переменам, происходившим там с развитием растительности. С радостью язычник встречал первый колос и освящал его появление особым обрядом. И теперь во Владимирской губерн. молодежь собирается на краю села, становится в два ряда лицом друг к другу, схватывается друг с другом обеими руками и таким образом устраивает между рядами как бы мост, по которому проходить малютка -- девочка, убранная разноцветными лентами. Каждая пара, как только девочка уходить дальше, перебегает вперед и снова устраивает из рук мост для шествия малютки. Таким образом, с перебегами доходят до самой нивы. Это значить водить колосок. У нивы девочку спускают на земь; она срывает несколько колосьев, бежит с ними в село прямо к церкви, где и бросает их. При обряде поют песни:
Пошел колос на ниву
На белую пшеницу...
Или: Ходить колос по яри
По белой пшенице;
Где царица шла --
Там рожь густа:
Из колоса осьмина,
Из зерна коврига,
Из полузерна пирог.
Родися, родися
Рожь с овсом;
Живите богато
Сын с отцом.
Первый сжатый сноп, как и Рождественский дед, приобретал значение священное и целебное. Его приносили в избу и ставили в переднем углу. Его семена теперь носят в церковь для освещения, мешают их с посевными семенами, а часть берегут на всякую надобность, как целебное средство.
Такое же значение приобретал и последний сноп, который в добавок наряжали куклою, в женский или мужской убор и с песнями несли его во двор и ставили в избе в передний уголь. Этот сноп также прозывался дедом и по языческим понятиям, действительно, представлял самого житного деда, обитателя нивы. Как в доме Домовой, в лесу Леший, в воде Водяной, так и в ниве живет ее живой дух, дед Полевой или Полевик, ростом равный высоте хлеба, а после жатвы -- каждому оставшемуся срезанному стеблю. В поле живут также и полудницы-русалки, которые в летнюю пору сидят во ржи и хватают малых детей. В Галиции Житного деда представляют стариком с тремя длиннобородыми головами и с тремя огненными языками. Не это ли образ Триглава Штетинского, которому поклонялись Балтийские Славяне.
Все это остатки и отрывки поклонения паханой ниве, созревшему хлебу; все это выражения поэтического чувства и поэтической мысли, которые ни на минуту не покидали язычника во всех его отношениях к матери-природе.
В одно время с жатвою, по замечанию поселян, уже с Ильина дня, когда настают холодные утренники, приходить осень. Действительно, от самого поворота солнца на зиму, а лета на жары, природа мало по налу уносить куда-то свои живые и веселые силы. С этого времени умолкают певчия птицы; живой лес и поле становятся молчаливыми; птицы потом совсем улетают в неведомые страны, в неведомый Ирий или Вырай, т. е. Рай. Ласточки собираются вереницами, ложатся в озера и колодцы, из которых, как сказано выше, весною появлялись русалки -- явное дело, что здесь равумелись души померших людей. В пер вые дни октября в лесу сам леший куда-то пропадал и лес оставался пустым, как он на самом деле остается пустынным, молчаливым и голым, без листа. Водяной, окованный первым льдом, тоже засыпал на всю зиму. Ясно, что с осенью исчезала жизнь природы, исчезали мало по малу и духи-образы этой жизни. Ясно, что всякий дух, живший в лесу, в реке, в поле, на ветвях дерева, как русалка, и т. п. был сама жизнь, которую и понять и представить себе язычник иначе не мог, как в образе духа. В этот образ живого духа он облекал и все умершее, не веря от полноты созерцаний жизни, что в мире что либо умирает на веки.
Язычник боготворил природу со всех сторон, поклонялся и веровал ей на всяком месте, при всяком случае. Чтобы он ни делал, религиозное чувство о природе не оставляло его ни на минуту. Начало и конец всякого дела он освящал молением -- поклонением и жертвою в различных видах, по различию дел, но всегда с глубоким чувством сыновней детской любви и зависимости. В своих отношениях ко всем явлениям природы он был истинный ребенок, истинный ее внук, как он называл сам себя, упоминая о своих дедах -- богах. Его чувства к ней были исполнены любви и страха. И это были два неиссякаемые источника, из которых били неистощимым ключом все его мифы, все его верования, все его разумение природы, до самых мелких подробностей. Здесь же заключалась и та основа его воззрений на дела внутреннего и внешнего мира, по которой он не мог резко отделять друг от друга добро и зло. Где нынче был страх, там завтра все освещалось чувством приязни и любви; где нынче устрашала видимая или не видимая вражда природы, там завтра все покрывалось отношениями полной дружбы и родства. Как ребенок, он веровал в природу, как в одно живое цельное неразделимое существо и не понимал еще того философского отделения света от тьмы, добра от зла, которое появляется в язычестве уже при философской обработке его начал помощью мудрых размышлении и глубокомысленных отвлечений.
Представления о злом мире, исполненном неугасимой вражды к человеку, которые теперь существуют в народных верованиях и причисляются к древнему язычеству, несомненно появились уже в позднее время, когда водворилась истинная Вера и учение о грехопадении. Наш язычник не понимал еще, что такое грех и откуда он идет, а потому и не мог себе создать точного и ясного представления о началах добра и зла, нравственного света и нравственной тьмы. Все его боги и духи не дают никаких определенных намеков на такое понимание их при роды. Никаким враждебным силам наш язычник не поклонялся. Он их не знал. Некоторые исследователи находят эти враждебные силы в помершем мире, в тех духах жизни, которые восставали в зимния Святки или носились в купальскую ночь и появлялись и в другое время повсюду, где их видела языческая мысль. Но это были только страшные силы, способные и на добро и на зло, страшные по той причине, что они являлись живущими там, где истинного живого существа не было видно, или в такое время, в полночь, когда весь живущий мир спал крепким сном и на улицу не выходил, а между тем звук и шел есть жизни не умолкал и в понимании язычника непременно облекался в живое существо. Домовой, Водяной, Леший, Полевой, враждовали в то лишь время, когда к тому их побуждала сама жизнь природы, восходящая к своему весен нему разцвету или уходящая к зимнему сну. В сущности все создания языческого воображения, все божества язычника были добрые его соседи, с которыми надо было только знать, как поступать и как устраивать их соседство себе на пользу, для чего существовали умилостивления и жертвы и очень помогали даже чудные силы некоторых трав и других вещих веществ и предметов; помогала сила заклятий или заговоров, разных мифических действий и обрядов и т. п.
Исследователи, вникавшие в существо славянского язычества и в особенности русского, единогласно обозначают его верою природною, естественною, то есть, надо полагать, такою верою, которая создалась сама собою, как бы выросла из самой земли, как бы народилась вместе с самим народом. Она действительно есть произведение нашей страны и представляет образ понимания и созерцания природы простым умом и чувством простого селянина. Так, по крайней мере, мы должны судить о нашем язычестве по тем остаткам и обломкам, какие уцелели от его миросозерцания в народном быту и в показаниях старой церковной письменности. Мы видим, однако, что в народных верованиях уцелели больше всего, так сказать, только психические основы язычества, то есть простое чувство природы с его поэтическими олицетворениями во всех видах, и простое детски-слепое верование человека во все, что ни рассказывают ему его чувство и воображение. Мы знаем, что на этих естественных и прирожденных человеку основах народ устраивал свое миросозерцаяие и под влиянием христианского учения и христианских идей, воспринимая эти идеи тоже в живых образах путем олицетворения, так как иначе он не мог их и постигнуть.
Как пзвестно, народный ум нигде и никогда не бывает богат отвлеченным мышлением. Он легче всего понимает только то, что может вообразить. Воображение больше всего и управляет его мышлением. Таким образом, эта сторона народных верований, в строгом смысле не может быть названа и язычеством. Она простое детство народного ума и чувства, равное по своему существу настоящему детству каждого человека. Во всякое время, и в язычестве, и в христианстве, это детство постоянно создавало и постоянно создает себе живые образы своего разумения вещей и идей. Это простое, прирожденное человеку творчество его поэтической мысли и чувства.
Но можем ли мы основательно говорить, что иного язычества у нас и не было, что наше язычество осталось на первой поре своего развития, то есть, как мы упомянули, на простых естественных основах простого детского творчества народной фантазии, что оставленный нам летописыо и церковною письменностью имена языческих богов и в языческое время оставались одними голыми именами? И здесь опять мы встречаемся с известным заключением худо понятой Шлецеровской критики, что чего мы не знаем, о чем не сохранилось свидетельств, того не могло существовать и в живой действительности. Остались от языческих богов одни имена, потому что их капища и мифы были разрушены Христианством, а христианская, одна лишь церковная грамотность в течении веков редко позволяла себе даже упоминать эти проклятые имена, а тем меньше описывать подробности языческого поклонения; мирской светской грамотности, как и светской школы, у нас вовсе не существовало и по церковным запрещениям не должно было существовать, -- вот достаточная причина, почему поэтические рассказы древнего язычества ни кем не были записаны и исчезли из памяти. В устах народа они несомненно хранились многие века, воспевались в песнях-былинах, в которых и до сих пор все еще явно ощущается присутствие мифических образов высшего порядка, так называемых теперь старших богатырей. Случайно уцелевшее еще от XII века Слово о полку Игоревом вводить нас в такой мир живых мифических воззрений и созерцаний, который отстраняет и малейшее сомнение в существовали целого и полного круга русских мифов, носившихся живою жизнию даже над сознанием, воспитанным уже христианскими идеями. Суемудрие некоторых новейших филологов доказывающих, что наше Слово в сущности есть книжная и, стало быть, мертвая компиляция и в мыслях и в словах, собранная из какого-то неведомого и самим филологам болгарского источника, по меньшей мере обнаруживает только недостаточное знакомство, не с одною буквою, а больше всего со смыслом и духом тех старых словес этой песни, которые составляли некогда поэтический язык древних Боянов и рассыпаны не в одном Слове про Игоря, но и в других памятниках русской древней письменности. 171
Это Слово, как давно уже отмечено, есть произведение литературное. Оно не былина народного песнопенья, но творение грамотное и однакож вовсе не книжное, не подражание книжным словесам, то есть книжной церковной речи, а подражание старым словесам поэтического творчества певцов -- боянов, откуда эти словеса, как ходячия пословья, общие места, целиком вошли в состав Слова. В отношении языка, основою Слова служат только эти старые словеса. Это быль в собственном смысле литературный язык древней Руси. Некоторые его выражения могут идти от глубокой древности, потому что общие места, ходячия пословья, всегда очень любимы народом и всегда долго удерживаются в народной памяти. Таким же путем образовался и церковный поучительный язык, заключающий в себе множество любимых или привычных выражений, которые в течении многих столетий удерживаются во всех произведениях собственного русского написания. Вот причина, почему в старых словесах Игорева певца находим выражения, проникнутые полным мифическим сознанием. Слово о полку Игореве вполне удостоверяет, что в нашей старой письменности существовали и другие ему подобные и также записанные песни, в числе которых могли быть и такия, где русские мифы и русское язычество были изображены в желанной полноте или, по крайней мере, с желанными подробностями.
Из предыдущего обзора языческих верований и самых оснований языческого умонастроения и умоначертания уже можно видеть, что самый нрав язычника должен был носить в себе те же черты горячего непреодолимого чувства, каким был исполнен и весь круг его понимания природы. Как известно, теперешние люди много размышляют; размышление их сила и слабость, потому что во многих случаях оно охлаждает даже и высокие порывы чувства; язычник, наоборот, все понимал только чувством. В подвижности и стремительности его чувства была его сила, которая конечно чаще всего приводила его к погибели, но за то приводила и к полному торжеству.
В этом отношении об язычнике можно говорить, что он был " натура цельная", не раздвоенная и не половинчатая, отнюдь не разъедаемая в своих поступках многообъемлющим отвлечением и размышлением. То качество, которое лежало в основе языческого нрава можно пожалуй назвать дон-кихотством, самодурством и тому подобными обозначениями его сильной, полной и цельной воли, которая, раз почувствовавши прямизну своего направления, уже неизменно и непреодолимо стремилась выполнить себя во всех обстоятельствах и со всеми подробностями.
Можно сказать, что языческий нрав вообще был сильнее чем теперешний; язычник, как мы говорили, жил наиболее чувством, одним чувством на высоте своих идеалов и чувственностью на низу своих материальных потребностей. По этой причине и весь его нрав состоял из полноты чувства. Это была стихия его нравственного существования. Его страсти были стремительнее и непреодолимее, пожалуй можно сказать, животнее. Союз любви, родства и дружбы он чувствовал живее, крепче, искреннее, сердечнее, но за то с такою же живостью и силою он отдавался злобе и ненависти.
Естественно, что во всех поступках он больше всего уважал ту же самую силу чувства, поэтому мужество и храбрость во всех случаях составляли вершину или венец его нравственных деяний. Византиец Кедрин рассказывает в своей Истории один случай (1034 г.) о Русских Варягах, служивших в Греческом войске наемниками. " Один из Варангов, говорить он, рассеенных в области Фракисийской (в Малой Азии, на Армянской границе) для зимовки, встретив в пустынном месте туземную женщину, сделал покушение на ее целомудрие. Не успев склонить ее убеждением, он прибег к насилию; но женщина, выхватив (из ножен) меч этого человека, поразила варвара в сердце и убила его на месте. Когда ее поступок сделался известным в окружности, Варанги, собравшись вместе, воздали честь (буквально увенчали) этой женщине, отдав ей и все имущество насильника, а его бросили без погребения, согласно с законом о самоубийцах". 172
Немецкие ученые, присвоивающие имя Варяг только одному Германскому племени, принимают и этот случай, как доказательство германства Варягов, именно потому, что здесь обнаруживается во всем блеске германское уважение к женской чести и вообще германская высота нравственности.
Г. Васильевский, сторонник Норманства Руси, в своем образцовом исследовании о Варяго-Русской дружине в Константинополе, очень основательно доказывает, что в этом случае имя Варяг принадлежит Русской Руси. Нам кажется, что и толковать здесь о нравственности по нашим теперешним понятиям едва ли находится повод. Здесь простые люди были приведены в восхищение мужественным делом женщины и воздали ей справедливую почесть. Не говорим о том, что подобной справедливости, быть может, требовали и Варяжские обязательства пред Греками, как вести себя посреди чужого населения. Смелый и мужественный подвиг и устав отношений к туземцам, все это вместе послужило основанием для восстановления и торжества житейской правды. По греческим законам все имение такого насильника, действительно, отдавалось обиженной.
Свод нравственных законов, который существует у теперешних людей, язычнику был совсем неизвестен. Первородное дитя природы, он в своих понятиях о нравственности не мог еще выйти из круга, так сказать, стихийных начал нравственного мира. Он еще был стихийная природа, как можно назвать ту связь побуждений и стремлений, руководимых наиболее чувством и наименее разумом, которая и составляла нравственную почву язычника.
Нравственность человека возрождается и развивается из понятии о человеческом достоинстве. Чувствовал ли, и мог ли понимать такое достоинство язычник, взирая на самого себя и относясь к другим? Неразвитая высшим сознанием природа, он смотрел на весь мир только как на почву для собственного существования, где торжествуешь и поглощает все другое только природная же сила, в каких бы видах она не выразилась. С этой точки зрения язычник смотрел и на человеческий мир, едва различал зверя от человека, и в случаях ссоры и вражды охотясь за порабощением людей, в равной степени, как и за истреблением звереи. Как мы видели, рабы отличались от всякого другого товара лишь тем, что были товар живой, что обладали способностью уходить от владельца, почему с особою заботливостью о сохранности такого товара и толкуют договоры с Греками. В этом случае достоинство человека подобно всякому товару было оценено на вес золота.
Как известно, таково было убеждение всего древнего мира. Первичные понятия о нравственной ценности людей, должны были народиться только в пределах человеческого гнезда, которое именовалось родом, и что конечно обнаруживало, так сказать, природное происхождение этих понятии, т. е. их происхождение из самого естества животной жизни. Родич была личность, имевшая в глазах рода, так сказать, гнездовое нравственное значение, как единица родовой крови. Понятия о родиче составлялось уже почву для выработки понятий о человеческом достоинстве. Однако родич был только родная кровь. Достоинство его лица терялось в сплетениях родства. Только одно колено братьев пробуждало идею о равенстве личных прав, о равном достоинстве каждого брата и, следовательно, каждого лица. Поэтому и перехода понятий к идее о равном достоинстве всех людей, всех лиц, переход от родового корня к корню общины, естественно, был отмечен родовым же именем брата. И в общинном быту брат является уже со всеми признаками того личного достоинства, какое потом распространилось в понятиях о достоинстве чедовека вообще. Но выработка новых отношений между людьми и новых понятий о достоинстве человека шла очень медленно, с растительною постепенностью и вполне зависела от хода самой истории во всей стране. Языческий быт уже и в христианское время все еще руководился, как мы сказали, только первобытными стихийными началами нравственности.
Охраняя и защищая свое родовое гнездо и своих птенцов-родичей, этот быт с особою силою развивал стихийное же нравственное чувство -- месть. Конечно, это была единственная и самородная управа в защиту личной и родовой жизни; но она же ввергала эту жизнь в бесконечную вражду и служила главнейшею причиною для взаимного истребления охранявших себя родов и целых племен.
Месть вообще являлась самым сильным двигателем и устроителем языческой нравственности. Это был священный долг и святое право, которое исполнялось без рассуждения и разбора, какие средства были нравственны или безнравственны, лишь бы они доводили до желанной цеди. Высшее нравственное понятие заключалось уже в самой мести.
Мы видели, как действовала мстительница Ольга и мститель Владимир. Несомненно, что месть же воспитала и Святославову дружину в ее подвигах в Хозарской области, ибо и отец его Игорь три года собирал войско на месть Грекам. Мы видели, что самое начало русских подвигов в Аскольдовом походе на Греков тоже было вызвано чувством мести за убийство в Царьграде, по словам Фотия, каких-то провевальщиков зерна. А этот случай в полной мере объясняется другим подобным событием, описанным армянским историком конца X в., Асохиком. В то время у греческих царей находился на службе отдельный полк Русских, которые даже и на народном языке Греков назывались также и Варягами. Около 1000 года царь Василий, тот самый, при котором св. Владимир крестился, ходил в Армению в сопровождении русского отряда. В одно время этот отряд стоял лагерем в местности между теперешним Диарбекиром и Эрзерумом. В той же местности стояли и грузинские полки. Войны не было. Царь Василий приходил в Армению с миром и делал дружелюбные приемы властителям Грузии и Кавказа. Случилось, что из пехотного отряда Рузов (так Армянин пишет имя Руси) какой-то воин нес сено для своей лошади. Подошел к нему один из Грузин и отнял у него сено. Тогда прибежал на помощь Рузу другой Руз. Грузин кликнул к своим, которые, прибежав, убили первого Руза. Тогда весь народ Рузов, бывший там, поднялся на бой. Их было 6000 человек пеших, вооруженных копьями и щитами. Тех Рузов выпросил царь Василий у даря Рузов в то время, когда он выдал сестру свою замуж за последнего. В это же самое время Рузы уверовали во Христа. Все князья и вассалы грузинские выступили против них и были побеждены..." Другой армянский историк говорить, что " 30 человек самых знатных умерли на том месте. В этот день не ускользнул ни один благородный Грузин, все заплатили немедленною смертью за свое преступление" 173.
Вот по какой причине имя Руси было страшно всем врагам и разносило победу по всем окрестным странам. Однако и в этом случае Русь действовала справедливо и законно. Еще в договорах Олега и Игоря убийца должен был умереть на месте убийства. Сопротивление Грузин увеличило только число жертв. Никакой обиды, а тем более убийства, Русь не прощала никогда и рано ли, поздно ли наносила верное отмщение. Не удовлетворенная месть горела и не потухала многие годы и история Русских войн с соседями, а равно и домашних междоусобий, конечно, главным образом, всегда была исполнена счетами мести за нанесенные обиды. Месть была в то время единственным основанием людской правды; на возмездии основывалась и всякая справедливость.
Но если месть почиталась единственною правдою и, так сказать, самым существом правды, то понятно, что при ее исполнении всякие средства казались не только позволенными, но даже и необходимыми. Да и вообще в глазах язычника всякая цель его стремлений и чувствований становилась правдою для его нравственных поступков, тем более, что круг его нравственных уставов не очень был обширен.
Из чувства и права мести сама собою вырастала новая стихия людских отношений, это -- самоуправство. Сильный стремительностью чувства, язычник поступал самоуправно везде, где своя воля бывала сильнее чужой воли.
Если в понятиях язычника цель его стремлений и чувствований оправдывала всякие средства и не была, так сказать, заставлена различными соображениями о нравственности или без нравственности поступка, то мы напрасно будем рассуждать, что поступки Олега, Ольги, Владимира были коварны, низки, недостойны правдивого, а тем более мудрого человека. Коварство, как доля или свойство хитрости, у язычника почиталось высшею способностью ума и употреблялось только там, где недоставало прямой силы. Сам летописец, уже христианин, изображая дела Олега при занятии Киева, дела Ольги по случаю мести Древлянской и не помышляет, что это поступки только коварные. Он напротив выставляет их как дела мудрые, хитрые, ибо самое слово хитрость и хитрец означало в то время способность творческую, вдохновенную, вещую. Хитрец и хитрок значило просто -- художник своего дела. Хитрые поступки и дела, в каком бы виде они не обнаруживались, приводили язычника в восхищение и восторг, как высокие качества ума. Нравственный разбор в этих случаях появился уже в христианское время, когда восстановились уже другие жизненные идеалы, и нет ничего ошибочнее судить и осуждать языческую нравственность с точки зрения современных нравственных понятий, к тому же и существующих больше всего только в поучении, в теории, на словах и на бумаге, больше всего в хвастовстве современными успехами развития. Язычник, поступая по язычески, был со всех сторон прав, потому что таково было его воззрение на жизнь и нравственность. Правы ли современные люди, поступающие все еще по язычески, проповедающие даже такую языческую истину, что все, что тебе мешает и сопротивляется на твоем пути, должно быть всячески истребляемо, должно погибать, ибо таков закон борьбы за существование, правы ли эти люди, вместе с тем твердо знающие и высший идеал, и высший закон нравственных поступков?
В понятиях о нравственности, как и во всех других своих воззрениях, язычник был сама природа, простая, вполне чувственная природа, неразвитая сознательною мыслию. Поэтому его совесть допускала очень многое, чего мы уже не прощаем и почитаем за великий грех. Он напр., бывал часто бесстыден в отношениях к другому полу, о чем говорить в X веке арабы, видевшие Руссов на Волге, о чем свпдетельствует и наш летописец, описывая древний, а быть может еще и современный ему быть Древлян, Северян, Вятичей и т. д. Летописец же рассказывает былину про язычника Владимира, как он бесстыдно отомстил Полоцкой Рогнеде за то, что назвала его робичичем, сыном рабы, и не захотела пойти за него замуж. Однако все это рисует не разврат нрава, как было у Римлян в последния столетия их жизни, не падение общества, а одно малолетное детство этого общества, по нравственным понятиям еще не отделившегося от неразумной животной природы и не ведавшего вины в подобных поступках. Из той же близости к животной природе вырастали и все другие качества языческих нравов, недобрые и добрые.
|
|