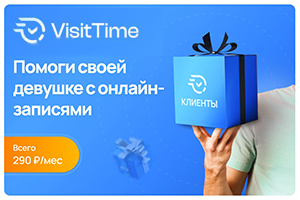Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Часть 1. Пюхтицы
|
|
Ты, когда батюшка будет благословлять, голову не наклоняй.
— Почему? Все ведь кланяются.
— А ты не кланяйся. Не надо кланяться.
— Почему?
— А потому, что ты наклонилась — а благодать сверху и пролетела. Все головы наклоняют, а ты стой прямо. А когда батюшка благословит, закончит крестное знамение изображать, вот тогда и кланяйся.
— Но благодать ведь не пулеметная очередь. Попал — не попал… Как это — сверху прошла?
— А ты не умничай. Сейчас все грамотные, а простых вещей не понимают. Это бес всех подучил. Сама подумай: когда кланяешься в то время, когда священник тебя крестит, ты же крест ломаешь. Вот так. Стой прямо. И не умничай. Поумней тебя люди знают про бесовские хитрости.
За моей спиной послышалось громкое шуршание, затем глухой стук: что-то упало на пол.

Я обернулся вполоборота и увидел сначала спину в синей куртке, а затем голову в тонком голубом платочке.
— Ух, — тихо выдохнула голова и снова исчезла, нырнув вниз, под мое кресло. Я опустил глаза и увидел на полу большое желтое яблоко.
— Вы не яблоко ищете?
— Яблоко, — тихо ответил робкий голосок.
Голова, ответившая мне, все еще пребывала внизу.
Я наклонился и поднял яблоко. Но чтобы отдать его, пришлось встать и сделать шаг в проход. Кресла в сидячем вагоне были плотно придвинуты одно к другому, и развернуться не вставая с места было сложно.
Голова в косынке… скорее — головка симпатичной девушки медленно повернулась в мою сторону. На меня смущенно смотрели большие голубые глаза. Через мгновение девушка опустила их. Ресницы у нее были длинные. И пальцы, которыми она взяла яблоко, были тонкие и длинные.
— Спаси Христос, — сказала она едва слышно.
Эта редкая формула благодарения подсказала мне, с кем я имею дело.
— Вы старообрядцы? — спросил я негромко и посмотрел на соседку юной барышни. Это была пожилая женщина с довольно грубыми чертами и беспокойным взглядом. Она смотрела на меня с тревогой и даже страхом. До перестройки и изменения отношения к Церкви было еще добрых две пятилетки. Так что ее можно было понять. Ведь за хождение в храм была гарантирована суровая немилость у власть предержащих. Да и вопрос мой был довольно дерзким. К «никонианам» старообрядцы относятся известно как. Мое вопрошание смутило бы любого представителя древляго Православия.
Бабуля молчала. Барышня сидела в напряженной позе, по-прежнему не поднимая глаз. Народу в вагоне было немного, и пассажиры, сидевшие через проход от нас, явно услыхали мой вопрос и заинтересованно поглядывали в нашу сторону. Нужно было разрядить обстановку.
Я извинился за бестактность и решил пошутить:
— Один раз из-за яблока уже произошла история, которую до сих пор расхлебываем.
Я улыбнулся, но напрасно. Бабуля стала смотреть на меня с еще большим беспокойством.
— Я имею в виду историю грехопадения наших прародителей, — стал объяснять я и тут же понял, что делаю это напрасно.
Теперь бабуля смотрела на меня сурово и с неприязнью.
— Вы, наверно, живете в Латгалии или на эстонском берегу Чудского озера, — я уже не мог остановиться и продолжал, не зная, как закончить мой безответный монолог. — Я бывал в ваших краях. Вот где старообрядцы сохранили подлинную Россию. Там даже иконы продолжают писать в каноне.
При слове «иконы» бабуля как-то крякнула и покосилась в сторону соседей.
— С чего вы взяли, что мы из Эстонии? Мы ленинградцы. А в Эстонию едем отдыхать. Купаться в озере… Здесь молочные продукты очень хорошие, и все здесь очень хорошо, — чересчур сладко проговорила бабуля и даже слегка кивнула в сторону соседей, говоривших друг с другом по-эстонски.
— Простите. Я просто услыхал, как ваша… — я замялся… — внучка или попутчица сказала: «Спаси Христос!» А так теперь благодарят только старообрядцы.
— Ишь, умник, — проворчала бабуля. — Скажи спасибо, что поблагодарила.
Она двинула соседку локтем в бок. Довольно сильно. Та даже вскрикнула. Но глаз не подняла и осталась сидеть в прежнем положении.
— Другие теперь и спасибо ни за что не скажут, — продолжала ворчать бабуля.
Я еще раз извинился. Моя жена, сидевшая впереди меня, оглянулась и «сделала страшные глаза». Я наклонился к ней.
— Что ты пристал к людям… Сейчас наша остановка.
Я попрощался с неразговорчивыми соседками, еще раз извинился, перекинул сумку через плечо, взял на руки сына и двинулся к выходу. Наверно, они никакие не старообрядцы. Ведь бабуля говорила о том, как не надо кланяться при священническом благословении. В Латгалии и Причудье живут «беспоповцы». Священников у них давно нет.
— Йыхве. Пассажиры, выходим. Йыхве. Стоянка две минуты, — навстречу мне шла по проходу высокая полная проводница. Пришлось вжаться в спинку кресла. Мы с трудом разминулись.
— Йыхве, Йыхве, — громко объявляла она, продолжая следовать в конец вагона.
Йыхве… Удивительно устроена голова и то, что в ней происходит. Я смотрю на табличку, состряпанную моей приятельницей. На сером фоне большими темно-красными буквами написано: «Эх, ты!»
Это адресное обращение к ее мужу. С некоторых пор он перестал выходить из дому. Целыми днями сидит у телевизора, курит и пьет чай с часовым интервалом между чаепитиями. Его невозможно упросить прогуляться с собакой или спуститься в булочную, находящуюся в их же доме, рядом с соседним подъездом. Что-то стряслось с моим другом. Он не может переступить порога своей квартиры. Недавно смог. Его отвезли в больницу. Табличка с надписью «Эх, ты!» криво вставлена между томами Диккенса и Лескова на книжной полке в прихожей…
А мой духовник нередко произносил «эх, вы!», глядя с укоризной на кого-нибудь в толпе исповедников. И многие думали, что батюшка вздыхал о них лично, и спешили вспомнить утаенные во время исповеди грехи. «Эх, вы!»…
«Эх ты!» не очень похоже на Йыхве, но я вспомнил Йыхве и все, что связано с этой топографемой.
Йыхве. Странно звучит для русского уха это эстонское название. Но многим питерцам (бывшим ленинградцам) оно хорошо знакомо. С Балтийского вокзала на таллинском поезде ехали до этой станции православные граждане. От Йыхве до Куремяэ на автобусе. А в Куремяэ… Это нужно было видеть. Русские люди выпрыгивали из автобуса и начинали истово креститься и кланяться на святые каменные ворота с деревянной звонницей, увенчанной крестом. А за звонницей были видны кресты пятиглавого собора, возвышавшегося над высокой каменной оградой.
Пюхтицкий монастырь не похож ни на какой другой православный монастырь. Все в нем построено в русском стиле, но с какой-то европейской прививкой. Какая-то малообъяснимая, но несомненная особенность была во всем: и в самой архитектуре, и в организации пространства, и в высоких подклетах из больших валунов, на которых стояли монастырские постройки. Даже цветочные клумбы (а они были повсюду) были необычными.

В конце семидесятых годов в коренной России было лишь два действующих монастыря: в Троице-Сергиевой лавре и в псковских Печорах. В остальных монастырях были в лучшем случае музеи, а в большинстве — тюрьмы да психиатрические лечебницы. В Эстонии Пюхтицкий монастырь сохранился чудом. В тридцатые годы его миновала участь русских монастырей, поскольку Эстония была независимым государством и там церквей не ломали. А в хрущевские гонения на Церковь тогдашнему архиепископу Таллинскому и Эстонскому Алексию (будущему патриарху Алексию II) удалось сделать немыслимое. Он оповестил мировую церковную и политическую общественность о планах коммунистов закрыть монастырь. Началась бурная протестная кампания, и Пюхтицкий монастырь отстояли.
Мы задержались на остановке. Справа возвышались двухэтажное деревянное здание и деревянная кладбищенская церковь, окруженная ухоженными могилами с одинаковыми крестами. Слева за деревьями просматривалась поляна, обрамленная темной кромкой леса. Перед нами широкая грунтовая дорога коротким извивом вбегала в раскрытые монастырские ворота. А за воротами… Это еще предстояло разглядеть, но храм и море цветов были хорошо видны.
Наши соседки по вагону ехали дальше. У них была особая цель: добраться к отцу Василию в Васкнарву. Прощались они с нами, как с любимыми родственниками. Трудно было узнать в улыбавшейся пожилой женщине ту самую хмурую бабулю, которую я тщетно пытался разговорить в вагоне.
Она вышла с внучкой на той же станции Йыхве. Сначала они старались приотстать от нас, пока мы шли от железнодорожной станции к автобусной. Но как только бабуля разглядела нашего болящего сына, поняла, что совместное путешествие продолжится, и мгновенно переменилась.
— Так вы, наверное, к отцу Василию? — она широко улыбнулась, засвидетельствовав большую нелюбовь к стоматологическому искусству. Сверху у нее сиротливо торчали, как у зайца, два желтых зуба. Снизу зубов было поболе.
— Сначала в монастырь. В Пюхтицы. А потом — к отцу Василию, — я тоже улыбнулся.
— Вам к нему, а не в монастырь нужно, — решительно заявила она, кивнув на нашего сына. — Хотя окунуться в источнике неплохо. Окунитесь — и сразу к отцу Василию — в Васкнарву. Это недалеко. Полчаса езды.
Уже сидя в автобусе она рассказала нам о чудотворце-батюшке, к которому на отчитку приезжают бесноватые со всей страны. Они с внучкой едут к нему в третий раз. Она наклонилась ко мне и заговорщицки прошептала:
— У Оленьки моей испуг.
Признаться, я не понял, что она имела в виду. Но бабуля поспешила разъяснить. Она прочла мне лекцию о хворях, не поддающихся современному врачеванию, потому что дело не в болезни как таковой, а в бесах. Рассуждая о коварстве врага рода человеческого, она рассказала мне историю своей внучки. Заодно представилась: «Я — Марфа Марковна. Нынче таких имен не дают. Так что не спутаешь». Имя действительно достойно персонажа какой-нибудь пьесы Островского. Но я стал пространно рассуждать об именах и о том, как красивы и благозвучны ее имя и отчество. У меня в классе было шесть Саш, восемь Вов, четыре Наташи и ни одной Марфы.
Марфа Марковна осталась довольна моими рассуждениями. А история ее внучки Оленьки такова.
Отец бросил ее с матерью, дочерью Марковны, когда Оленьке не было и двух лет. Мать горевала недолго и завела себе дружка. Тот оказался адептом какого-то восточного учения. Пожила она с ним год-другой и, по слову Марковны, «совсем улетела в глубокую лужу». С матерью вообще перестала разговаривать, сидела часами со стеклянными глазами поджав под себя ноги, читала какую-то «Агню-гу», (очевидно, Агни-йогу), а потом вообще исчезла вместе с внучкой. Лет десять не подавала о себе никаких вестей. Обращалась Марковна и в милицию, и к экстрасенсам. Наконец узнала, что дочь с любовником живет на Алтае. Там несколько питерцев облюбовали себе тихие места и жили «в согласии с природой». С властями как-то ладили. Особых нареканий на них не было, но за ними приглядывали. Попытки увлечь местное население светом их откровения успеха не имели. Самых прытких хотели за тунеядство посадить, так они, оказывается, работали. Дочь в библиотеке устроилась, а хахаль ее — в колхозной конюшне. А он до лошадей сам не свой. В Ленинграде деньги платил большие, чтоб на конях покататься, а там и лошади бесплатные, да еще ему и платили. На письма дочь не отвечала, а два года назад Марковна узнала, что она померла. Письмо пришло от незнакомой женщины. Она сообщила, что дочка Ларисина живет у нее и хочет вернуться к бабушке. Если Марковна захочет, то может ее забрать к себе. В тот же день Марковна полетела в Барнаул, а потом до Бийска и дальше в горы по знаменитому Чуйскому тракту. Нашла она нужный адрес. Село оказалось старообрядческим. Народ крепкий. Но доброта у них какая-то особая. Женщину эту, приютившую ее внучку, бабу Гликерию, даже на год от молитвенного собрания отлучили за то, что никонианское дитя в дом взяла. Да еще от матери-язычницы! Целый год земляки не общались с бабой Гликерией. А потом вдруг словно опомнились, стали всем миром ей помогать. Оленьку полюбили. Она кроткая. Двумя перстами стала молиться. А читает псалмы — чистый ангел. Стала она им на их службах читать. (Вот так объяснилось, почему она мне в поезде сказала: «Спаси Христос!»)
А претерпеть Оленьке пришлось немало. Сожитель ее матери стал к ней приставать. Убежала она от него среди ночи в одной рубашке по снегу. Забежала в избу к бабе Гликерии. Дай ей Бог здоровья! А того аспида так и не поймали. Исчез. А вот у Оленьки испуг начался: по ночам кричит, в обморок падает часто.
Слушая Марковну, я украдкой поглядывал на Олю. Ее время от времени передергивало — сильная судорога пробегала по телу. Она вытягивала вверх подбородок и шумно втягивала в себя воздух, словно кто-то сжимал ей челюсти.
— Вся надежда на отца Василия, — продолжала Марковна. — После его отчиток Оле лучше. На несколько месяцев. Но в городе такого нахватаешься… Батюшка говорит, что ей надо при нем жить с годик. А потом в монастырь, чтоб защита была на всю жизнь.
Признаться, до Марковны я подобных историй не слыхал. Она обвиняла человека, погубившего ее дочь, даже не в том, что он виновен в смерти Ларисы и посягал на ее малолетнюю внучку, а в том, что он «напустил бесов» в Оленьку. В те годы я знавал многих любителей восточных учений. Даже в Извару, в имение Николая Рериха, как-то заехал. Сам я этим делом не увлекся, но и не осуждал рериховцев. Мне и в голову не приходило, что их можно заподозрить в контактах с бесами. Скажи мне тогда об этом — я бы, пожалуй, посмеялся над «суеверием православных, присвоивших себе монополию судить о неизвестных им духовных практиках». К религии я относился тогда скорее как к культурному феномену. Ну и политическому. За веру в Бога можно было пострадать. Организаторов религиозных объединений и распространителей христианской литературы сажали в лагеря. В 1980 году выслали из России Татьяну Боричеву с Татьяной Мамоновой и Юлией Вознесенской. Их отправили в ссылку за создание женского христианского движения и проведение на частных квартирах православных семинаров. Сам я на них не бывал. В церковь захаживал редко: лишь по большим праздникам. Мои друзья вели беседы, далекие от религиозных тем. Рассказывали анекдоты про «Софью Власьевну» (так мы называли советскую власть), ходили по мастерским художников-авангардистов да обсуждали труды Солженицына, Варлама Шаламова и прочих авторов, записанных этой «Софьей Власьевной» во враги.
Так что монолог Марковны был мне в диковинку и прослушал его я с большим интересом. Уже из отходившего автобуса Марковна крикнула, чтобы мы не задерживались в монастыре, а поскорее приезжали в Васкнарву к отцу Василию.
Так и получилось. Из монастыря мы уехали на пятый день. Но четыре дня, проведенные в Пюхтицах, — одно из самых ярких впечатлений моей жизни.
Распрощавшись с попутчицами, мы прошли через святые ворота и оказались, безо всякого преувеличения, в ином мире. Мире поразившей нас красоты и гармонии. Великолепный храм, море цветов, монахини в длинных, до самой земли, одеяниях. Молодые монахини передвигались с какой-то легкостью, будто не касаясь земли. Они не смотрели по сторонам и не разглядывали тех, кто шел им навстречу, а приветствовали встречных низким поклоном. Так же, не поднимая головы, отвечали на приветствия.
К нам подлетела — именно подлетела — девушка в ситцевом платье в мелкий цветочек и легкой белой косынке, ласково улыбнулась и сказала, что нужно прежде всего благословиться у матушки Варвары. Мы последовали за ней к дому настоятельницы.
Матушка настоятельница сидела на скамейке с монахиней в белом апостольнике. (Название это, как и многие другие термины, не имевшие хождения в советской действительности, я узнал позже.) Обе монахини были неправдоподобно белолицыми. Человек в миру либо загорит, либо ходит с лицом, на котором зримо отпечатались следы греха, заморской косметики или долгого пребывания на улицах современного города. Лица же этих женщин свидетельствовали о чистоте. У настоятельницы было доброе, очень простое лицо. Вторая же показалась мне образцом женской красоты. Они сидели словно сошедшие с полотна Нестерова посланницы Святой Руси.
Настоятельница спросила нас, откуда мы и чем занимаемся в миру, внимательно с сочувствием посмотрела на нашего сына. Потом обратилась к девушке, приведшей нас к ней:
— Танечка, отведи их на горку.
Эта Танечка сейчас мать Серафима, настоятельница Иоанновского монастыря, где покоятся мощи Иоанна Кронштадтского, а монахиня, сидевшая рядом с матушкой Варварой, матушка Георгия, — настоятельница Горненского монастыря в Святой Земле.
Я до сих пор не перестаю удивляться тому, что первыми монахинями в моей жизни оказались такие замечательные подвижницы.
Танечка провела нас на горку. Мы прошли мимо храма, могилы князя Шаховского, принявшего большое участие в строительстве монастыря, и вошли в «дом на горке» с тыльной стороны. Нам предложили просторную комнату со сводчатым потолком и десятком кроватей.
Танечка пообещала, что соседей у нас не будет.
Четыре дня мы прожили в этом дивном месте, посещая утром и вечером монастырские службы.

Службы были долгими. Нас поразило монашеское пение. Все было так непривычно: покойно, молитвенно и радостно. В тогдашнем Питере не было ничего подобного. В церквях помимо толчеи чувствовалось сильное напряжение. Можно было столкнуться с соглядатаями. Молодых людей в храмах было немного. И все они, так или иначе, были на заметке у органов безопасности. Однажды на Пасху в Спасо-Преображенском соборе к моей жене подошел ее студент, комсомольский активист, и заявил, что если она не поставит ему на экзамене хорошую отметку, то он донесет на нее декану.
В Успенском соборе Пюхтицкого монастыря можно было почувствовать свободу. Подлинную свободу во Христе и свободу в обычном, житейском смысле. Не было никакой нужды суетиться. Все, что нас окружало, свидетельствовало о высоком и прекрасном: повсюду были знаки горнего мира, а дольний прикровенно показывал, что Святая Русь никуда не подевалась. Я заметил двуглавых имперских орлов на хоругвях. Такое даже представить было невозможно: символы царской власти на 64-м году «Софьи Власьевны»! Казалось, что мы чудесным образом оказались в месте, где человек полностью защищен и где никто тебе не станет «шить политику» за то, что ты веруешь во Христа, а не в «дедушку Ленина».
Но, к сожалению, это было не так. И соглядатаи появлялись в монастыре, и целые бригады «ответственных товарищей» вламывались и в монастырь, и в близлежащие церкви для проверки и отлова «тунеядцев и сомнительных личностей». Этому мы вскоре стали свидетелями. Но в те дни наше монастырское житие было наполнено тихой радостью и сладкой иллюзией пребывания в иной, нежели советская, реальности. Вот оно, истинное, полновесное бытие. Литургия воспринималась не как ежедневная служба с непостижимыми, прекрасными символами, а как подлинное стояние на границе двух миров. Эта граница материи и духа виделась в иконах, а проходила она через сердце, трепетавшее от прикосновения к горнему миру. Прикосновение это было, к сожалению, кратковременным. Во время службы суетные мысли постоянно с небывалой настырностью возвращали на землю. И не просто на землю, а в какое-то смрадное хранилище дурных воспоминаний и непристойных мечтаний.
Но все же это был, хотя и очень несовершенный, опыт молитвы. Паломников в монастыре было немного. В храме стояли в основном монахини. Несколько очень пожилых монахинь в схимнических облачениях, расшитых белыми крестами, ангельскими головками, обрамленными крыльями и трудноразличимыми славянскими письменами, сидели на скамьях у западной стены. Мне так и не удалось увидеть их лиц. Они сидели с низко опущенными головами и перебирали узелки четок. Справа, у солеи, под иконой Успения Божией Матери молились разновозрастные дети.
Было несколько девочек от 3 до 10 лет и три отрока лет 10-12. Один из них время от времени одергивал девочек, начинавших перешептываться и шалить. Иногда он выводил из храма устававших стоять неподвижно самых маленьких — «немного проветриться». Происходило это тихо. И взрослых эти передвижения хотя и отвлекали от молитвы, но, очевидно, не очень сильно. Во всяком случае никто детям замечаний не делал. Нам с женой пришлось присутствовать в храме по очереди. Одному нужно было гулять с сыном. Стоять или даже сидеть на одном месте он долго не мог. Мы заходили с ним в храм, когда начиналось причастие.
Одна из девочек после первой же литургии подошла к нам, взяла нашего сына за руку и объявила, что проводит нас к источнику. Она рассказала, что зовут ее Аней, что мама ее иконописец и что они приехали из Москвы.
— Пойдем, Петя, — обратилась она к нашему сыну.
— Откуда ты знаешь его имя? — удивился я. Мы называли его по имени только при Танечке.
— Здесь все всё знают, — очень серьезно ответила Аня и кивком головы пригласила нас следовать за ней.
Мы обошли монастырь и спустились к рощице. Тропинка, петляя между сосен, вела вверх. Впереди шла пожилая женщина, тихо напевая «Богородице Дево, радуйся!» Неожиданно она упала на колени и, сделав земной поклон, стала целовать корень сосны. Потом быстро поднялась и продолжила путь.
— Это она стопочку Богородицы поцеловала, — объяснила Аня.
Мы остановились возле сосны. От ее ствола во все стороны по поверхности земли разбегались толстые корни. На одном из них было утолщение, очень похожее на небольшую женскую или детскую стопу. Оно было идеальной формы, ровно очерченное каким-то изящным орнаментом в виде кружочков, оплетенных тонкой жилкой.
Аня наблюдала за нашей реакцией.
— Ну как?
Я не знал, что ответить. На всякий случай произнес:
— Красиво.
— Папа с мамой не верят, что это след стопы Богородицы. Скорее всего игра природы. А вот явление чудотворной иконы здесь было на самом деле, — убежденно заключила Аня. — Но если народ верит, что это стопа Богородицы, пусть верит. Это никому не мешает. Просто народ любит поклоняться каким-то реальным вещам.
Слышать подобные суждения от десятилетней девочки было странно. Я понимал, что этот выросший в церковной семье ребенок знает много такого, о чем я и не догадывался. У нее было чему поучиться. И главное, с ней можно было говорить как с абсолютно взрослым человеком. Другое дело — было стыдно за собственное невежество и незнание того, что этой девочке ведомо с пеленок.
Мы перешли по мостику ручей. На полянке, с трех сторон окруженной деревьями, находилась небольшая часовня с Пюхтицкой иконой Божией Матери и деревянный сруб купальни. Возле него стояло несколько женщин и один старичок. Мы подошли к ним. В этот момент Петя стал вырываться и проявлять беспокойство. Нам предложили окунуться без очереди.
— Ишь как благодать чувствует, — проговорил старичок и перекрестился широким крестом.
— Ну, я побегу, — объявила Аня. — Надеюсь, дорогу найдете.
Мы поблагодарили ее, и она резво припустила обратно к монастырю.
Женщина, шедшая по тропинке впереди нас, стала объяснять, как нужно окунаться в святом источнике:
— Минимум три раза — в честь Пресвятой Троицы. А сможешь, так двенадцать — в честь двенадцати апостолов. Перекрестись, сына перекрести и говори: «Во имя Отца! Аминь! И Сына! Аминь! И Святаго Духа! Аминь!» И обязательно с головой.
— А ты лучше сейчас перед окунанием обойди три раза часовню и прочитай Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго!» — негромко посоветовала мне старушка, державшая под руку очень полную женщину с землистым лицом, туго перевязанным под подбородком косынкой.
— «Грешнаго» не надо говорить, — строго заметил старичок. — Господь и так знает, что грешный. «Помилуй мя!» — и все. Довольно.
— Ну не скажите, — стала перечить ему первая просветительница. — Господь-то все знает. Главное — себя грешником осознавать.
— Эт само собой. Осознавай. А к молитве ничего не добавляй. Ее так великие подвижники читали. И старцы…
Конца спора я не дослушал. Из купальни вышли четыре женщины. Я обернулся к жене:
— Полотенца-то мы не взяли…
— Какое полотенце! — сразу воскликнули несколько женщин.
— Вытираться нельзя ни в коем случае. Надевай одежду. Сразу высохнешь. Тело как в огне горит. Тут даже зимой не вытираются, — разъяснил премудрость купального делания старичок.
Вода оказалась ледяной. Первую молитву я прочитал не спеша и, прижав к себе Петю, присел, погрузившись в воду с головой. Петя громко закричал и стал вырываться.
— Исцели его, Господи! Верую, Господи. Помози моему неверию.
Я быстро окунулся еще два раза. Вместо крика раздался сильный кашель. Петя наглотался воды и, с ужасом глядя на меня, зашелся в кашле. Я быстро поднялся по скользким ступеням и надел на него рубашку. Он перестал кашлять, но начал дрожать всем телом, постанывая и издавая незнакомые звуки. Дело в том, что он с самого рождения не говорил и не смотрел в глаза, словно говоря нам: «На вас и глядеть не хочется».
В роддоме нам ничего не сказали о родовой травме, и мы упустили драгоценное время, когда можно было многое исправить. Отставание в развитии стало очевидным только через пол года. Врачи говорили, что так бывает, и уговаривали не беспокоиться. Петя был симпатичным ребенком. Когда был спокоен, то никаких следов болезни на его лице не было заметно. Но это были редкие минуты. Он все время куда-то рвался, убегал и, если не остановить, мог бежать, покуда хватало сил.
Я поблагодарил народ за то, что нас пустили без очереди, и повел притихшего Петю в поле. Жена взяла его за другую руку, и мы пошли, прислушиваясь к Петиному бормотанью.
— Ты что сказал? — спросил я его в сильном волнении.
Он что-то снова пробормотал. Мне показалось, что это был осмысленный ответ, что произошло чудо и Петя получил исцеление в святом источнике. Он все понимает и скоро начнет нормально говорить. Я сел в траву и посмотрел ему в глаза. Он не стал отводить взгляда. Это было действительно чудо. Впервые за четыре года сын смотрел осмысленно и прямо в глаза.
«Ежели бы на горящие угли его посадил, он бы еще и не так смотрел. Он бы все, что о тебе думает, сказал», — это был ничем не заглушаемый голос сомнения. Что бы хорошее ни происходило в моей жизни, сразу же включался внутренний собеседник, ехидно высмеивавший то, что меня порадовало. Мне бы возблагодарить Бога да помолиться усердно, а я, сомневающийся и смущенный, вдруг вспомнил, что мы еще не завтракали, и почувствовал такой приступ голода, что чуть не потерял сознание.
Жена все же настояла, чтобы мы не торопились, а вернулись кружным путем. Впереди, на склоне холма, виднелись две цепочки жниц: девушки в легких длиннополых платьях косили траву. Это были молодые монахини и послушницы. Я лишь однажды видел косцов на лугу. Это было в Вологодской области. Отец с двумя сыновьями обкашивал высокий пологий берег Шексны. Они шли друг за дружкой, одновременно с разворотом посылая косу широким полукружьем.

Звук косьбы — стали, срезающей траву, — походил на пение какой-то огромной птицы. Даже не пение, а стон от полученной раны.
Я стоял у воды, а косари, голые по пояс, мускулистые и широкоплечие, медленно двигались по склону, оставляя за собой холмики скошенной травы. Первым шел отец. Оба сына были на фоне зеленого склона, а торс отца, казалось, плыл по голубому небу. Над его головой завис жаворонок — да простят меня орнитологи, если это была другая птаха. Она часто трепыхала крылышками и, когда старший косарь уходил на несколько метров вперед, срывалась с места и каким-то нырком оказывалась вновь над его головой. Впереди Шексна широкой дугой уходила влево, скрываясь за кромкой противоположного берега. На нашем берегу чернели три избы. Весь этот пейзаж с рекой, ярким небом, косарями и жаворонком над ними являл собой такую радостную гармонию жизни, что хотелось запеть во всю мощь какую-нибудь раздольную песню и побежать, широко раскинув руки, пытаясь обнять эту необъятную красоту…
Приближаясь к девушкам, я невольно вспомнил эту картину. Мы услыхали пение кос. Платья из веселенького ситца какого-то старорежимного кроя ярко горели на фоне зеленого поля. На всех были белые косынки. Девушки легко в такт взмахивали косами. И хотя была пройдена добрая половина огромного поля, в их движениях не было заметно усталости. Эта неженская работа, предполагающая молодецкую удаль и силу, исполнялась с какой-то необъяснимой красотой и изяществом. Косарь не имеет женского рода. Косами всегда косили мужики. А женщины жали серпами и назывались жницами. Наши барышни-косари не были могучими бабами, в коих легко было представить сильных работниц. Напротив. Все они были худенькими, изящными. Оттого-то и была удивительной легкость, с которой они исполняли работу косарей. Эх, красота! Еще бы белую лошадь для полноты этой венециановской картины.
И только я подумал о белой лошади, как она, родимая, медленно вышла из-за кустов…
Трапезы в монастыре были скромными. Во всяком случае те, что проходили на горке. Широкий стол едоков на двадцать стоял под открытым небом. Кто-то приносил из кухни кашу или щи. Иногда появлялась картошка в мундире. Ржаной хлеб был собственной, монастырской, выпечки и казался невероятно вкусным. Ели молча. Богомольцы были пожилыми людьми. Лишь одна дама, в ком, без сомнения, угадывалась интеллигентная столичная штучка, была нашего возраста. Мы «поиграли в общих знакомых» и сразу же подружились. Это была замечательная писательница и поэтесса Олеся Николаева. Я горевал, что мы не обменялись координатами: через день ее уже не было. Но той же осенью мы снова встретились. Уже не в Пюхтицах, а в Печорах, куда она приехала со своим мужем — Владимиром Вигилянским. И встретились мы как старые знакомые, знавшие друг друга целую вечность. Но это было намного позже…
В Пюхтицах в это время находился приятель и соавтор моего однокурсника — известный литературовед Николай Котрелев. Эта встреча была особенно радостной. Я не знал о том, что Николай — церковный человек. Вольномыслие и безразличие моего однокурсника и его соавтора к «христианской проблематике» были настолько сильны, что было трудно представить верующего человека в числе его друзей. Хотя он по-своему человек замечательный и талантливый (из нашей университетской компании стал единственным полновесным академиком).
Николай жил в одном доме с нашей юной первознакомкой Аней. Ее мать, иконописец Ксения Покровская, и отец, физик Лев Покровский, открыто исповедовали Православие и в то время, когда интеллигенция перестала размножаться, не желая «плодить солдат коммунистам», подарили Родине пятерых граждан. (Кстати, у Николая Котрелева к сегодняшнему дню около 20 детей и внуков.)
С Николаем и Покровскими мы имели возможность общаться днем и после вечерней службы. Я почерпнул много полезного из этих бесед. Они были в Пюхтицах старожилами. Ксения писала для монастыря иконы, а Николай, если мне не изменяет память, работал с какими-то документами в монастырском архиве.
В Пюхтицах останавливались на денек-другой те, кто направлялись в Васкнарву к отцу Василию. Мы решили покинуть гостеприимную обитель и ехать с ними. Но Танечка уговорила нас остаться: ждали таллинского владыку Алексия. Она почему-то решила, что мне нужно непременно попасть к нему на беседу, и обещала меня представить ему. Остаться-то мы остались. И на службе архиерейской помолились, но после службы уехали на дневном автобусе в Васкнарву. Мне, конечно, хотелось пообщаться с владыкой. Да и архиерейский обед предполагал кое-что отличное от картошки в мундире. Но понимание своего недостоинства все же пересилило.
|
|