
Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Культурно-психологические основания
|
|
формирования образа «Другого»
в современной России*
Одной из основных характеристик политической культуры современной России является обостренный интерес к образу «Другого». Этот интерес, представляющийся необъяснимым и нелогичным некоторым критикам, может быть понят и объяснен, если рассматривать его с точки зрения иной, мифологической по своей природе, логики, доминирующей в политическом сознании и поведении в условиях социокультурного кризиса, когда на поверхность выходят и начинают играть активную роль мифологические основания культуры, ранее скрытые под ее рациональными элементами.
Реализация мифологических оснований свойственна каждой культуре в условиях кризисного развития. Она может проявляться в фундаменталистских ценностях и установках, направленных против нарастающих сложностей в процессе обновления жизни, в усилении этносепаратист-ских и тоталитарных настроений, в развитии нетрадиционных культов, эскапистских субкультурных сообществ, в подъеме радикально-националистических движений и групп, в активизации авторитарно-харизматического типа сознания.
Особенность российской политической культуры заключается не в большей ее «мифологичности» (объяснение специфики российской политической культуры, особенно любимое рядом западных авторов), а в содержании мифологии, выходящей на поверхность в условиях кризиса. В основе исследования процесса реализации мифологических оснований культуры, и прежде всего политической культуры современного общества, лежит идея о проявлении социокультурного кризиса (конфликта ценностей) в форме идентификационного кризиса личности. Кризис идентичности является результатом постепенного разрушения представлений, лежащих в основе самоидентификации личности: о собственном Целостном, устойчивом «Я» (утрата самотождественности, начинающаяся нередко с исчезновения «признания» со стороны окружающих); о непрерывности своего существования во времени и пространстве, а также Разрушении системы личностных смыслов (потеря смысла жизни).
Евгеньева Т. В. Культурно-психологические основания формирования образа
другого» в современной России // «Чужие» здесь не ходят. Радиальная ксенофобия
олитический экстремизм в социокультурном пространстве современной России.
М.: РАН Центр цивилизациоиных и региональных исследований. Серия «Образы мира».
2004. Т. 2. С. 39-57.

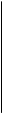
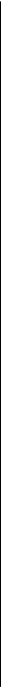
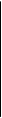
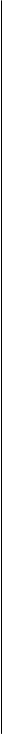 Среди работ, посвященных анализу появления основных признаков кризиса идентичности в современной России, можно назвать работы Л. Ионина, В. Ядова, а также обобщающее исследование «Тенденции социокультурного развития России, 1960-1990-е годы», в котором подроб-но рассматриваются настроения неудовлетворенности, предшествующие, как правило, разрушению самоидентификации значительной части членов общества. Авторы работы выделяют такие элементы формирующегося кризиса идентичности, как ломка жизненных стереотипов, маргинализация, ощущение отверженности, сопровождающееся психологическим дискомфортом.
Среди работ, посвященных анализу появления основных признаков кризиса идентичности в современной России, можно назвать работы Л. Ионина, В. Ядова, а также обобщающее исследование «Тенденции социокультурного развития России, 1960-1990-е годы», в котором подроб-но рассматриваются настроения неудовлетворенности, предшествующие, как правило, разрушению самоидентификации значительной части членов общества. Авторы работы выделяют такие элементы формирующегося кризиса идентичности, как ломка жизненных стереотипов, маргинализация, ощущение отверженности, сопровождающееся психологическим дискомфортом.
Самоидентификация личности в советский период основывалась на сложившейся в течение длительного времени системе социокультурных и политических мифов, определяющих представления личности как об окружающей ее природной и социальной реальности, так и своем собственном месте в ней. «Картина мира» советского человека, будучи мифологической по своей природе, достаточно успешно стабилизировала его сознание и поведение.
Разрушение этой «картины мира», начатое в годы перестройки и особенно активно продолженное после 1991 г., привело к дестабилизации всей системы представлений значительной части общества. Ценности и нормы, определявшие процесс самоидентификации личности, неожиданно изменили свое значение, а общепринятые цели деятельности оказались лишенными смысла. Разрушение самоидентификации личности в качестве «советского человека» при отсутствии адекватной компенсации лежит в основе формирования кризиса идентичности.
Реакцией личности на переживание кризиса идентичности могут стать как пассивное приспособление к ситуации, периодически сменяющееся немотивированной агрессией, направленной и на окружающих, и на самого себя и приводящее в итоге к полной деградации личности, так и активные поиски новой идентичности. Можно выделить две тенденции, по которым происходит процесс этого поиска.
Первая представляет собой отчуждение от большого социума, ориентацию на семью, бытовые проблемы, жизнь «одним днем». Многие исследователи отмечают, что для значительной части общества основной целью активности стало не стремление к самовыражению, к постижению смысла, а простое выживание. В этих условиях в структуре потребностей личности на первое место выходят потребности, связанные с необходимостью это выживание обеспечить, т.е. материальные потребности и потребность в безопасности.
Личность, не способная (как по объективным, так и по субъективным причинам) удовлетворить указанные потребности собственным силами, активно ищет объект, на который она смогла бы переложить этузадачу. Для значительной части населения таким объектом традиционно
остается государство. Не случайно именно у государства, персонифицированного в образе президента или правительства, требуют выплаты зарплаты работники не только бюджетных организаций, но и акционерах обществ, зарплата которых должна поступать из иных источников. Понимание же этого противоречия рядом бастующих шахтеров приводит не к смене объекта обращения, а к требованию национализации шахт.
Не будучи в состоянии не только контролировать, но в ряде случаев и просто понять смысл происходящих событий, личность как бы снимает с себя ответственность за их результаты. Добровольно передавая государству все свои права, она одновременно считает его ответственным даже за те проблемы, которые возникли в результате собственных действий личности. Типичными в этом смысле являются движения так называемых обманутых вкладчиков, требующих от правительства или президента компенсации своих собственных ошибок.
Если государство воспринимается личностью как неспособное обеспечить ее базовые потребности, личность в силу объективной необходимости ищет иные структуры, строящиеся в рамках социокультурных или территориальных общностей. При этом правовые основания существования данных структур для большинства значения не имеют. В массовом сознании формируется представление, для которого характерна своеобразная готовность пожертвовать правами и свободами ради безопасности и выживания. Сегодняшний герой — это не герой-спаситель, воплощенный в образе Ельцина на танке, а скорее «мэр в кепке», «хозяин», способный обеспечить выживание и безопасность если не для «всех», то хотя бы для «нас», если не в масштабах всего государства, то по крайней мере в конкретном городе или регионе.
Описанные представления находятся ближе всего к образу криминального сообщества, ассоциирующегося в массовом сознании с контролем над определенной территорией, обеспечением ее безопасности и защиты от внешних врагов в лице государства или враждебного сообщества, а также поддержание порядка внутри нее.
Для личности, ориентированной на выживание, нет ни образа «светлого будущего», ни образа «светлого прошлого». Время не движется ни вперед, к какой-либо даже самой утопичной цели, ни назад, к золотому веку. Оно как бы остановилось и начинается и заканчивается сегодняшним днем.
Второе направление, по которому происходит процесс поиска новой идентичности, представляет собой полную противоположность первому. Это обращение к неким «высшим» ценностям, воспринимаемым чаще всего в упрощенной, стереотипизированной форме и придающим внешнюю осмысленность ежедневному существованию. Наиболее ярким примером ценности такого типа стала «демократия», принимаемая то как «западная демократия» (особый образ жизни,
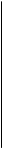
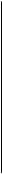
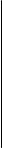

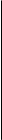
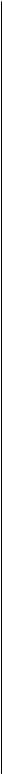 выступающий в качестве идеала, к которому следует стремиться России), то как сообщество «демократов», выступающих против многочисленных врагов «демократии» (коммунистов, фашистов и т.д.), то, наконец, как символ реформ, сформировавших первоначально в массовом сознании завышенные ожидания, способствовавшие впоследствии еще большему разочарованию.
выступающий в качестве идеала, к которому следует стремиться России), то как сообщество «демократов», выступающих против многочисленных врагов «демократии» (коммунистов, фашистов и т.д.), то, наконец, как символ реформ, сформировавших первоначально в массовом сознании завышенные ожидания, способствовавшие впоследствии еще большему разочарованию.
Можно выделить ряд уровней идентификационного кризиса, отражающих глубину общественного кризиса в целом: от усиления настроений неудовлетворенности через пограничную ситуацию к формированию собственно архаических структур и их мифологизации.
Прежде чем кризисные явления, нарастающие в обществе, осознаются политическими элитами, они становятся предметом непосредственного переживания, проявляясь на массовом уровне в подчас неосознаваемых людьми настроениях. Социально-психологическая природа массовых настроений состоит в том, что они возникают при расхождении ожиданий массового сознания с реальными возможностями их достижения. В этих условиях в обществе формируются массовые настроения, выражающиеся в ощущении неудовлетворенности существующим положением вещей.
Массовые настроения легко формируются и распространяются в обществе, лишенном четкой социальной структуры, с разрушающимися старыми и еще не сформированными социальными связями, что осложняет для личности процесс идентификации с социальной общностью, к которой она принадлежит. В процессе идентификации массовые настроения становятся основным фактором, определяющим поведение людей. С. Московичи описал этот процесс как процесс «иррационализации масс». Последняя «проявляет себя в разгерметизации эмоциональных сил, которые в подземелье ожидают случая вырваться с вулканической силой. Эти силы, вовсе не побежденные, выжидают благоприятного момента, чтобы снова вернуть свое господство. Он наступает, когда люди, раздраженные каким-то кризисом, собираются вместе. Тогда совесть индивидов теряет свою действенную силу и не может больше сдерживать их импульсов. Эти неосознанные эмоции — настоящие кроты в историческом пространстве, они используют его, чтобы оккупировать незанятую сферу. То, что поднимается на поверхность, не ново, оно существовало, не обнаруживая себя, в спрессованном виде, это подспудные силы, более или менее сконцентрированные и подавленные, сформированные и готовые к вступлению в действие»1.
На этом этапе главной функцией массовых настроений в обществе является, как правило, формирование и эмоциональное обоснование социально-политических действий достаточно больших общностей людей за счет объединения их в массу на основе общности переживаний.
Нарастание кризисных явлений порождает также специфическое психологическое состояние, которое можно определить как пограничное.
Пограничное состояние возникает как своеобразное предчувствие кризиса и ощущается личностью как распад привычной «картины мира», куда входят представления и о социально-культурной среде, и о своем собственном месте в ней. «Переживания и их метафоры особенно интересны в те редкие моменты, когда жизнь многих меняется сразу и резко, потому что силы шторма переламывают ее повседневную непрерывность. Тогда у людей пропадает привычка жить»2. В этом описании социокультурного кризиса конца XIX — начала XX в., данного А. Эткиндом, привлекает внимание последнее предложение, очень точно отражающее состояние человека, находящегося в пограничном состоянии.
Социокультурный кризис ломает господствующую в обществе систему ценностей и мифов, не предлагая на этом этапе адекватной замены. На личностном уровне это приводит к потере оснований для оценки происхо-дящих событий, проявляющейся в ощущении отсутствия возможности субъективного контроля над ними (потеря «смысла жизни»). Предметы и явления неожиданно перестают помещаться в привычные оценочные рамки, причудливо меняя местами свои положительные и отрицательные стороны. Иррациональность становится символом существования, возрождается интерес к мистическим культам.
В социально-психологическом плане пограничная ситуация воспринимается личностью как распад ролевой структуры привычной социальной среды, ведущей к разрушению оснований для самоидентификации, своеобразной потере собственного «Я». Отсюда особый, почти болезнен-гаый интерес каждой кризисной культуры к вопросам пола как последней опоры собственной идентичности и одновременно постоянно возрождающаяся тема бисексуальности и изменения пола, заставляющая вспом-ргать об архетипе «анима» К. Юнга, определяемом Е. Мелетинским как «часть души, скрывающая противоположный пол в индивиде»3.
Идентификационный кризис проявляется также в ощущении своеобразного «сужения» пространства и времени вплоть до эсхатологического настроения наступающего скорого конца того и другого. Не случайно этот период в массовом сознании начинают пользоваться все большей шопулярностью теории, проповедующие различные варианты «конца света» вплоть до указания конкретных дат). Предчувствие катастрофы порождает желание перенестись в иное, мифологическое время-пространство, неосознанно отождествляемое с золотым веком. По мнению И. Следзевс-кого, «в кризисных и катастрофических ситуациях исторический принцип движения социального мира во времени (удаление от мифологического начала мира) сменяется эсхатологическим: сжатие в одну точку [мифологического пространства сменяется его расширением в направлении мира социального, миры приобретают объемность и динамику, тогда [как социальное пространство-время свертывается в черную дыру (" распалась связь времен")»4.
13-2696
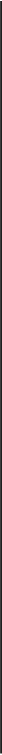 Ощущение «конца времени» приобретает особую остроту в перио. ды, когда социокультурный кризис совпадает по времени с концом века как это происходило в России в конце XIX в. и повторилось в конце XX в.
Ощущение «конца времени» приобретает особую остроту в перио. ды, когда социокультурный кризис совпадает по времени с концом века как это происходило в России в конце XIX в. и повторилось в конце XX в.
Схожесть, повторяемость реакций общественного сознания на кризис в разных обществах и в различные эпохи отмечал Л. Войтоловский наиболее последовательный из исследователей, можно сказать, апологет масс и массовых настроений в советской психологической науке. «Сходственные общественные группы, попадая в сходственные политические условия, реагировали одинаковым образом и становились ареной сходственных психических настроений. Возьмем ли мы английскую интеллигенцию (значит, и созданную ею литературу) времен Карла II, французскую — времен Реставрации, немецкую — 1920-х и 1930-х годов, итальянскую — при австрийском владычестве, всю западноевропейскую интеллигенцию и литературу после поражений 1848 г., русскую — периода 1907-1911 гг., — мы всюду встречаем одни и те же типические черты глубокого культурного кризиса...
Представление о мире получает явно упадочный характер. Искусство и литература окрашиваются в скептические и, цинические цвета. Мысль пугливо съеживается, и человечество объявляется обреченным на вечное ничтожество и страдания. В умах господствуют страх смерти и безудержный мистицизм. Разговоры и книги наполняются отрицанием жизни и воплями о банкротстве науки»5. Пограничное состояние нестабильно, оно требует обязательной компенсации, без которой может наступить распад, деградация личности. Наиболее доступной формой компенсации оказывается активизация архетипических структур сознания, связанных с замещением в нем как рациональных, так и традиционных представлений о собственной идентичности, о причинах происходящих в обществе изменений, о времени и пространстве, архетипическими представлениями, тяготеющими к архаической модели мира. «Архетип, — по определению К. Юнга, — есть своего рода готовность снова и снова репродуцировать те же самые или сходные мифические представления»6. Поэтому пограничная ситуация способствует активному процессу мифотворчества во всех областях культуры, включая политическую культуру. Мифология будущего, одновременно являющегося прошлым, попытка изменить реальность, «переиграть» жизнь порождает желание радикально перестроить социокультурную и политическую реальность на основе субъективно привлекательной модели.
Центральной моделью, своеобразной архетипической матрицей, на основе которой происходит процесс идентификации личности в кризисной ситуации, является категория «Мы—Они». Ее корни лежат в архаических пластах человеческой культуры, в рамках которой мифологизированное восприятие реальности строилось вокруг двух противоположных
полюсов. Другим вариантом этой модели, включающим оценочный элемент, становится категория «Свой—Чужой». Б. Поршнев, подробно исследовавший место указанных категорий в истории общества в книге «Социальная психология и история», делает вывод, что «реально существующая общность, взаимосвязь индивидов ощущается каждым из них посредством либо той или иной персонификации, либо различных обрядов, обычаев, подчеркивающих принадлежность " нас" к данной общности в отличие от " них"»7. Данная модель пребывает в общественном и индивидуальном сознании в латентном состоянии, не определяя в жесткой форме ориентации и поведение людей, однако в кризисных ситуациях может вытеснить в этом сознании более поздние рационалистические слои, заняв господствующее положение.
С наибольшей очевидностью функционирование данной модели проявляется в политической культуре общества. Так, в течение всей избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации в сознание избирателей настойчиво внедрялась мысль о невозможности «третьего пути» и необходимости выбора между демократическим развитием, воплощаемым в фигуре Б. Ельцина, или возвратом к прежним коммунистическим идеалам, выразителем которых стал Г. Зюганов. Результаты показали, что эта мысль нашла в массовом мифологизированном сознании благодатную почву.
' Восприятие мира на основе модели «Мы—Они» формирует представление о некой локальной территории, на которой проживает общность, как сакральном Космосе. На этой территории все явления и события приобретают дополнительный сакральный символический смысл. Для архаического человека жизнь вне общности, вне территории (понятие территории может иметь не конкретное, а экзистенциальное значение) не представляется возможной, так как индивидуальное «Я» не выделено и ite осознано. Анализируя эту сторону архаического сознания, французский исследователь Л. Леви-Брюль отмечает, что одной из основных психологических закономерностей его функционирования является «закон партиципации», в результате которого возникает ощущение мистического слияния личности с группой, идентифицирующейся с тотемом-предком или территорией ее обитания8.
В условиях социокультурного кризиса современный человек готов отказаться от собственной индивидуальности в обмен на чувство защищенности, безопасности, которое дает реальное или мифологическое слияние с группой. При этом на первом этапе кризиса на передний план выходят наиболее очевидные этнические или этноконфессиональные характеристики, по которым и происходит идентификация. Позже они дополняются идентификацией региональной, где регион выступает в качестве особым образом идентифицированного субъекта («Мы»), и возникает Мистическое единство общности с территорией, своеобразным аналогом
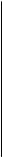
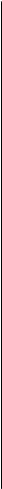

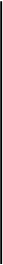 русской общины-мира. Массовое сознание как бы возвращается в состояние, когда, по определению С. Лурье, «крестьянин осознавал себя членом русского общества не как индивид, а как член конкретной общины конкретного " мира"»9, а «само государство, с этой точки зрения, понималось как система, объединяющая многочисленные " миры"...»10. «Мир» постепенно присваивающий себе все больше атрибутов государственности, начинает активно отстаивать свои специфические права в противовес мифологизированному образу «центра»,, стремящегося эти права отобрать. Обоснованием этих особых претензий становятся нередко ссылки на те или иные периоды истории, в которые данный регион играл значимую роль (например, более древнее происхождение регионального центра по сравнению со столицей). В качестве доказательства актуальности этой формы идентификации можно привести результаты значительного числа выборов руководителей региональных администраций, где основным мотивом голосования стала не политическая, а региональная ориентация кандидата. В этой ситуации кандидат, воспринимаемый массовым сознанием как ставленник «центра», оказывался в заведомо проигрышной ситуации.
русской общины-мира. Массовое сознание как бы возвращается в состояние, когда, по определению С. Лурье, «крестьянин осознавал себя членом русского общества не как индивид, а как член конкретной общины конкретного " мира"»9, а «само государство, с этой точки зрения, понималось как система, объединяющая многочисленные " миры"...»10. «Мир» постепенно присваивающий себе все больше атрибутов государственности, начинает активно отстаивать свои специфические права в противовес мифологизированному образу «центра»,, стремящегося эти права отобрать. Обоснованием этих особых претензий становятся нередко ссылки на те или иные периоды истории, в которые данный регион играл значимую роль (например, более древнее происхождение регионального центра по сравнению со столицей). В качестве доказательства актуальности этой формы идентификации можно привести результаты значительного числа выборов руководителей региональных администраций, где основным мотивом голосования стала не политическая, а региональная ориентация кандидата. В этой ситуации кандидат, воспринимаемый массовым сознанием как ставленник «центра», оказывался в заведомо проигрышной ситуации.
Для идентификации с общностью, воспринимаемой как «Мы», существенное значение имеет образ «Их», врагов и недоброжелателей. По определению Б. Поршнева, «Они», «Чужие», можно сказать, — сквозная категория социальной психологии в не меньшей степени, чем парная ей категория «Мы», «Свои»". «Они» могут быть неперсонифицированы, но обязательно хитры и могущественны.
Для архаического сознания характерно противопоставление между «Своей» территорией и неизвестным неопределенным пространством, которое ее окружает. Чужая, «не наша» территория пребывает в состоянии хаоса, ее соседство вызывает ощущение исходящей от нее опасности, грозящей разрушить целостность нашего Мира. Для большинства мифологических сюжетов характерно отождествление сил, негативно воздействующих на созданный богами Мир, с врагами богов, демонами.
«Длительные, по видимости нормальные отношения между этническими группами, — отмечает А. Ахиезер, — мгновенно разрушаются в моменты кризисов любого типа, так как может оказаться, что в соответствующей культуре разрешение конфликта видится именно на пути избиения, изгнания иной этнической группы. Происходит, казалось бы, невероятный возврат к оттесненным, исчезнувшим программам архаических пластов культуры»12.
Идентифицирующую роль образа врага в политической мифологии отмечал Г. Маркузе: «Свободные институты состязаются с авторитарными, стремясь превратить образ Врага в могучую силу внутри Системы-Эта смертоносная сила стимулирует рост и инициативу... посредством превращения общества в, целом в обороняющееся общество. Ибо враг существует постоянно... Он равно угрожает нам во время войны, так и в
мирное время,...он таким образом встраивается в систему как связующая ее сила»13.
В современной российской политической мифологии реальные соци-.альные и политические проблемы нередко подменяются архаическим по своему происхождению представлением о вечной борьбе двух мифологизированных общностей («демократы» — «коммунисты», «патриоты» — «предатели», «наши» — «не наши»), где образ врага становится основным элементом, обеспечивающим сплоченность.
Категория «Мы» является не только первичной формой самоиденти-фикации личности, но и простейшим способом организации пространства и времени.
Временные представления архаического сознания характеризуются разделением на сакральное мифологизированное время, располагающееся в прошлом и периодически воссоздающееся посредством ритуала, и профанное время, начинающееся и заканчивающееся сегодняшним днем. История подразделяется на два неравноценных периода: предыстория, мифологическое время, отдельные элементы которого служат для объяснения происходящего в настоящем, и собственно история, начинающаяся, как правило, здесь и сейчас. А историческое развитие воспринимается не как движение в будущее, а как развитие в направлении к прошлому, ж тому мистическому периоду, где заложены основы, корни настоящего. М.Элиаде, в работе «Космос и история» подробно исследовавший модели пространства и времени, характерные для мифологического сознания, утверждает, что «через все поколения проходит красной нитью Сопротивление конкретному историческому времени и стремление периодически возвращаться к мифологическому Первоначалу, к " Великому времени"»14.
В мифологическом восприятии прошлое продолжает жить в настоящем, постоянно находится как бы внутри него. Оно предстает гораздо более живым и привлекательным, чем настоящее. Культурные герои «прошлого продолжают определять настоящее, а события прошлого заново воспроизводятся в настоящем посредством специальных ритуалов. По мнению М. Элиаде, с помощью ритуала общность пытается как бы воссоздать сакральное мифологическое время.
Этим объясняется кажущееся необъяснимым на рациональном уровне чересчур эмоциональное отношение сознания к историческим событиям давнего прошлого, усиливающееся в условиях кризиса. Это отношение можно было наблюдать, например, среди участников массовых Шитингов в Татарстане в начале 90-х годов XX в., посвященных очередной годовщине взятия. Казани войсками Ивана Грозного. Казалось, участники митингов воспринимали эту трагедию как происходящую здесь и 1ейчас. В мифологизированном прошлом лежат основные мотивировки Деятельности партий и движений национал-патриотической ориентации («Великая Россия», Украина, Булгария и т.д.).
I
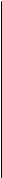


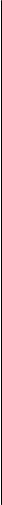
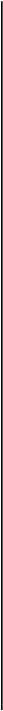 В условиях идентификационного кризиса история становится тем экзистенциальным пространством, в котором личность заново находит свою идентичность, смысл своего существования, основу для объединения с общностью. При этом в качестве основания для создания исторической мифологии могут быть избраны реальные исторические события оказавшие как позитивное, так и негативное влияние на развитие общности. Американский исследователь в области этнической психологии В. Вол-кан определяет их так: «избранная общая травма» и «избранная общая слава»15.
В условиях идентификационного кризиса история становится тем экзистенциальным пространством, в котором личность заново находит свою идентичность, смысл своего существования, основу для объединения с общностью. При этом в качестве основания для создания исторической мифологии могут быть избраны реальные исторические события оказавшие как позитивное, так и негативное влияние на развитие общности. Американский исследователь в области этнической психологии В. Вол-кан определяет их так: «избранная общая травма» и «избранная общая слава»15.
При этом ближайшая история ассоциируется, как правило, с действиями сил зла, как бы извратившими изначально «правильное» направление развития, что и привело к кризису, а «настоящая» история переносится все дальше в прошлое. Так, в начале перестройки «настоящая» история ассоциировалась с ленинским периодом, а врагом был Сталин, позже «настоящая» история переместилась на дореволюционный период, а роль врагов играли уже большевики. С точки зрения противоположной мифологии «настоящая» история, наоборот, заканчивается со смертью Сталина, а главным врагом становится уже Горбачев.
«В мифологическом сознании понятие времени — нелинейное, цикличное, обратимое, вектор которого повернут в прошлое»'6. Нерасчлененность прошлого и настоящего в мифологическом сознании рождает веру в возможность в очередной раз начать жить сначала, в частности, вернуться в любой, представляющийся субъективно привлекательным отрезок истории. «Великое время» М. Элиаде в российской культуре существует в постоянно возрождающемся образе золотого века.
Место этого образа в культуре конца прошлого века является одной из центральных проблем в книге А. Эткинда, содержащей социально-психологический анализ культуры Серебряного века17. Тема об особой роли Серебряного века в развитии российской культуры стала популярной в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века. Опираясь на миф о золотом веке, различные политические партии и движения в зависимости от своей ориентации предлагают варианты возврата в тот или иной период нашего мифологизированного прошлого.
Ориентация на прошлое и отсутствие четких представлений о буду щем, свойственные мифологическому сознанию, вынуждают его подменять описание цели описанием средств ее достижения, что позволяет не выходить за рамки постоянно длящегося «сегодня». Так, произошла своеобразная мифологизация понятия «реформа» в современной России; при описании реформ главной становится не их цель, а тема преодоления препятствий на пути к цели. На уровне массового сознания концентрация на сегодняшнем дне; своеобразное продление «сегодня» выполняет психологическую функцию компенсации страха и неуверенности, вызванных ощущением «конца времени».
Такое явление массового мифологического сознания, как персонификация причинности, также связано с моделью «Мы—Они». Все происходящие события рассматриваются в нем как проявления чьей-то доброй или злой воли. По мнению К. Юнга, «первобытный человек исходит из следующей предпосылки: причиной всего является невидимая произвольная сила», именно поэтому «люди всегда нуждались в демонах и никогда не могли жить без богов»18.
Все благоприятные события связаны в мифологии с волей Бога или его воплощения в виде Вождя, Героя, все враждебное, негативное есть результат действий таинственного врага. Отсюда выделение и мифологизация вождя, который становится центром, организующим общность, и приобретает сакральные функции. Вождь наделен особой, недоступной простому человеку связью с прошлым, с его героями, являясь как бы мистическим их воплощением. От них он черпает свои сверхъестественные возможности влияния на историю. Не случайно каждое время ищет и находит в истории собственных культурных героев, играющих роль своеобразных тотемов, покровителей сегодняшних политических вождей. Действия, воспринимающиеся как враждебные по отношению к тотему, вызывают гораздо более сильную эмоциональную реакцию, чем подобные действия, направленные против любого реального участника общности. Уничтожение тотема — это конец, разрушение всей общности. Именно так воспринимались значительной частью общества предложения о захоронении тела В. И. Ленина. Аргументы, связанные с историко-культурной или научной значимостью его сохранения, являются в большинстве своем лишь неосознанной рационализацией страхов, заложенных в массовом сознании.
В процессе всей истории развития человеческого сообщества мифологические основания политической культуры, активизирующиеся в его кризисные периоды, рождали потребность в идентификации с вождем в качестве одного из главных условий самоидентификации личности. Живой или умерший вождь постепенно теряет в массовом сознании свойства живого человека и приобретает символические характеристики. Для понимания этих характеристик достаточно сравнить содержание мифологизированных биографий современных политических лидеров, претендующих на роль вождей разного уровня, в которых конкретные события личной жизни приобретают одинаковый символический смысл. Анализируя эти сочинения и сопоставляя основные элементы биографий, можно увидеть степень мифологизации образа того или иного политического Лидера.
Враг также индивидуализируется и приобретает символический смысл, так как через него в Мир приходит все враждебное и злое. Враждебные силы носят человеческий облик, однако это лишь маска, скрывающая оборотня (отсюда популярный в политической мифологии образ враже-
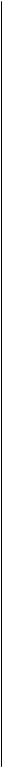 ского агента, агента влияния и т.д.)- Тайными кознями врагов можно объяснить и оправдать любые просчеты и неудачи, несоответствие результатов поставленным целям и т.д. А. Клибанов определяет это явление как «стремление решать сложные вопросы, редуцируя и упрощая их до плоской древней идеи, что в любой проблеме есть злобный виновник, который является не чем иным, как персонификацией мирового зла»19. Таинственные силы зла — причина всего плохого и неприятного в нашей сегодняшней действительности. В, зависимости от того, как идентифицировала себя данная культурная или политическая общность, на роль врага в последние годы предлагались и привычные евреи в мифологизированном варианте «жидомасоны», и окопавшиеся в новых демократических структурах коммунисты, или «продавшиеся Западу» демократы, пресловутые «агенты влияния», или конкретные личности, наделяемые особым, тайным влиянием на президента (от Бурбулиса до Коржакова и Чубайса и т.д.).
ского агента, агента влияния и т.д.)- Тайными кознями врагов можно объяснить и оправдать любые просчеты и неудачи, несоответствие результатов поставленным целям и т.д. А. Клибанов определяет это явление как «стремление решать сложные вопросы, редуцируя и упрощая их до плоской древней идеи, что в любой проблеме есть злобный виновник, который является не чем иным, как персонификацией мирового зла»19. Таинственные силы зла — причина всего плохого и неприятного в нашей сегодняшней действительности. В, зависимости от того, как идентифицировала себя данная культурная или политическая общность, на роль врага в последние годы предлагались и привычные евреи в мифологизированном варианте «жидомасоны», и окопавшиеся в новых демократических структурах коммунисты, или «продавшиеся Западу» демократы, пресловутые «агенты влияния», или конкретные личности, наделяемые особым, тайным влиянием на президента (от Бурбулиса до Коржакова и Чубайса и т.д.).
Если образ героя ассоциируется с понятием «чудо», то образу врага соответствует в политической мифологии понятие «заговора». При этом как бы подразумевается, что в основе и того и другого стоят некие сверхъестественные силы добра или зла, а конкретная личность — это лишь представитель (пророк или тайный агент) этих безличных сил. Отсюда следует сделать вывод, что обычный человек не только не может, но и не должен пытаться познать и тем более оценивать замысел высших сил, ему предлагается лишь верить в то, что замысел этот (по крайней мере если он исходит от сил добра) учитывает все его интересы и ожидания.
Выдвижение представления «Мы—Они» в качестве основы модели мира становится актуальным для современного человека в кризисные моменты развития общества. Эта модель приобретает законченную форму после формирования особой системы символов и ритуалов, с помощью которых происходит самоидентификация мифологических общностей, символизация сознания и ритуализация поведения, достигается эмоционально-психологическое слияние личности с группой. Роль символов и ритуалов в процессе идентификации культурных и политических общностей подробно исследована в психологической науке начиная с работ Г. Лебона и 3. Фрейда20. Представление «Мы—Они» служит одновременно основой для формирования и способом существования и усиления устойчивых социокультурных и политических мифов, характерных как для отдельной общности (политической), так и для общества в целом. Известный представитель психоаналитического направления в психологии Э. Эриксон, исследуя молодежные субкультуры, подчеркивал значение особых ритуалов, символов, норм поведения, одновременно поддерживающих, целостность группы и отделяющих ее от других21. Похожие выводы, опирающиеся на анализ городских субкультур в России, были сделаны в работах Т. Щепанской22.
Толпа, скандирующая очередной политический лозунг, необходима не только для оправдания акций политической власти или для воздействия на нее со стороны оппозиции. Толпа эта представляет ценность (по крайней мере в мифологической системе ценностей) сама по себе как главное условие, при котором за счет действия психологических механизмов массового внушения, подражания и эмоционального заражения личность окончательно теряет свои индивидуальные свойства и сливается с мифологической общностью, с «Нами». «Основной характерной чертой толп являелся слияние индивидов в единые разум и чувство, которые затушевывают личностные различия и снижают интеллектуальные способности, — заключает С. Московичи, анализируя работы Г. Лебона. — Каждый стремится походить на ближнего, с которым он общается. Это скопление своей массой увлекает его за собой, как морской прилив уносит гальку. При этом все равно, каков бы ни был социальный класс, образование и культура участвующих»23. Ритуал помогает его участникам освободиться от страха как перед мистическим врагом, так и перед неизведанным, не поддающемся восприятию будущим.
Повсеместное строительство многочисленных памятников-идолов является столь же необходимым элементом мифологического сознания, как и последующее их торжественное разрушение. Из глубин мифологического сознания происходит и господство «магии имени», эта не до конца осознанная вера в то, что изменение названия города, района или улицы (так называемое возвращение исторических названий) сможет изменить к лучшему и жизнь их обитателей. Разрушение символов прошлого создает иллюзию «управления временем», являющегося в мифологическом сознании одним из признаков власти. Новая политическая власть символически уничтожает старую, новый политический миф уничтожает материальных носителей старой мифологии24. Конфликтогенный потенциал модели «Мы—Они» проявляется в представлении о постоянно происходящей в мире борьбе добра, ассоциирующегося с «Нами», и Шла, ассоциирующегося с образом «Их» («Своих» против «Чужих», героя против врага). При этом борьба ведется не только, а возможно, даже не столько с реальными, но и с давно умершими «врагами», являющимися символами иной, враждебной «Нам» мифологии.
Конфликтогенный потенциал мифологического сознания усиливается за счет специфического отношения к моральным нормам и предписаниям Как к действующим только в рамках «нашего» реального или экзистенциального пространства. «Чужое» пространство населено врагами, оборотнями, «нелюдями», в борьбе с которыми морально оправданы любые Методы, в том числе нарушающие как божьи, так и человеческие законы. Вполне актуально читается сегодня вывод, сделанный К. Юнгом в середине 30-х годов: «Человека сегодняшнего дня... поскольку он приспособлен к своей среде... не смутит никакая подлость со стороны его груп-
20'
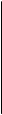
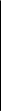
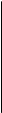

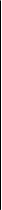
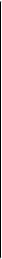
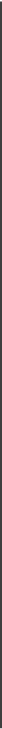 пы — тем более что большинство его сотоварищей свято верит в высочайшую справедливость своей социальной организации»25.
пы — тем более что большинство его сотоварищей свято верит в высочайшую справедливость своей социальной организации»25.
Модель «Мы—Они» есть устойчивый элемент познания окружаю-щей природной и социальной действительности, присутствующий в каждой культуре, в том числе и в политической. Однако исследователи российской истории утверждают, что в России всегда преобладал тип культуры, характеризующийся жестким противостоянием, постоянной борьбой двух начал: добра и зла, как на уровне отдельной личности, так и общества в целом. По мнению А. Ахиезера, «в основу анализа самобытности страны должен быть положен раскол, он пронизывает культуру, социальные отношения, воспроизводственную деятельность. Он в фокусе всей жизнедеятельности, предмет борьбы и одновременно элемент среды, к которому следует приспособиться и который накладывает на общество оттенок уникальности»26.
В массовом сознании это противостояние дополняется верой в существование абсолютной Правды и представлением о том, «что предельно совершенное состояние является изначальным непреходящим состоянием человеческого рода на земле, не химерой, не воображением, а реальным достоянием, насильственно отчужденным, однако подлежащим возврату по законной принадлежности»27. На основании этого представления строится оценка происходящих событий.
С появлением русской интеллигенции идея Правды жестко ассоциируется с понятием «народ», воспринимаемым не как совокупность отдельных личностей и групп, а в качестве своеобразной мифологической общности, обладающей правом на абсолютную истину. Это же право присваивали себе политические партии и организации, выступающие от имени народа, откуда следовало, что все несогласные с их позицией автоматически становились врагами народа, носителями Кривды, т.е. частью тех самых «Они», по отношению к которым были оправданы любые методы борьбы. В работе «Архетип и символ» К. Юнг отмечает, что «коммунистический мир имеет один великий миф... Это — свято почитаемое архетипическое видение Золотого века (или Рая), где в изобилии имеется вес для каждого и где всем человеческим детским садом правит великий, справедливый и мудрый вождь»28.
С представлением о существовании абсолютной Правды связан мессианизм российской политической культуры (зная истину, необходимо поделиться ею с другими, а если они не захотят нас слушать, навяжем им нашу истину с помощью насилия, так как они просто не понимают своего счастья), а также такое специфическое явление русской православной культуры, как соборность. Не претендуя на полное философское осмысление этого сложного и многогранного понятия, можно выделить в нем аспект, непосредственно связанный с темой исследования. Соборность как мистическое единство противостоит понятию демократии, так
как в ней невозможно существование иного мнения, позиции меньшинства. Любой выпадающий из общности автоматически становится носителем ложных идей, частью враждебных «Они».
В содержательном плане процесс мифологизации массового сознания и поведения на нынешнем этапе социокультурного и социально-политического кризиса может быть представлен в виде нескольких направлений, каждое из которых содержит в себе потенциальную основу будущих политических мифов. На соотношение этих направлений в массовом политическом поведении влияют как историко-культурный характер социальной среды, так и степень внедрения в массовое сознание мифологических представлений.
Одно из них связано с потерей личностью собственной идентичности, что мотивирует поиск новых форм и способов идентификации с культурной и социальной средой. Для кризисной ситуации характерна специфическая форма самоидентификации личности через экзистенциальное слияние с группой, ее символами, мифами (воспринимаемыми как наконец найденная Правда), территорией (воспринимаемой как сакральный Космос), мифологизированными представлениями о времени и развитии общества (воспринимаемыми как подлинная История). Каждая из сегодняшних политико-мифологических общностей пишет свою мифологию и поддерживает ее с помощью собственной системы символов и ритуалов. Активизация мифологических оснований политической культуры связана также с персонификацией представлений о причинах происходящих в обществе событий. Объяснения этих причин даются с помощью образов «добра—зла», «правды—кривды», «героя—врага», так как мифологическая логика не признает возможности существования без личной, объективной, случайной причины события или явления, ставя на ее |место реальную или мифологическую личность или группу. При этом современный политический процесс представляется своеобразным мистическим отражением прошлых событий, заставляя постоянно искать исторические аналогии, символические указания на будущее развитие. Мифологизация политической культуры в кризисной ситуации приводит к активизации мифологических представлений о времени и пространстве. Большинство моделей социально-политического и экономического развития общества, предлагаемых различными политическими Вилами, строится по принципу переноса времени (возврата в тот или иной период прошлого) или переноса пространства (переноса в Россию Кой или иной, как правило, западной модели развития).
Как пограничная ситуация, так и следующая за ней реализация микологических оснований политической культуры не может быть до конца осознана и проанализирована в рамках структурно-функционального подхода в политической науке. Наиболее продуктивным для понимания политической истории современной России представляется культурно-

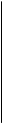
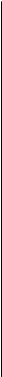
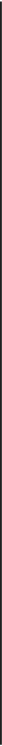 психологический подход, в рамках которого события и явления современной российской политической культуры следует рассматривать как своеобразную актуализацию мифологических символов и стереотипов свойственных наиболее древним, архаическим пластам ее культуры.
психологический подход, в рамках которого события и явления современной российской политической культуры следует рассматривать как своеобразную актуализацию мифологических символов и стереотипов свойственных наиболее древним, архаическим пластам ее культуры.
Наиболее близкой к данному пониманию мифа, в том числе политического мифа, является концепция А. Лосева, представленная в его работе «Диалектика мифа». Не случайно в этой работе А. Лосев подчеркивал, что миф — «не идеальное понятие и также не идея и не понятие. Это есть сама жизнь. Для мифического субъекта это есть подлинная жизнь со всеми ее надеждами и страхами, ожиданиями и отчаянием, со всей ее реальной повседневностью и чисто личной заинтересованностью. Миф не есть бытие идеальное, но жизненно ощущаемая и творимая, вещественная реальность и телесная, до животности телесная, действительность»29.
Миф в указанной концепции понимается как специфическая внеисто-рическая интуитивная форма познания окружающей природной (космологические мифы) и социальной (социальные мифы) реальности (а также место в ней самого познающего субъекта), в основе которой лежит нерасчлененность субъекта и объекта познания (личность познает себя через идентификацию с общностью, пространство воспринимается как «наше» или «не наше», прошлое — как необходимый элемент настоящего и т.д.). Миф как форма познания не требует дополнительных доказательств истинности содержащейся в нем системы образов и представлений, так как сам по себе является их обоснованием. Этим объясняется активизация мифа в периоды социокультурных кризисов.
Миф, включающий в себя элементы познания и обоснования социальной реальности (этнические, конфессиональные, социокультурные, субкультурные, а также собственно социальные мифы), может стать политическим в том случае, если с его помощью обосновываются существование определенной политической системы (режима) либо претензии определенной личности или группы на особую роль в системе политических отношений (в том числе претензии на власть). С этой точки зрения политический миф становится специфической формой социального мифа в отличие от архаического мифа, включающего элемент целенаправленного идеологического производства. При этом в современном политическом мифе сохраняется значительный элемент архаики.
Рассматриваемые в сборнике направления мифологизации культуры лишь намечают возможности мифологического сознания как базы для формирования культурных и политических мифов. Для возникновения мифа, кроме объективных мифологических оснований, необходима целенаправленная деятельность идеологизированных групп, состоящих, как правило, из представителей интеллигенции, посвящающих себя активному формированию и распространению конкретных мифов, выступая при этом от имени мистического «народа». Деятельность этих групп, возможно
не всегда осознаваемая всеми их представителями, активизирует процесс мифологизации культуры, поляризации ее на основе модели «Мы— Они», наполняет конкретным содержанием понятия «Свой—Чужой», «Добро—Зло», «Герой—Враг», мотивирует конкретное социальное и политическое поведение.
Примечания
I Московичи С. Век толп. М, 1996. С. 64.
I2 Эткинд А. Содом и Психея. Очерки интеллектуальной истории Серебряного Й5ка- М., 1996. С. 5.
И3 Мелетинский Е. Поэтика мифа. М„ 1976. С. 66.
; 4 Следзевский И. Архаический культурный текст как специфический мир пространства и времени // Пространство и время в архаических и традиционных культурах. М., 1996. С. 20.
5 Войтоловский Л. Очерки коллективной психологии. М.; Л., 1925. С. 5.
I < > Юнг К. Психология бессознательного. М, 1994. С. ПО.
Ц, ! 7 Поршнев Б. Социальная психология и история. М, 1979. С. 82.
8 См.: Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1930.
9 Лурье С. Метаморфозы традиционного сознания. СПб., 1994. С. 126.
10 Там же. С. 127.
II Поршнев Б. Социальная психология и история. М, 1979. С. 228.
12 Ахиезер А. Культурные основы этнических конфликтов // Общественные науки
современность. 1994. № 4. С. 118.
13 Маркузе Г. Одномерный человек. М., 1995. С. 133.
14 Элиаде М. Космос и история. М, 1987. С. 127.
15 См.: Волкам В., Оболенский А. Национальные проблемы глазами психоанали
тика с политическим комментарием // Общественные науки и современность. 1992.
№6. С. 41-42.
16 Мосейко А. Время и пространство в мировоззренческих системах африканских
культур // Пространство и время в архаических к традиционных культурах. М., 1996.
С. 43.
I |7 См.: Эткинд А. Содом и Психея. Очерки интеллектуальной истории Серебряного века. М„ 1996.
18 Юнг К. Психология бессознательного. М, 1994. С. 111. I: " Клибанов А. Народная социальная утопия в России. М., 1977. С. 85.
20 См.: Лебон Г. Психология масс // Психология народов и масс. М., 1995; Фрейд 3.
Коллективная психология и анализ Я // «Я» и «Оно». Труды разных лет. Кн. 1 Т 6
1991.
21 Эриксон Э. Идентичность: Юность и кризис. М, 1996.
22 Щепанская Т. Символика молодежной субкультуры. СПб., 1993.
; 23 Московичи С, Век толп. М, 1996. С. 108.
24 См.: Бочаров В. Власть и время в культуре общества // Пространство и время
8 архаических и традиционных культурах. М, 1996. С. 154-171.
25 Юнг К. О современных мифах. М, 1994. С. 237.
щ 26 Ахиезер А. Россия: критика исторического опыта (социокультурный словарь). М.( 1991.
7 Клибанов А. Народная социальная утопия в России. М, 1977. С. 108. К 28 Юнг К. Архетип и символ. М, 1991. С. 78.
29 Лосев А. Диалектика мифа // Философия. Мифология. Культура. М, 1991. С. 27.

|
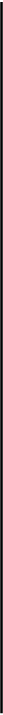
|
|