
Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Особенности переноса
|
|
Я не могу [слишком] распространяться о технических последствиях [для анализа] тех случаев, когда в переносе можно выделить комплекс мертвой матери. [Сам] этот перенос обнаруживает заметное своеобразие. Анализ сильно инвестирован пациентом. Наверно, следует сказать, что анализ — более, чем аналитик. Не то чтобы последний совсем не был [инвестирован]. Но эта инвестиция объекта переноса, при всем кажущемся наличии всей либидной гаммы, тональность ее глубоко укоренена в нарциссической природе. Несмотря на выразительные признания, окрашенные аффектами, часто весьма драматизированными, это выражается в тайной неприязни. Оная [неприязнь] оправдывается рационализациями типа: «Я знаю, что перенос — это обманка и что с вами, в действительности и во имя ее, ничего нельзя, так чего ради?» Эта позиция сопровождается идеализацией образа аналитика, который хотят и сохранить, как есть, и соблазнить, чтобы вызывать у него интерес и восхищение.
Соблазнение имеет место в интеллектуальном поиске, в поиске утраченного смысла, успокаивающем интеллектуальный нарциссизм и создающем такое изобилие драгоценных даров аналитику. Тем более что вся эта деятельность сопровождается богатством [психических] представлений и весьма
1 По-английски в тексте. — Примеч. П. В. Качалова.
замечательным даром к самоистолкованию, который, по контрасту, оказывает так мало влияния на жизнь пациента, которая если и меняется, то очень мало, особенно в аффективной сфере.
Язык анализанта часто характеризуется той риторикой, которую я [уже] описывал ранее в связи с нарциссизмом1, [а именно] — повествовательным стилем.
Его роль состоит в том, чтобы тронуть аналитика, вовлечь его, призвать его в свидетели в рассказе о конфликтах, встреченных вовне. Словно ребенок, который рассказывал бы своей матери о своем школьном дне и о тысяче маленьких драм, которые он пережил, чтобы заинтересовать ее и заставить ее сделать ее участницей того, что он узнал в ее отсутствие.
Можно догадаться, что повествовательный стиль мало ассоциативен. Когда же ассоциации возникают, [то] они [получаются] одновременны скрытному [душевному] движению отвода [инвестиций], а это значит, что все происходит, как если бы речь шла об анализе другого, на сеансе не присутствующего. Субъект прячется, ускользает, чтобы не дать аффекту повторного переживания захватить [себя] более, чем воспоминанию. Уступка же этому [повторному переживанию} повергает [субъекта] в неприкрытое отчаяние.
Действительно, в переносе можно обнаружить две отличительные черты; первая — это неприрученность влечений: субъект не может ни отказаться от инцеста, ни, следовательно, согласиться с материнским горем. Вторая черта — несомненно, самая примечательная — заключается в том, что анализ индуцирует пустоту. То есть, как только аналитику удается затронуть [какой-то] важный элемент ядерного комплекса мертвой матери, субъект ощущает себя на мгновение опустошенным, бело-матовым, как если б у него [вдруг] отняли объект-затычку, [отняли бы] опекуна [у] сумасшедшего. На самом-то деле, за комплексом мертвой матери, за белым горем матери угадывается безумная страсть, объектом которой она была и есть, [страсть], [из-за] которой горе по ней [и] становится невозможно пережить. Основной фантазией, на которую нацелена вся [психическая] структура субъекта [становится]: питать мертвую мать, дабы содержать ее в постоянном бальзамировании. То же самое анализант делает с аналитиком: он кормит его анализом не для того чтобы помочь себе жить вне анализа, но дабы продлить процесс оного [анализа] до бесконечности. Ибо субъекту хочется стать для матери путеводной звездою, [тем] идеальным ребенком, который займет место идеализированного умершего — соперника, неизбежно непобедимого, потому что не живого; [ибо живой] — значит несовершенный, ограниченный, конечный.
Перенос есть геометрическое место сгущений и смещений, перекликающихся между фантазией первосцены, Эдиповым комплексом и оральными [объектными] отношениями, которые представлены двойной записью: периферической — обманчивой и центральной — подлинной, вокруг белого горя мертвой матери. [Обманчива] по сути [и] потеря с матерью контакта [подлинного контакта],
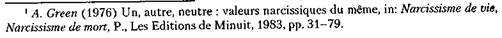 |
который тайно поддерживается в глубинах души, и все попытки замены оного [тайного контакта] объектами-заместителями обречены на неудачу.
Комплекс мертвой матери оставляет аналитика перед выбором между двумя техническими установками. Первая — это классическая техника. Она несет [в себе»] опасность повторения отношения с мертвой матерью в молчании. Боюсь, что если комплекс [мертвой матери] не будет обнаружен, [то] анализ рискует потонуть в похоронной скуке или в иллюзии, наконец, обретенной либидной жизни. В любом случае, впадения в отчаяние долго ждать не придется, и разочарование будет горьким. Другая [установка], та, которой я отдаю предпочтение, состоит и том, чтобы, используя рамки [анализа] как переходное пространство, делать аналитика объектом всегда живым, заинтересованным, внимающим своему анализанту и свидетельствующим о своей [собственной] жизненности теми ассоциативным и связями, которые он сообщает анализанту, никогда не выходя из нейтральности. Ибо способность анализанта переносить разочарование будет зависеть от степени, в которой он будет чувствовать себя нарциссически инвестированным аналитиком. Так что необходимо, чтобы оный [аналитик] оставался постоянно внимающим речам пациента, не впадая в интрузивные истолкования. Устанавливать связи, предоставляемые предсознательным, [связи], поддерживающие третичные процессы, без их шунтирования, без того, чтобы сразу идти к несознательным фантазиям, не значит быть интрузивным. А если пациент и заявит о таком ощущении [интрузивности истолкований], то очень даже можно ему показать, и, не травмируя [его] сверх меры, что это [его] ощущение играет роль защиты от удовольствия, переживаемого [им] как пугающее.
И так понятно, что [именно] пассивность здесь конфликтуализирована: пассивность или пассивизация — как первичная женственность, [как] женственность, общая матери и ребенку. Белое горе мертвой матери будет общим телом их усопшей любви.
Как только анализ вернет к жизни, по меньшей мере — парциально, ту часть ребенка, что идентифицировала себя с мертвой матерью, произойдет странный выверт. Вернувшаяся жизнеспособность останется жертвой захватывающей идентификации. То, что затем происходит, простому истолкованию не поддается. Давнишняя зависимость ребенка от матери, в которой малыш еще нуждается во взрослом, подвергается инверсии. Отныне связь между ребенком и мертвой матерью выворачивается наизнанку. Выздоровевший ребенок обязан своим здоровьем неполному поправлению вечно больной матери. [И] это выражается в том, что теперь мать сама зависит от ребенка. Мне кажется, что это [душевное] движение отличается от того, что обычно описывают под именем поправления. На самом деле речь идет не о положительных действиях, связанных с угрызениями совести [за ее неполное поправление], а просто о принесении этой жизнеспособности в жертву на алтарь матери, с отказом от использования новых возможностей Я для получения возможных удовольствий. Аналитику тогда следует истолковать анализанту, что все идет к тому, как если бы деятельность субъекта не имела больше другой цели, кроме как предоставления на анализе возможностей для толкований — [и] не столько для себя, сколько для аналитика, как если бы это аналитик нуждался в анализанте — в противоположность тому, как обстояло ранее.
Как объяснить это изменение? За манифестной ситуацией [скрывается] фантазия инвертированного вампиризма. Пациент проводит свою жизнь, питая свою мертвую [мать], как если бы [он] был единственным, кто может о ней позаботиться. Хранитель гробницы, единственный обладатель ключа от [ее] склепа, он втайне исполняет свою функцию кормящего родителя. Он держит [свою] мертвую мать в плену, [и узницей] она становится его личной собственностью. Мать стала ребенком ребенка. Вот так он [сам — пациент — и] залечит [свою] нарциссическую рану.
Здесь возникает парадокс: мать в горе, [или] мертвая [мать], если она [и] потеряна для субъекта, то, по меньшей мере, какой бы огорченной она ни была, она — здесь. Присутствует мертвой, но все-таки присутствует. Субъект может заботиться о ней, пытаться ее пробудить, оживить, вылечить. Но если, напротив, она выздоровеет, пробудится, оживет и будет жить, субъект еще раз потеряет ее, ибо она покинет его, чтобы заняться своими делами и инвестировать другие объекты. Так что мы имеем дело с субъектом [вынужденным выбирать] меж двух потерь: [между] смертью в присутствии [матери] или жизнью в [ее] отсутствии, Отсюда — крайняя амбивалентность желания вернуть матери жизнь.
|
|