
Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Мертвый отец и мертвая мать
|
|
Основываясь на интерпретации Фройдовской мысли, психоаналитическая теория отвела главное место концепции мертвого отца, фундаментальное значение которого в генезе Сверх-Я подчеркнуто в «Тотем и табу». Эдипов комплекс здесь рассматривается не просто как стадия либидного развития, но как [внутрипсихическая] структура; такая теоретическая позиция обладает своей внутренней цельностью. Из нее проистекает целый концептуальный ансамбль: Сверх-Я в классической теории, Закон и Символика в лакановской мысли. Кастрация и сублимация, как судьба влечений, внутренне связуют этот ансамбль общими референциями.
Мертвую мать, напротив, никто никогда не рассматривал со структурной точки зрения. В некоторых случаях на нее можно найти отдельные намеки, как в анализе [творчества] Эдгара По у Мари Бонапарт, где речь идет о частном случае ранней потери матери. Но узкий реализм [авторской] точки зрения накладывает [и] здесь [свои] ограничения. Такое пренебрежение [мертвой матерью] невозможно объяснить, исходя из эдиповой ситуации, поскольку эта тема должна была бы возникнуть либо в связи с Эдиповым комплексом девочки, либо в связи с негативным Эдиповым комплексом у мальчика. На самом деле дело в другом. Матереубийство не подразумевает мертвой матери, напротив; что же до концепции мертвого отца, то она поддерживает референции предков, филиации, генеалогии, отсылает к первобытному преступлению и к виновности, из него проистекающей.
Поразительно, однако, что [психоаналитическая] модель горя, лежащая в основе излагаемой концепции, никак не упоминает ни горе по матери, ни горе по отнятию от груди. Если я упоминаю эту модель, то не только потому, что она предшествовала нижеизложенной концепции, но и потому, что следует констатировать отсутствие между ними прямой связи.

Фройд1 в работе «Торможение, симптом и тревога» [«Hemmung, Symptom und Angst», 1925] релятивизировал кассационную тревогу, включив ее в серию, содержащую равным образом тревогу от потери любви объекта, тревогу перед угрозой потери объекта, тревогу перед Сверх-Я и тревогу от потери покровительства Сверх-Я. При этом известно, какую важность он придавал проведению различий между тревогой, болью и горем.
В мои намерения не входит подробно обсуждать мысли Фройда по данному вопросу — углубление комментария увело бы меня от темы — но хочу сделать
' Alias — Фройд. Мы предпочитаем фонетическую транслитерацию на русский немецкого имени Freud. — Примеч. П. В. Качалова.
одно замечание. Есть тревога кастрационная и тревога вытеснения. С одной стороны, Фройд хорошо знал, что наряду и с одной и с другой существуют много как иных форм тревоги, так и разных видов вытеснения или даже прочих механизмов защиты. В обоих случаях он допускает существование хронологически более ранних форм и тревоги, и вытеснения. И все-таки, в обоих случаях именно они — кастрационная тревога и вытеснение — занимают [у Фройда] центральное место, и по отношению к ним рассматриваются все иные типы тревоги и различные виды вытеснения, будь то более ранние или более поздние; Фройдовская мысль показывает здесь свой [двоякий] характер, [в осмыслении психопатологии] столь же структурирующий, сколь и генетический. Характер, который проступит еще более явно, когда он [Фройд] превратит Эдипа в первофантазию, относительно независимую от конъюнктурных случайностей, образующих специфику данного пациента. Так, даже в тех случаях, когда он [Фройд] констатирует негативный Эдипов комплекс, как у Сергея Панкеева1, он [Фройд] будет утверждать, что отец, объект пассивных эротических желаний пациента, остается, тем не менее, кастратором.
Эта структурная функция [кастрационной тревоги] подразумевает концепцию становления психического порядка, программируемого первофантазиями. Эпигоны Фройда не всегда следовали за ним по этому пути. Но кажется, что французская психоаналитическая мысль в целом, несмотря на все разногласия, последовала в этом вопросе за Фройдом. С одной стороны, референтная модель кастрации обязывала авторов, осмелюсь так выразиться, «кастратизировать» все прочие формы тревоги; в таких случаях начинали говорить, например, об анальной или нарциссической кастрации. С другой стороны, давая антропологическую интерпретацию теории Фройда, все разновидности тревоги сводили к концепции нехватки в теории Лакана. Я полагаю, однако, что спасение концептуального единства и общности в обоих случаях шло во вред, как практике, так и теории.
Показалось бы странным, если бы по этому вопросу я выступил с отказом от структурной точки зрения, которую всегда защищал. Вот почему я не стану присоединяться к тем, кто подразделяет тревогу на различные виды по времени ее проявления в разные периоды жизни субъекта; но предложу скорее структурную концепцию, которая организуется вокруг не единого центра (или парадигмы), а вокруг, по крайней мере, двух таких центров (или парадигм), в соответствии с особенным характером каждого из них, отличным от тех [центров или парадигм], что предлагали до сих пор.
Вполне обоснованно считается, что кастрационная тревога структурирует весь ансамбль тревог, связанных с «маленькой вещицей, отделенной от тела», идет ли речь о пенисе, о фекалиях или о ребенке. Этот класс [тревог] объединяется постоянным упоминанием кастрации в контексте членовредительства, ассоциирующегося с кровопролитием. Я придаю большое значение «красному» аспекту этой тревоги, нежели ее связи с парциальным объектом.
Напротив, когда речь заходит о концепции потери груди или потери объекта, или об угрозах, связанных с потерей или с покровительством Сверх-Я, или, в общем,
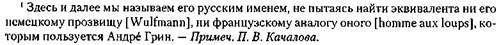 |
обо всех угрозах покинутости, контекст никогда не бывает кровавым. Конечно, все формы тревоги сопровождаются деструктивностью, кастрация тоже, поскольку рана — всегда результат деструкции. Но эта деструктивность не имеет ничего общего с кровавой мутиляцией. Она — траурных цветов: черная или белая. Черная, как тяжелая депрессия; белая, как те состояния пустоты, которым теперь так обоснованно уделяют внимание.
Моя гипотеза состоит в том, что мрачная чернота депрессии, которую мы можем законно отнести за счет ненависти, обнаруживающейся на психоанализе депрессивных больных, является только вторичным продуктом, скорее, следствием, чем причиной «белой» тревоги, выдающей потерю; [потерю], понесенную на нарциссическом уровне.
Я не стану возвращаться к тому, что полагаю уже известным из моих описаний негативной галлюцинации и белого психоза, и отнесу белую тревогу или белое горе к этой же серии. «Белая» серия — негативная галлюцинация, белый психоз и белое горе, все относящееся к тому, что можно было бы назвать клиникой пустоты или клиникой негатива, — является результатом одной из составляющих первичного вытеснения, а именно: массивной радикальной дезинвестиции, оставляющей в несознательном1 следы в виде «психических дыр», которые будут заполнены реинвестициями, [но эти реинвестиции станут только] выражением деструктивности, освобожденной таким ослаблением либидной эротики.
Манифестация ненависти и последующие процессы репарации суть вторичные проявления центральной дезинвестиции первичного материнского объекта. Понятно, что такой взгляд меняет все, вплоть до техники анализа, поскольку [теперь ясно, что всякое] самоограничение [психоаналитика] при истолковании ненависти в структурах с депрессивными чертами приводит лишь к тому, что первичное ядро этого образования навсегда остается нетронутым.
Эдипов комплекс должен быть сохранен как незаменимая символическая матрица, которая навсегда остается для нас важнейшей референцией, даже в тех случаях, когда говорят о прегенитальной или преэдиповой регрессии, ибо эта референция имплицитно отсылает нас к аксиоматической триангуляции. Как бы глубоко не продвинулся анализ дезинвестиций первичного объекта, судьба человеческой психики состоит в том, чтобы всегда иметь два объекта и никогда — один; насколько бы далеко ни заходили попытки проследить концепцию первобытного (филогенетического) Эдипова комплекса, отец, как таковой, присутствует и там, пусть даже в виде своего пениса (я подразумеваю архаическую концепцию Мелани Кляйн отцовского пениса в животе матери). Отец, он — здесь одновременно и с матерью, и с ребенком, и с самого начала. Точнее, между матерью и ребенком. Со стороны матери это выражается в ее желании к отцу, реализацией которого является ребенок. Со стороны ребенка все, что предвосхищает существование третьего, всякий раз, когда мать присутствует не полностью, и [всякий раз, когда] инвестиция ребенка ею, не является ни тотальной, ни абсолютной; [тогда, всякий раз], по меньшей мере, в иллюзиях, которые ребенок питает в отношении матери до того,
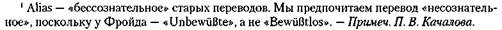 |
что принято называть потерей объекта, [все это] будет, в последействии, связано с отцом.
Таким образом, можно попять непрерывность связей между этой метафорической потерей груди, [последующей] символической мутацией отношений между удовольствием и реальностью (возводимой последействием в принципы), с запретом инцеста и с двойным изображением образов матери и отца, потенциально соединенных в фантазии гипотетической первосцены, [сцены], задуманной вне субъекта, [сцены], в которой субъект отсутствует и учреждается в отсутствие [своего] аффективного представления, что [зато потом] порождает [его] фантазию, продукцию [его] субъективного «безумия».
К чему эта метафоричность? Обращение к метафоре, незаменимое для любого существенного элемента психоаналитической теории, [становится] здесь особенно необходимым. В предыдущей работе я отмечал существование у Фройда двух версий потери груди. Первая версия, теоретическая и концептуальная, изложена в его статье об «отнекивании» [«Die Verneinung», 1925]. Фройд здесь говорит [о потери груди], как об основном, уникальном, мгновенном и решающем событии; поистине можно сказать, что это событие [впоследствии] оказывает фундаментальное воздействие на функцию суждения. Зато в «Кратком очерке психоанализа» [«Abrib der Psychoanalyse», 1938] он занимает скорее описательную, чем теоретическую позицию, как будто занялся столь модными ныне наблюдениями младенцев. Здесь он трактует данный феномен не теоретически, а, если можно так выразиться, «повествовательно», где становится понятно, что такая потеря есть процесс постепенной, шаг за шагом, эволюции. Однако, на мой взгляд, описательный и теоретический подходы взаимно исключают друг друга, так же как в теории взаимно исключаются восприятие и память. Обращение к такому сравнению — не просто аналогия. В «теории», которую субъект разрабатывает относительно самого себя, мутационное истолкование всегда ретроспективно. [Лишь] в последействии формируется та теория потерянного объекта, которая [только] так и обретает свой характер основополагающей, единственной, мгновенной, решающей и, осмелюсь так сказать, сокрушительной [потери].
Обращение к метафоре оправдано не только с диахронической точки зрения, но и с синхронической. Самые ярые сторонники референций груди в современном психоанализе, кляйнианцы, признают теперь, смиренно добавляя воды в свое вино, что грудь — не более чем слово для обозначения матери, к удовольствию некляйнианских теоретиков, которые часто психологизируют психоанализ. Нужно сохранить метафору груди, поскольку грудь, как и пенис, не может быть только символической. Каким бы интенсивным не было удовольствие сосания, связанного с соском или с соской, эрогенное удовольствие властно вернуть себе в матери и все, что не есть грудь: ее запах, кожу, взгляд и тысячу других компонентов, из которых «сделана» мать. Метонимический объект становится метафорой объекта.
Между прочим, можно заметить, что у нас не возникает никаких затруднений рассуждать сходным образом, когда мы говорим и о любовных сексуальных отношениях, сводя весь ансамбль, в общем-то, довольно сложных отношений, на копуляцию пенис — вагина и соотнося [все] пертурбации [этого ансамбля] с кастрационной тревогой.
Понятно тогда, что, углубляясь в проблемы, связанные с мертвой матерью, я отношусь к ней как к метафоре, независимой от горя по реальному объекту.
|
|