
Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Судьбы трансфера: методологические проблемы
|
|
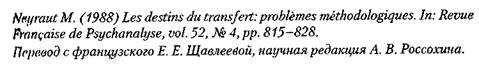 |
Когда Рене Дяткин спросил у меня мимоходом, согласен ли я обсудить проблему судеб трансфера, я тут же ответил утвердительно. Такая поспешность заслуживает, может быть, если не оправдания, то, по меньшей мере, прояснения; во всяком случае, несколько дней спустя я занялся проработкой методологической стороны вопроса.
В своей жизни я проходил анализ с Рене Дяткиным всего один раз в 1960-1964-х годах, и у меня имеется только та точка зрения на «транши»1 анализа, которую я приобрел, работая с вышеупомянутыми траншами в качестве аналитика, а не в качестве пациента.
В 1974 году был опубликован «Трансфер», написание которого началось в 1968 году и после ряда перерывов возобновилось в 1972 году. С тех пор я не знаю, правильно или неправильно я сориентирован, чтобы говорить о судьбах трансфера, но именно тогда и сформировалась моя позиция. Если я берусь за проработку методологической стороны вопроса, то это не значит, что я настаиваю на этой позиции. Я не скажу об этом ни больше, ни меньше, но тому, кто начнет критику моей эпистемологической позиции, буду вторить — буду одного мнения с теми, кто, отмечая ошибки, которые содержит такая позиция, относится с подозрением к тому или иному утверждению, поддерживаемому мною по этому вопросу. Но сразу же им замечу, что в отношении отсутствия четкой позиции, о чем я только что сказал, они находятся в точно таком же положении, ибо, став аналитиками, они сами определили судьбу трансфера, которая их и сделала таковыми; и если это вопрос о судьбах трансфера, то один из ответов, и не самый последний, мог бы сводиться к трансферу судьбы. Другими словами, я бы им сказал, что в царстве слепых, которое они так хорошо знают, я смог бы претендовать только на относительно завидное звание быть одноглазым.
Тем не менее, эпистемологический процесс, очевидно, не является закрытым.
Какие средства мы имеем, в строгом смысле слова, для критики и обсуждения судьбы трансфера? Именно в терминах эпилога, как говорят об истории, которая закончена, но к которой необходимо добавить еще главу, я услышал вопрос,
1 Транши анализа — повторные прохождения анализа у других аналитиков (или у тех же, но через некоторое время). — Примеч. А, В. Россохина
181.
адресованный мне: что стало с вами, чем стал я для вас, что вы сделали с трансфером?
Вопрос показался мне тем более настоятельным, что был правомерным, а таковым он был потому, что анализ велся способом, который оставлял мне свободу мысли, но еще более он научал меня этой свободе мысли; в том и заключается парадокс свободы, что она обязывала меня говорить об этом.
По размышлении оказывалось, что вопрос о судьбах трансфера относится не только к эпилогу или к продолжению, но и к становлению в полном смысле слова. Можно сказать, используя фотографическую аналогию, что это что-то вроде глубины поля, проработка в бесконечности, но, в то же время, и в наиболее приближенной точке. Короче говоря, судьба трансфера своим загадочным названием ставила трансфер в перспективу, обусловленную как предшествующим анализом, так и его следствиями.
Предшествующие определения трансфера ставят проблему его необходимости. В чем, могут законно спросить, насущность трансфера, и одного более чем другого? Если бы существовало абсолютное знание, можно было бы говорить о доле необходимого и случайного. Каждый человек хотел бы знать, что в его жизни произошло неотвратимо, а что привнесено случаем.
Чем строже наука, тем больше она утверждает закон над реальным и тем больше принимает в расчет случайности. Комическая сторона дела состоит в том, что чем более науки приближаются к реальности, чем более они претендуют на точность, тем более они отдают дань случайности. С этой точки зрения, и парадоксальным образом, мы не так уж плохо сориентированы, чтобы сказать, что, несмотря на случайность встреч, на случайности истории, вырисовывается что-то необходимое и неизбежное, где трансфер как раз представляет собой одну из фигур.
Но сразу же уточним, что если анализ как случай, как событие в жизни, и зависит, с одной стороны, от случайности, от непредвиденного, от неожиданностей, то, с другой стороны, имеет отношение к необходимости, причины которой обнаружатся только aprè s-coup (задним числом) и проявятся через эту неожиданность, через эту случайность, через это событие. Иными словами, только ретроспективно мы можем говорить о какой-либо судьбе трансфера. Именно путем aprè s-coup мы можем вообразить конфигурацию, предшествующую трансферу. Во всяком случае, именно единым движением ума мы должны уловить и предшествующие конфигурации, и случайность встречи. Мы можем прыгнуть в поезд только на полном ходу, иначе говоря, мы никогда не узнаем, как фантазм абсолютного знания подсказал нам то, чем эта встреча обязана случаю, а чем необходимости.
Если это уточнение должно быть сделано прежде всего, прежде всякого методологического процесса, то нужно иметь в виду, что две школы иногда целенаправленно, а иногда безотчетно ставят акцент, либо на эффекте чистого повторения трансфера, либо на том, что мода определила как рамку аналитической ситуации. Прежде чем выносить решение об обоснованности одного или другого направления, нужно сказать, что они неразделимы и неразделимы потому, что одновременны. И это по причине, зависящей от самой природы трансфера, который может пониматься только как столкновение с актуальным (и для того, чтобы расширить термин, который мы
продолжаем вводить), qui pro quo1, то есть как воскрешение предшествующей фигуры но фигуре момента.
Более ли уместно начать анализ с мужчиной? Или же более полезно начать его с женщиной? Это вопрос совершенно абстрактный. Абстрактный не означает, что он лишен смысла, он им даже перегружен до степени неузнаваемости, но он находит оправдание своего смысла только после того, как совершенно конкретная встреча имела место.
Пруст в одной из своих блестящих миниатюр, которые иногда следуют за обширными отступлениями, говорит о ревности, наличие которой зависит от женщины, в том смысле, что речь идет о такой-то женщине, а не о другой, об Альбертине в данном случае; что без нее ревность вовсе и не появилась бы.
Но отсюда видно, что именно эти отступления и составляют суть дела. Анализ, некоторым образом, - это необходимое отступление. Он никогда сразу и мгновенно не направляется к главному, и поэтому трансфер появляется внезапно, захватывает врасплох и сам удивляется, что он есть.
Ревность, введенная сюда как бы невзначай, увлекает трансфер к его самой высшей точке, к точке трансферентной Любви. Таким образом, говорить о судьбе трансфера — это равносильно тому, чтобы говорить о «до» и «после», не по поводу какого-то события, а именно о Любви.
Сказать о Любви, появляющейся внезапно, — это значит сказать, что она была подготовлена издавна, и самые простые вопросы, относящиеся к ней, становятся самыми трудными: может ли быть вытесненным трансфер?
Заметим сразу же, что трансфер — центральное происшествие анализа, сердце Реактора — не входит в метапсихологию, если подразумевать под метапсихологией тексты Фройда, которые к этому относятся. Мотор психического аппарата не входит в состав психического аппарата. Влечения знают свою судьбу.
Трансфер же, зависящий по своей природе от движения, от перемещения, есть, как справедливо заметил Лакан, «отыгрывание бессознательного». Трудно сказать, что он может быть вытесненным, как та или иная репрезентация. Но весь аналитический опыт показывает его изменчивым, появляющимся вновь, разнообразным. Напрашивается образ блуждающего огонька, он вспыхивает во множестве различных мест; дело в том, что по самому своему проявлению он оказывается половодьем, возвращением вытесненного или, может быть, более просто потенциальным содержанием.
Другое общепризнанное мнение связывает его еще более тесно с любовью; скорее речь идет не о его вытеснении, а о том, что он трансформируется, меняет направление, показывает другую свою грань и превращается в ненависть, которая чаще всего принимает ученую форму так называемого негативного трансфера.
Пусть меня здесь правильно поймут: любое психическое содержание, каким бы оно ни было, может быть вытесненным, удерживаемым под спудом, превращенным в свою противоположность. Но трансфер по своему размаху превосходит само вытеснение. Вопрос приобретает особое значение, когда речь идет о том, чтобы
1 Qui pro quo (лат.) — одно вместо другого, путаница, недоразумение. — Примеч. А. В. Россохина.
вынести решение о судьбе трансфера, так как можно было бы утверждать, что после испытания анализом, после его разъяснения, именно к вытеснению он и ведет, подталкивает, если можно так сказать. В связи с этим следует сделать утверждение, что нужно кончать с ликвидацией, что нужно ликвидировать ликвидацию. Ни в коем случае нельзя утверждать, что через саму интерпретацию трансфер будет разрушен, так же как нельзя сказать, что бессознательное может быть отмененным. Это не мешает никоим образом тому, чтобы та или иная часть его самого, через которую он обнаруживается, была сначала вытеснена, чтобы затем выйти на поверхность. Я понимаю под частью его самого такую частичную фигуру терапевта, такое влечение, к нему относящееся, такое расчленение, совершающееся над самим лицом, такую метонимию в простом смысле pars pro toto 1которая его обозначает и, в то же самое время, мешает его заметить. Именно через последовательные атаки этих мимолетных появлений и совершается некая кристаллизация.
Разумеется, я об этом много говорил, эти появления, оказывающиеся фантомами, осмелюсь сказать, в конкретном смысле слова, возникают не на пустом месте, а в ноле, ограниченном контртрансфером, и задача состоит в том, чтобы засеять это поле, которым подкармливается трансфер. Наивная метафора, которую я здесь развиваю из посева, наивна только от невозможности просчитать перспективу, ибо стоит лишь бросить взгляд дальше этой точки горизонта, как за пределами мгновенной и неудержимой Любви, которая, по выражению Пруста, «зависит от женщины», вырисовывается другая Любовь, абсолютная и незыблемая, неосязаемая и направленная на Другого как такового, то есть как на абсолютного представителя инаковости.
На чем основывается это утверждение? На следующем: разъяснение трансфера имеет смысл, если оно разоблачает одновременно перенос предшествующей фигуры на актуальную фигуру и сам принцип этого перемещения; когда оно не заставляет только расшифровывать ближайшую загадку, которая предлагается в очередном отрезке, но обнаруживает, в то же время, внутренний синтаксис, делающий возможной эту замену. Чтобы эвристическое значение трансфера не останавливалось на интерпретации, будь она даже удачной в конце очередного аналитического отрезка, нужно, чтобы оно освещало внутренние процессы, которые, несмотря на колебания адреса, обнаруживали бы абсолютную функцию адресата. С того времени как вопрос возможного вытеснения трансфера приобретает истинный размах, сказать, что трансфер может быть вытесненным, — это также сказать, что все психические репрезентации, пришедшие в движение по причине встречи с аналитиком в рамках аналитической ситуации, могут быть вытесненными. Иначе говоря, сама аналитическая ситуация и аналитический процесс, вместе взятые, были бы вытеснены по способу отказа от препятствия.
Этот вопрос выдвигает другой, более общий вопрос — о показаниях к анализу.
Следующий пример подтвердит это. Речь идет о женщине, которая говорила, говорила, говорила о себе так долго, что мне не удавалось «вставить слово», невозможно было остановить этот непрерывный поток бесполезных слов, пример чего, оставив всякое женоненавистничество, можно найти в телефонных разговорах между дамами-приятельницами.
1 Pars pro toto (лат.) — часть вместо целого. — Примеч. А. В. Россохина.
Тон бурных проклятий выдавал, по меньшей мере, характер, то есть паранойяльную структуру. А, с другой стороны, зачем прерывать такую речь, которая казалась адресованной не мне. Это продолжалось долго, пока я терпел, пока я был равнодушным и пока я с горечью констатировал, что кто-то в этом деле ошибся адресом. В один прекрасный день, когда я потерял надежду на иссякание этой болтовни, появилось первое сновидение, переданное в тоне банального события и соединяющееся со всем остальным. Моя клиентка стояла перед холодильником, полным до краев обильной пищей. За неимением возможности проконсультироваться у кляйнианского коллеги, который, как я предчувствовал, нашел бы ввиду такой репрезентации, чем подкормить свою теорию, я был вынужден, как нам предписывает аналитическое одиночество, использовать свои средства и сделать вывод, что сюда вложен трансфер на холодильник и что моя клиентка имела достаточно резервов, чтобы еще долго держаться, что, к сожалению, подтвердилось впоследствии. Я вмещался так, как если бы использовал акушерские щипцы, чтобы указать, что, может быть, предчувствие того, что больше нечего сказать, повлекло за собой это сновидение изобилия. К моему великому удивлению, пациентка с этим согласилась, но возобновила с новой силой свою речь с того места, где она ее прекратила. Мой интерес вернулся, дело немного прояснялось. Я смутно предвидел, не имея в этом уверенности, что пациентка пришла ко мне не от своего собственного лица, хотя и показывала всем видом, что это так, но была направлена одним из ее родственников, который завязывал со мной через подставное лицо долгую ссору. Неожиданно появилось новое сновидение, но на этот раз рассказанное с меньшей решительностью. Эта нерешительность больше, чем содержание, показалась мне счастливым предзнаменованием. Сновидение было простым и содержало только одну фигуру. Моя пациентка находилась в яйце, как это показано у Иеронима Босха (это я так вижу) и занималась любовью со своей матерью, однако вся эта система была совершенно неподвижной. «Вот, — сказал я себе, — случай паранойи, который на сей раз не противоречит теории».
Оставалось только понять, что с этим делать. Я заметил, продолжая наблюдать, что, хотя эта капсула была закрытой, меня, тем не менее, приглашали туда проникнуть, пусть даже только взглядом. Я рассматривал это как вызов. Через эту приоткрытую брешь выходил на свет так надолго задержавшийся отцовский перенос. Он остался скорее касательным к этому кругу, чего мне не хотелось, поскольку именно там контртрансферентное движение и возникло.
Этот пример содержит, на мой взгляд, преимущество соединения в одном движении фигуры трансфера, отказа от перемещенного отцовского вмешательства и конфигурации Эдипова комплекса, который, если можно так сказать, был заморожен.
Анализ закончился кое-как. Пациентка призналась мне в том, что испытала чувство, будто прошла рядом с чем-то; я с этим согласился, и мы расстались хорошими друзьями. Некоторое время спустя она мне написала и попросила дать адрес женщины, с которой она могла бы продолжить начатую работу. Я уступил этой просьбе, понимая, что, несмотря на очевидную отставку, которую содержала в себе такая реакция, она укрепляла успех появившегося на свет отцовского переноса. В то же самое время у меня зародилось сомнение о возможном повторении, которое заключала в себе эта ситуация, поскольку и кто-то другой, как и я в данном случае, ставший близким, передаст ее еще кому-то, как это имело место в первый раз,
Если я привожу этот пример, то только потому, что он знаменует для меня предел трансфера. Все здесь свидетельствует о том, что он был запоздалым, задержавшимся. Но задержавшийся не значит вытесненный. Во всяком случае, чтобы быть задержавшимся, трансфер должен существовать. Но потому наша встреча и имела место, что он существовал. Нужно понять противоречие, которое делает такой трудной мысль о трансфере: он может одновременно пониматься и как возможность, потенциальность и как событие, а лучше сказать, приход. Этот приход и эта возможность определяют поле неврозов переноса и дают им дефиницию.
Но не будем терять из виду ход наших мыслей, касающихся судеб трансфера.
Нужно, я сказал, ликвидировать ликвидацию. Отметим по этому поводу, что я охотнее говорю о прояснении трансфера, чем о его интерпретации. Другими словами, я противопоставляю чистую воду мутной, именно в этом, и ни в чем другом, состоит ликвидация, в этом и заключается главное. Сказать, что трансфер мог бы быть уничтоженным — значит вернуть его к какому угодно отношению, объектному, например, которое, несомненно, может забыться.
Конечно, можно допустить, что он теряет свою отчетливость, что-то смягчается в сути этого прихода. Лучшее доказательство этого в том, что можно искусственно (увеличением числа сеансов или их цены) «разогреть трансфер» или, наоборот, охладить игру. Но нужно остерегаться спутать трансфер с системой аналитической ситуации. Трансфер — это не все в анализе, он является мотором и тормозом анализа. Он не есть его сумма.
Мне режет слух, когда говорят, что «в трансфере» проанализировали проекции, идентификации, существование которых я не оспариваю и которые, несомненно, составляют плоть анализа, но которые не являются трансфером.
Трансфер явился предметом специфического открытия и специфического сопротивления этому открытию, что называют также контртрансфером. Образ развязки, поскольку именно в этом состоит вопрос, был мною найден благодаря одной пациентке, обаятельной и утонченной, которая увидела во сне, как мы вместе танцевали, но мало-помалу приближались к двери, где жестом кисти она развернула мою руку, как развязывают, раскручивают, снимают колдовство. Мой единственный вопрос состоял в том, чтобы узнать, кто правил бал; я все еще не знаю ответа.
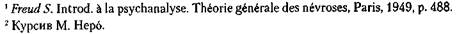 |
Необходимо признать, что судьба негативного трансфера ставит особую проблему. Нужно ли уточнять, что я его никогда не встречал в чистом виде. Я сомневаюсь, с другой стороны, в том, что анализ мог бы проходить без позитивного трансфера, который на заднем плане не дублировал бы случайности негативного трансфера. Нужно признать, что оценка судьбы негативного трансфера становится более трудной в силу тональности неприятных аффектов, которые неизбежно его сопровождают. Однажды преодолев кризис, мы, может быть, обретаем склонность забывать превратности, в индийском смысле, которые отметили ход анализа, чтобы запомнить в нем только нарциссически плодотворные моменты. Следует, я думаю, различать две вещи: негативный по своей сути трансфер, то есть переиздающий инфантильный конфликт, но оставляющий аналитику свободу быть, скорее, свидетелем, чем участником, и негативный трансфер, передающийся в ходе лечения через кризис, через череду недоразумений, которые вовлекают самого терапевта, и, более того, через него направлены на аналитический процесс.
Фройд связал это с недоверием к аналитику. Необходимо признать, что чаще всего именно из-за неловкости аналитика, я говорю от своего собственного имени, И появляется такой конфликт. Нет никакого сомнения, что та же самая бестактность, совершенная в атмосфере позитивного трансфера, не вызвала бы никакого уловимого конфликта с риском появления позднее негативного трансфера, разделяющего наравне с папской туфлей привилегию сдерживать долгое время удары смертоносных деревянных башмаков. Еще здесь нужно отличать настоящую неловкость, забывчивость, ранящее слово или промах от того, что по избытку умения и искусства бьет прямо в цель, но болезненно. В первом случае всегда можно повернуть машину вспять, если ситуация позволяет, во втором — никогда.
Очень интересное исследование Эйде Фэмберг показывает, как специфическое размышление пациента над недоразумением, над его особым способом плохо слышать или искажать интерпретации может привести к пониманию и даже к исчерпывающему прояснению конфликта. Негативный трансфер парадоксальным образом всегда обладает преимуществом очерчивать с большей точностью такую природу конфликта, такую конфигурацию бессознательных антагонизмов, какую позитивный трансфер чудом своего воздействия разрешил бы, сам не понимая как,
Об одном можно сказать уверенно: разрешение негативного трансфера, я хочу сказать, разрешение каждого из проявлений, сопровождающих его появление, никогда не выходит на нейтральное время. Не существует нейтрального, нулевого трансфера. По принципу маятника именно к позитивному трансферу и ведет это разрешение. Таким образом, негативный трансфер, так же как и трансфер вообще, не может быть упразднен. Он, конечно, меняет тональность, но ни в каком случае он не теряет ни своего эвристического значения, ни своей способности к перемещению.
Именно ради удобства изложения я помещаю негативный трансфер в перспективу отдельной судьбы. Разумеется, в аналитической практике трансферы различаются не так сильно, и их чередование более часто, нежели предполагается в теории. Но вопрос состоит в том, чтобы установить, когда и как в процессе лечения разыгрывается судьба трансфера.
В этом отношении текст Фройда из общей теории неврозов1 дает настоятельное предупреждение, которое освещает глубинную природу трансфера.
Эта цитата настолько важна, что я привожу ее полностью, несмотря на большой объем.
Необходимо, чтобы вы знали, что локализации либидо, появляющиеся в ходе лечения и после 2него, не позволяют сделать никакого прямого заключения относительно его локализации в течение морбидного периода. Предположим, что мы констатировали в ходе лечения трансфер либидо на отца, и что нам удалось удачно отделить либидо от этого объекта с тем, чтобы обратить его на персону врача: мы бы ошиблись, заключив из этого факта, что больной действительно страдал от бессознательной фиксации либидо на персону отца.
Трансфер на персону отца конституирует поле битвы, где мы заканчиваем эту битву захватом либидо; последнее не было там установлено с самого начала, его корни
в другом месте. Поле битвы, на котором мы сражаемся, не определяет с необходимостью важнейшую позицию врага. Защита вражеской столицы не всегда с необходимостью организуется у самых ворот; именно после устранения последнего трансфера можно мысленно реконструировать локализацию либидо во время самой болезни.
Эта военная метафора, которая мне понравилась, укрепляет меня в намерении замять и удерживать стратегический пункт, от которого как раз и зависит судьба трансфера. Этот пункт состоит в следующем: либо терапевт буквально воспринимает трансфер, который ему адресован и смешивается с историческим персонажем, положившим ему начало, тогда аналитический процесс (и именно здесь заключается опасность) не будет этим завершен, а вместо разъяснения зародится новая фиксация. Эта фиксация будет подпитываться лишь убеждением терапевта, так как непроизвольно и благодаря ее силе инерции невроз переноса встанет на якорь в этом пункте. Либо терапевт, опираясь на дух, а не на букву трансфера, согласится участвовать в этой новой инсценировке, не выдавая большего кредита, чем требуется. Можно надеяться, что в данном случае анализ трансфера поддержит эту возможность двойной наводки, которая составляет главный козырь невроза переноса. Я понимаю под двойной наводкой способность невротиков (осмелюсь сказать, классических) развертывать трансферы, делающие из них то, чем они являются, и в то же время прекрасно знать, к кому они обращаются. Эта двойная наводка такова, что в сновидениях поддерживает логику сновидения и одновременно логику сновидца.
Мне заметят, и совершенно справедливо, что я здесь говорю только о классических неврозах и о классическом анализе подобно тому, кто, потеряв ключ, ищет его только в освещенных местах. Да, я ищу ключ в освещенных местах.
Но если мне задается вопрос о том, какова судьба трансфера, а не судьба анализа или лечения, я должен ответить в той области, где у меня есть возможность очертить это становление; и совсем другое — знать, следует или нет нарушать правила классической техники и где начинается область маргинальных правил.
Если я возвращаюсь к примеру нарциссического невроза, сфокусированного па фантазме соития с матерью в яйце, то только потому, что анализ развертывался в двух временных измерениях, то есть за счет второго «транша», который я считаю лишь частью тайны, как текст, где было бы только начало, а не следующая часть, и еще менее эпилог. Этот пример ставит проблему траншей анализа, которые выявляют, по меньшей мере, одну из неуловимых случайностей в становлении трансфера.
Теперь я располагаюсь по другую сторону, во второй части, в качестве аналитика «транша» (поскольку это слово вошло в употребление) во втором или даже в третьем издании.
Я должен буду, в шутку говоря, свернуть шею тому общему месту, где утверждается, что там-то и там-то якобы можно увидеть промахи коллег. Никогда ничего подобного я в своей практике не видел: либо речь идет об анализе-«бидоне», который ведется по случайному озарению, и в этом случае дело ясно — рассматриваемое лицо возвращается к сцене, но в качестве реального лица, так же как и любой протагонист истории пациента, либо имело место что-то из проясненного трансфера (идет ли речь о классическом анализе или о других видах лечения, так как нельзя сказать, что только классический анализ обладает исключительной
властью прояснять трансфер), и в этом случае все происходит способом блуждания, способом «необходимого отступления», и где пациент, как заблудившийся путешественник, вдруг находит поляну, которую узнает.
«Да, — говорит он, — я видел подобное с ним или с нею». Осуществляется нечто вроде соединения и наложения. Но никогда нельзя терять из виду актуальность трансфера. Все разыгрывается здесь и сейчас, но здесь и сейчас пациент сталкивается с другим трансфером. Предшествующий анализ играет выпавшую на его долю роль локализации болезни, на что указал Фройд, в противном же случае, она появляется как «проясненная». Предупреждение Фройда остается совершенно законным. Ничто не позволяет заключить, что что-то произошло там, где оно появляется сейчас, что именно сейчас вновь разыгрывается судьба трансфера. Я считал и считаю сейчас, что первый анализ может конституировать бессознательное травматическое событие, обнаружение чего имеет место только в ходе второго анализа. Этот феномен происходит по классической схеме Proton-Pseudos, описанной Фройдом и квалифицирующей первую истерическую ложь. Вытеснение поднялось, открылось новое поле исследования, сексуальный характер которого появляется только во втором издании и обнаруживается как травматический. Все вновь разыгрывается там, а еще здесь и сейчас, в новом трансфере. Трансфер, напомним, есть, прежде всего, сопротивление. Если идее трансфера, указывает Фройд, удалось по сравнению со всеми другими ассоциациями достичь сознания, то это как раз потому, что она удовлетворяет сопротивлению. Первый анализ поставляет аргументы следующим друг за другом сопротивлениям — такова трудность, с которой мы сталкиваемся во время второго анализа. Это сопротивление не может быть преодолено, если не остерегаться этого второго, более коварного и скрытого, и которое хотело бы, чтобы первое было стерто, сглажено вторым.
Трансфер трансфера — так ставится вопрос. Далекий от того, чтобы быть чисто теоретическим, он, напротив, исходит из самой точной практики. Ответ — нет. Нет трансфера трансфера. Именно здесь и сейчас снова разыгрывается партия. Но могут сказать: то-то или то-то было проинтерпретировано, проанализировано, обозначено; конечно, такой-то конфликт, фантазм, симптом были вскрыты, но у трансфера — другая природа; именно потому, что он сохранил свою власть актуализации, он и производит новое издание, новую сдачу карт.
Вопрос становится тонким, когда речь идет об одном и том же аналитике, возобновляющем анализ с тем же пациентом после долгого перерыва. Все заставляет верить, что пьеса, обретая старые декорации, будет разыграна по тому же сценарию. Конечно, огонь, который тлел, опять вспыхнет. Но все свидетельствует о том, что кое-что изменилось. Пациент изменился, аналитик изменился, события изменились. Он ее не любит больше, она его не любит больше, говорил Паскаль (Блез), которого я цитирую по памяти, а в целом — хорошенькое дело! Он больше не тот, она больше не та, они изменились. Именно под знаком покинутости Богом он и претерпевает изменение. В этих обстоятельствах мы с удивлением отмечаем, насколько нам удалось в действительности изменить технику, темп, курс, способ понимания; некоторые оптимисты назовут это изменение прогрессом, другие же, более осторожные, скажут, что мы всегда находимся в одной и той же точке.
Небольшое отклонение в субъективной оценке судеб трансфера — и вот мы в позиции контролирующего дебютанта, ведущего анализ из вторых рук. Озабоченный тем, чтобы лучше удерживать свою позицию, он служит мишенью для ассоциаций клиента, который под предлогом того, что они свободные, поставляет ему только те, что имеют отношение к его бывшему аналитику, которого он к тому же называет «мой аналитик». Дебютант, прослушав слишком хорошо урок, уступает место своему контролеру, не отдавая себе в этом отчета, и происходит достаточно редкое явление, нечто вроде зеленого луча анализа, где трансфер пациента переносится на контролера. Единственный выход, срочный и необходимый в данном случае, — убедить дебютанта, что обращаются именно к нему. Этот случай, конечно, утрированный; однако я с ним сталкивался один или два раза. От этого он не становится менее показательным.
Нормальная судьба трансфера, при условии, что она существует, — всего лишь исключение; таково правило. Чтобы говорить о судьбах трансфера, нужно было бы перечислить их все, одну за другой. Но принцип теории требует подняться на такой уровень обобщения, который абсорбирует все единичные судьбы.
Из всего, что было сказано, можно заключить, поскольку я хотел ликвидировать ликвидацию, что трансфер не рассеивается в тумане событий. В таком случае его нужно рассматривать как возможность, потенциальность. Все доказывает, что далекий от того, чтобы быть признанным невиновным, он, напротив, расстилает поле своих сил и резервов. Он заключает в себе противоречие: быть разрешенным здесь и сейчас и одновременно сохранять преимущества этой разрешенности после того, как здесь и сейчас замолкают. Совершенно очевидно, что к концепту сублимации и ведет рассмотрение этого становления, поскольку именно трансфером либидо Фройд характеризовал оперативную систему.
Насколько понятно и удовлетворительно для ума рассматривать сублимацию как естественный выход из трансфера, настолько же сложно, так как речь идет о методологическом процессе, выявить вышеуказанную сублимацию. Замыкая круг и возвращаясь к тому, с чего мы начали: к судьбам трансфера, к трансферу судьбы, подчеркнем: нужно хорошо видеть, что социального вовлечения, содержащегося во всякой сублимации, недостаточно для характеристики этой сублимации, даже если это подтверждается профессионализмом.
Сублимация — это приоритет приоритетов мысли. Она доходит до такой точки, когда все те, кто может на нее претендовать, как бы вынуждены под ней подписаться вопреки своей воле. Можно было бы поверить, что они единственные, кто вправе о ней говорить, если бы от них исходило что-то вроде излучения.
Но что становится, за отсутствием этой маловероятной сублимации, с безутешной когортой анализантов без завершения и сокрушенных аналитиков?
Честно говоря, здесь у меня мало опыта. Это зависит, скорее, от моего способа бытия, чем от моей техники, то есть, от моей идиотии, если вы мне позволите понимать это слово в этимологическом смысле, а не в общеупотребительном.
Фройд в связи с этим различал скептиков, оптимистов и честолюбцев1 и, по неуловимому эффекту маятника, изначально склонял чашу весов бесконечного анализа скорее в сторону аналитика, чем в сторону его пациента.
1 Фройд 3. Анализ конечный и бесконечный (1937).
Я поддерживал мысль о том, что бесконечные анализы были бесконечными с самого начала, желая этим подчеркнуть, что они несли вместе с трансфером модели повторения, уже отложенные про запас, и уже сглаженные модели разрывов. Теперь мое мнение об этом несколько изменилось. Я лучше понимаю, как контртрансфер может стать сообщником этой проволочки. Но я должен подчеркнуть, что функция сепарации должна рассматриваться в качестве специфической функции, как одна из тех, «идиотия» которой благополучно существует и становится еще более удивительной, когда оказывается включенной, защитным образом, в процесс, который опровергает ее способность делать заключения.
Заметим по этому поводу, что метафоры, употребляемые Фройдом: «вражеская территория», «поле битвы» и, чтобы закончить ряд, «лев, который бросается только один раз», создают образ агрессии, и я не отношу «идиотию» сугубо на свой счет.
Так как все вещи равны, надо рубить, делить на транши. Две взаимосоответствующие темы: для женщины — сохранять зависть к пенису, а для мужчины — бунтовать против своей пассивной, или женской, позиции по отношению к другому мужчине, означающие для Фройда непреодолимый барьер всякого анализа, даже законченного, находят свой эквивалент в необходимости делить анализ на транши.
Я советовал тем, кто хотел бы сделать анализ слишком коротким или слишком длинным, установить правило абстиненции. По тем временам это был бы один из самых подходящих способов вновь сексуализировать трансфер. Почему немыслимо это правило сегодня? Потому что мы знаем, что как раз трансфер и не нуждается в том, чтобы быть ресексуализированным, его самого достаточно с избытком для этого, если только в бесконечном анализе не имело место что-то из десексуализации, что можно интерпретировать теоретически, по меньшей мере, как включение влечения к смерти.
Вышеуказанное ведет нас прямо к тому, что я хотел бы донести до вас: что трансфер является не только отчетливым элементом анализа в целом, носителем особой судьбы, но, еще более — что он может входить в оппозицию с судьбой анализа, а точнее, с его окончанием.
Это все равно, что сказать, что в чрезмерно затянутом анализе трансфер уже давно угас. Если и есть ликвидация, то именно здесь она и происходит и совсем не в том смысле, который обычно придают этой ликвидации: покончить с устаревшей связью, вероятно, по аналогии с судьбой Эдипова комплекса, а в смысле иллюзорной способности, способности к лже-связи, которая не рождается больше сама по себе. Если трансфер не производит больше трансфера, то он не является больше трансфером. Не остерегаясь этого, анализ разыгрывает карту сохранения, не будучи в силах отречься от такой потери. Сохранение может здесь пониматься, если мы хотим распространить его смысл до самых старых теоретических значений, как сила самосохранения, противопоставленная сексуальным влечениям. Именно к самому анализу теперь могут прикладываться эти силы самосохранения.
Само собой разумеется, что в этом процессе самосохранения задействован контртрансфер и что именно здесь мы можем видеть, как вырисовываются сто силовые линии. По этому поводу понятие «побочного трансфера,
накладывающегося на основной», введенное Конрадом Штайном, в связи с книгой Рустана «Такая печальная судьба», и означающее настоятельную необходимость инвестиции фигуры Мастера, находит мое одобрение.
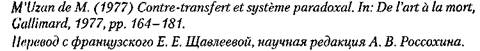 |
Показав проблематичным вытеснение трансфера, маловероятной, в этимологическом смысле, его сублимацию, невозможным трансфер трансфера, ликвидирующий его ликвидацию, и придя к рассмотрению трансфера в его актуальной сущности, я не могу вам дать лучшей иллюстрации идиотии (в чем публично каюсь), чем закончить ex abrupto 1настоящее изложение, которое, если бы я об этом по позаботился, могло бы никогда не завершиться.
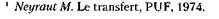 |
1 ex abrupto (лат.) — без предисловий, без приготовлений, сразу, внезапно. — Примеч. А. В. Россохина.
Мишель де М’Юзан
контртрансфер и парадоксальная система
Поверьте мне... я остаюсь последовательным в своих инстинктах
Джек Лондон. Морской волк
Когда речь заходит о контрпереносе, как правило, начинают рассмотрение данной темы с различных значений этой концепции. Подразумевают либо узкое определение, которое относится только к бессознательным реакциям анализируемого на перенос (часто с уничижительным оттенком), либо берется широкое определение, охватывающее все то (со стороны аналитика), что вмешивается в лечение и может даже играть в нем роль инструмента. Мишель Неро, как известно, пошел дальше и расширил пределы этого определения, утверждая, что контрперенос, включая в себя психоаналитическое мышление и имплицитный запрос аналитика, даже предшествует переносу1.
Скорее, это зависит от обстоятельств, и все же нужно быть осторожным, следуя первому определению, а второе лучше подходит для умозрительной работы. Более широкое понимание контрпереноса подходит скорее тому, что я хочу здесь показать; я думаю, мы это увидим по мере моего изложения.
С давних пор меня удивляет один феномен, с которым каждый практикующий врач сталкивается в своей деятельности и который имеет место в уме аналитика в процессе его работы. В то время как аналитик слушает своего пациента с характерным для данных обстоятельств вниманием, он отмечает в себе психическую деятельность, отличающуюся от всех других, являющихся обычными в этой ситуации, включая аффекты. Внезапно возникают странные представления, фразы, неожиданные в грамматическом отношении, абстрактные формулы, красочные образы, более или менее оформленные фантазмы, — список не ограничен, по, что очень важно, так это отсутствие ясной связи с тем, что происходит в данный момент на сеансе. Можно было бы сказать, что аналитик убежал из ситуации, и это соответствовало бы контрпереносному проявлению в самом узком смысле слова. Это также может быть и тем, что имеют в виду, когда фантазм эксплицитно касается пациента и, кроме того, имеет более или менее регрессивное значение. Это и есть, по-видимому, перенос аналитика на пациента, ставшего для него представителем фигуры из прошлого. Можно также отметить в данном случае высокую степень пригодности ситуации для
мобилизации «полиморфной перверсности», которая целиком убаюкивает аналитика, со всеми вытекающими отсюда последствиями для психического функционирования последнего. Однако моя задача заключается вовсе не в том, чтобы останавливаться на этих рассуждениях, достаточно изученных другими авторами. Я думаю, что, удерживаясь в рамках классического контрпереноса, мы не в состоянии уловить все аспекты психической деятельности, местом которой в данном случае является аналитик, как раз потому, что некоторые из них кажутся ускользающими и от личной проблематики, и от теоретических доктрин.
Представления, о которых идет речь, возникают неожиданно, в какой угодно момент сеанса, а иногда с самого начала сеанса. Примечательно то, что они не вызывают ни страха, ни неудовольствия, каким бы ни было их содержание. Это особенно удивляет аналитика, тем более что он должен, разумеется, задаваться вопросом о проявлении некоего бессознательного конфликта, аффекты которого, по-видимому, были заторможены в их развитии. Он испытывает в этом случае неуловимое изменение состояния, что-то вроде очень легкого волнообразного движения, которое парадоксальным образом не сопровождается снижением внимания. Родство этого опыта с некоторыми слабыми состояниями деперсонализации — очевидно. Но здесь изменения проистекают непосредственно из речи или отношения анализируемого, взволнованного и требующего, который, вероятно, и вызвал в аналитике модификацию нарциссической инвестиции. Когда аналитик возвращается к тому, что он пережил в подобный момент, он констатирует постфактум две вещи, связанные между собой: состояние тревоги, направленное на объект, и искажение чувства собственной идентичности. Все происходит так, как если бы было изъято то, что есть личного в нем, и была установлена специальная проницаемость его психического аппарата — как бы открытость для новой фантазматической активности. Но, если это так, откуда тогда появляются эти мысли, образы, слова, которые толкают аналитика к мимолетному отчуждению. Мы вправе предположить, что они соответствуют психическим процессам, развертывающимся у анализируемого и еще не выявленным. Это бы объяснило замечательную черту феномена в целом, а именно тот факт, что он опережает как то понимание материала, которое вытекает из логической дедукции, так и фантазмы, которые пациент в состоянии формулировать.
Мы помним, что Паула Хайманн представила в 1949 году на XVI Международном психоаналитическом конгрессе свою работу1, где она ясно показывает значение контрпереноса как инструмента понимания пациента2.
По ее мнению, аналитик заимствует из бессознательного своего пациента более острое бессознательное восприятие, которое опережает то, что может позволить какая бы то ни было сознательная концептуализация ситуации. К тому же, автор интересуется, главным образом, аффективным состоянием аналитика и чувствами, которые в нем вызывает пациент,
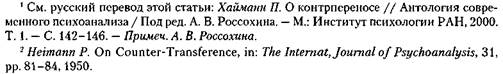 |
откуда и проистекает ее рекомендация присоединить к парящему вниманию нечто вроде свободной эмоциональной чувствительности, что идет в русле ее борьбы против образа идеализированного, бесстрашного, отстраненного и почти уже бесчувственного аналитика.
Эта работа, безусловно, сделала эпоху, многие аналитики последовали этим путем. Но феномен, о котором говорю я, — это нечто другое, чем вид «аффективного резонанса», который, оставляя в неопределенности специфическую сторону того, что происходит в психическом аппарате, не позволяет сколько-нибудь строгой Концептуализации. Другой аналитик продвинулся еще дальше в этом направлении, это — Анни Райх1 которая замечает, что часто инсайт на материал возникает внезапно, как если бы он исходил из какой-либо области собственного психического аппарата аналитика2.
Так же внезапно аналитик обнаруживает то, какой должна быть его интерпретация, и как следует ее сформулировать. Этот тип понимания, добавляет автор, испытывается, так сказать, пассивно: он возникает, случается. Напомню также дна замечания М. Неро, которые, по-моему, как нельзя лучше согласуются с моей темой: «В некотором смысле аналитику платят за то, чтобы он временно приостанавливал свое мышление и подчинялся ассоциациям, которые исходят не от него». И далее, в параграфе, посвященном «Психозам переноса», он добавляет, что «массированный перенос» этих пациентов свидетельствует о «психическом захвате, о заключении терапевта в субъективное пространство психотической мысли. Это пространство... не обладает более понятием границ своей собственной внутренности... внутренние содержания, принадлежащие другим субъектам, а именно терапевту, кажутся включенными в то же пространство»3.
Остается установить, являются ли эти расплывчатые границы исключительной характеристикой психотика, и закономерен ли и окончателен ли процесс утраты символического смысла внутренних механизмов, руководящих его субъективностью. Я далек от того, чтобы быть в этом уверенным, но такая точка зрения существует; я же считаю, что некоторые психосоматические пациенты более показательны в подобной несостоятельности образа действий. Наконец, есть множество пациентов, не являющихся ни психотическими, ни психосоматическими, и у которых можно наблюдать в некоторые моменты такое стирание границ внутреннего мира.
Как мы успели увидеть, многих аналитиков привлекают те области, где расположен феномен, который изучаю и я. Чтобы уточнить то, что я имею и виду, и сиять всякую двусмысленность относительно специфики вопроса, я хотел бы привести примеры фрагментов двух клинических случаев. Конечно, я не питаю иллюзий о восприятии подобных иллюстраций, вызывающих, как правило, десяток интерпретаций, и намного лучших, чем те, которые делаешь сам: последи им я как раз и отдаю должное в том, что они передают опыт, понимание значения которого и было глубоко почувствовано в тот момент.
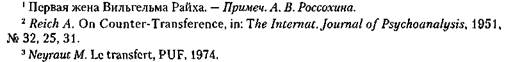 |
Из материала, слишком большого, чтобы быть переданным во всей целостности, я выделяю только те элементы, которые непосредственно относятся к моей теме, и надеюсь, что нас не смутят иногда встречающиеся там нелепости. Разумеется, это нелепое не лишено значения, будучи подчиненным тем же архаичным механизмам, что каламбур и острота.
Молодая женщина, находящаяся в анализе около двух лет, выражает однажды опасение, что она не в состоянии заплатить мне гонорар в назначенный срок. Она боится этой возможной задержки и вспоминает аналогичный инцидент, произошедший достаточно давно. Ее речь прерывают долгие паузы, она с трудом формулирует мысли. Она обеспокоена тем, насколько у нее смешаны страх покинутости и нетерпимость к любой ситуации зависимости. Денежная задолженность мне представляет для нее как раз ситуацию зависимости, ретроспективно вызывающую в ней образ ужасающего отношения слияния. В этот момент мне приходит на ум мысль об удовольствии, которое она черпает из этой ситуации, что непосредственно связывается с моими размышлениями о проблемах, которые нам уже знакомы и достаточно проработаны. Ничего необычного в них нет, простая «психоаналитическая рутина». Л потом вдруг — разрыв, неожиданный перелом. У меня возникает ощущение, что я сошел с орбиты, что-то изменилось, я уже не тот, я это констатирую, в то время как мне не дает покоя отчетливая картинка, занимающая все мое воображение. У меня перед глазами — гравюра или, точнее, нижний левый угол гравюры, который как бы отделился. В этом углу я вижу женскую ногу, вытянутую под углом 45° вниз, влево, и выступающую из зарослей. Нога — голая, видна только от икры. Но поражает больше всего то, что лодыжка и ступня — гиперразвиты. Этот образ мне ничего не напоминает, и впоследствии я напрасно пытался найти соответствующее ему происхождение. Но едва образ возник, как мне в голову приходит мысль: Молодые люди находятся в более выгодном положении, и на сей раз я тут же вмешиваюсь, говоря: Вы думаете, что молодые люди находятся в более выгодном положении. Фаллическое значение этой ноги, выходящей из завитков травы, кустов и деревьев, — очевидно, но здесь образ и фраза, совпадающие друг с другом, приходят раньше всякой расшифровки. Почти сразу же пациентка с ожесточенностью начинает ассоциировать но поводу конфликтного аспекта своих отношений с матерью. Этот конфликт до сих пор преподносился в виде двойного страха, о чем я уже упоминал: о страхе абсолютного отвержения, покинутости и ужасе тотально подчиняющего слияния. На этот раз речь заходит о запретах матери, о ее губительном воспитании. Братьям было позволено все, они пользовались реальной свободой, тогда как она сама находилась под строгим надзором. Однажды ее сильно отругали, вменив в вину то, что она возвращалась из школы с товарищем, который держал ее под руку. С этого момента вышел наружу достаточно важный материал, затрагивающий фаллическую проблематику. Раньше же более архаичный конфликт постоянно занимал переднюю часть сцены и всецело обуславливал поведение анализируемой.
Теперь я перехожу к наблюдению, взятому из другого случая, также не лишенного своеобразия.
С самого начала сеанса пациентка мне напоминает непривычное для нее «До свидания, Месье», которое она произнесла, покидая меня в последнюю встречу. Это заставило ее вспомнить об одном инциденте раннего детства. Она уверена относительно периода, когда это произошло: ей должно было быть 2, 5 года. Точные ориентиры,
о которых она не говорит, позволяют ей поместить событие в определенные рамки; «Ни раньше, ни позже», — заявляет она. История состоит в следующем: окапавшись па улице, она пошла, куда глаза глядят, чтобы очутиться, в конечном счете, в полицейском участке. Там ее ставят па стол, а полицейские, стоящие вокруг псе, задают ей вопросы. Как раз в этот момент и происходит тот же феномен перелома, который я описал раньше, и странная мысль приходит мне в голову: Я бы с радостью съел тебя, прекрасный моряк. Бесполезно говорить, что каким бы опытным я ни был, я продолжаю пребывать в состоянии растерянности. К моей растерянности прибавляется тот факт, что эта фраза сразу же отсылает меня к литературе. Речь идет о Билле Бадде, герое романа Мелвилла, который я не перечитывал вот уже пятнадцать лет. Мне кажется также, что существует связь между «Месье», которым она назвала меня, прощаясь, и выражением «Прекрасный моряк». На тот момент никакое спонтанное объяснение не озаряет эту странную ассоциацию, что не мешает мне чувствовать, что нужно это иметь в виду. Кстати говоря, только сегодня, когда я пишу эту статью, мне приходит на ум, что в англосаксонском морском флоте, например, было принято называть любого офицера «Месье». Далее пациентка продолжает рассказывать воспоминание детства. Находясь все еще в полицейском участке, она видит, что входит ее дядя Пьер. Она говорит, что испытала страшный стыд и настаивает на особой важности пережитого. Затем она переходит к сновидению, которое она мне рассказывала и раньше и которое, по какой-то смутной причине, я желал услышать еще раз. Я выхватываю из сновидения только главный элемент: нечто вроде плиты, покрытой черной тканью, которая ей напоминает одновременно и надгробный камень, и стол. Однажды ее отец подарил ей стол с мраморной поверхностью. Она хочет избавиться как можно скорее от этого предмета мебели и заменить его на другой — «на стол для еды», который она будет выбирать сама, — говорит она. Потом она переходит к теме пищи, рассказывает о блюде местной кухни, которое внушает ей наибольшее отвращение, но настоятельно замечает, что она «была хороша, ладно сложена». В это же мгновение меня посещает своеобразная мысль, и я вмешиваюсь: «Говоря о хорошем сложении, вы имеете в виду «вкусной, пригодной к съедению?». Она озадачена, может даже немного обеспокоена, потом, становясь мечтательной, отвечает: «Да, это так. Я думаю сейчас о дяде Пьере, который внушал мне ужасный страх. Он мне говорил: «Я — лев, я тебя съем». Я была очарована, возбуждена, испугана». Что же касается меня, то только на следующий день я подумал, что понял смысл моей ассоциации с персонажем Мелвилла. Разгадка аналогии возникла благодаря тому, что в тот день шея пациентки была чрезмерно обнажена: действительно, Билли Бадд, по прозвищу Прекрасный Моряк, был повешен на огромной рее корабля и, говорит Мелвилл, встретил «грудью розовый свет зари», что и подсказывает тесную связь между надгробной плитой и казненным героем.
Разумеется, в этих обстоятельствах, как и во всех других, подобных им, я никогда не уходил от того, чтобы задаваться вопросами как о мыслях, которые приходят мне в голову, так и моих вмешательствах. И я считаю себя вправе сказать, что исследуемые репрезентации не зависели особым образом от моей внутренней жизни с ее желаниями и страхами, которые и определяют ее течение. Также они вовсе не являлись индивидуальной реакцией на перенос пациента. Конечно, я не был застрахован от подобных случайностей, я принимал их во внимание, и в первое время, как только этот феномен мне представился, я даже был склонен приписать его этим случайностям. Но ограничиваться только контрпереносными интерференциями и знаменитыми «слепыми пятнами», о которых говорит Фройд,
в данном случае было бы слишком просто. Почему? Потому, что это значило бы пренебрегать тем, что есть действительно оригинального в данном феномене. Я имею в виду, с одной стороны, его удивительный полиморфизм, а с другой стороны, динамическую роль, которую придает ему его сила предвосхищения. Он, действительно, полиморфен до такой степени, что нужно иметь большую дерзость, чтобы считать себя вместилищем подобного множества образов и вербальных форм, рождающихся в избыточном количестве из всевозможных генетических слоев. По этому поводу замечу мимоходом, что в данном феномене особо задействуются прегенитальные представления, и это убеждает меня в мысли, что, па самом деле, лучшими показаниями к анализу являются, может быть, не всегда неврозы, а еще достаточно плохо изученные пограничные состояния.
Такой действительно поражающий протеизм и даже дерзость, о которой я только что говорил, не дают нам возможности отыскать то, что неоспоримо свидетельствовало бы о вмешательстве личной фантазматики. Но самое главное, на мой взгляд, заложено не в этом, а в почти пророческом характере этой настоятельно возникающей продукции, что подтверждалось неоднократно.
Как правило, пациент припоминает в рамках одного сеанса, но постфактум, сновидение или событие, более или менее давние, о которых он никогда не думал, или которые были вытеснены, и которые превосходно соотносятся с мыслью, возникшей у меня. Последняя имеет ту особенность, что предвещает и одновременно формулирует важные фрагменты бессознательного мира, анализируемого так, что ведет прямо к интервенции, наделенной реальным динамическим значением. Должен сказать, что мне бы и в голову не пришло так детально описывать этот феномен, если бы я постоянно не изумлялся предсказаниям, к которым он меня неизбежно приводил, и той решающей ролью, которую он тем самым играл в интерпретации.
К тому же все окончательно прояснилось только тогда, когда я понял, что во фразах, приходящих мне на ум, нужно было заменить говорящего: я думал о себе, тогда как занимал место пациента, а нужно было услышать вы или он, к чему я долгое время проявлял упорное сопротивление в психоаналитическом смысле слова. Кто говорил в действительности, когда мысли и образы циркулировали в моем уме, и которые я потом использовал в своей работе? Кто, как не пациент (поскольку в этом не было ни участия моей внутренней жизни, ни индивидуальной реакции на перенос)? Но тогда нужно сделать вывод, что на определенном уровне своего функционирования психический аппарат аналитика в буквальном смысле стал таковым анализанта. Последний «захватил» психический аппарат аналитика, он им временно завладел, чтобы запустить первичные психические процессы. Точнее, именно посредством своей репрезентации в психическом пространстве аналитика анализируемый «завладевает» на время и прочно духом аналитика. Конечно, анализант стремится таким образом быть понятым, но особенно он нуждается в том, чтобы то, что он воспринимает внутри себя, прежде всего, как экономическую потребность — или как недоступный фантазматический потенциал, — было переработано и обрело полную форму и обозначение благодаря работе психического аппарата, который он аннексировал. Аналитик как индивидуальность, наделенная страстями
и имеющая историю, отстраняется, чтобы уступить место только функциональным способностям, действующим, скорее, в русле фантазма, чем в рамках логической умственной деятельности, и которые он подпитывает своей собственной энергией.
Этой первичной психической деятельности аналитика, опережающей все другие, знакомые нам, следовало бы дать название. Чтобы противопоставить ее как функционированию состояния бодрствования, так и работе сновидения, и имея в виду хорошо известные исследования о снах, я назвал ее парадоксальным мышлением. Конечно, эта деятельность свойственна не только аналитику, но именно последний, в силу своей тренированности, особенно к ней расположен. Каково с количественной точки зрения значение парадоксальных мыслей? Постоянно ли они действуют? Парадоксальные мысли занимают ограниченное место. Они попыхивают в сознании аналитика мгновенно и далеки от того, чтобы проявляться на каждом сеансе с каждым пациентом. Но хотя они являются поодиночке и как бы вне всякого контекста, мне представляется трудным утверждать их реальную прерывность. Фактически, я могу констатировать, что некоторые из этих парадоксальных мыслей гомогенны и связаны между собой; также я склоняюсь к мысли, что они наверняка являются видимой частью гораздо более широкого феномена, развертывающегося незаметно, в стороне от других психических процессов и обладающего непрерывностью. Именно это я назвал парадоксальной системой, системой, конечно, труднодоступной, но которая нам иногда дается в предчувствии. Мы угадываем как бы через завесу поток пульсирующих образов, постоянно меняющихся фигур, проходящих, исчезающих и возвращающихся1.
Учитывая, что обрывки нелепых или непонятных фраз иногда проникают в вереницу репрезентаций, мы бы с удовольствием ассигновали парадоксальной системе промежуточную позицию на границе бессознательного и предсознательного.
Определяя данным образом парадоксальную систему, я вызову наверняка озадаченность и множество нареканий. Сравнимы ли описанные феномены с артефактами, искажающими развитие эксперимента и наблюдение за ним, и как таковые должны ли они быть изъяты из поля рефлексии и рассматриваться в целом как пустяк? Может быть, так и следовало бы сделать, но в нашей области разумное, как известно, не всегда самое здравое.
Конечно, мы уже задали себе вопрос, какую роль в парадоксальной системе могут играть проекция и интроекция, или точнее, механизмы проективной идентификации и особенно интроективной идентификации? Вмешательство этих механизмов в контрперенос было широко освещено. Так, М. Неро признает без колебаний, что контрперенос — как и перенос — зависит в некотором отношении от ведущей мысли, частично идентифицируемой с проекцией бессознательного, Отсюда можно заключить, что я выдвигаю, в некотором смысле, параноидную концепцию деятельности аналитика — один лишь шаг до этого. Но я его не делаю, убедившись на опыте, что присвоение и захват психического аппарата аналитика не соответствуют, ни в коей мере, деструктивным намерениям. Для анализируемого речь не идет ни о том,
1 В описательном плане эта продукция сближается с гипнагогическими образами.
чтобы разрушить аналитика, ни о том, чтобы строго его контролировать или же вложить в него расщепленные и плохие фрагменты самости. Предметом исследования, скорее, является, на мой взгляд, судьба нарциссического либидо двух протагонистов перед лицом друг друга. Если бы аналитик ощущал эту ситуацию как преследующую, это было бы доказательством контрпереносной реакции в банальном и негативном смысле слова. Из сказанного можно заключить, что эти парадоксальные мысли имеют для нас что-то мешающее и стесняющее.
Как аналитик, наряду с сознательными и бессознательными процессами, происходящими внутри него, мог бы признать существование другого регистра психической деятельности, субъектом которого он, собственно говоря, не является? Он ощущает, идентифицирует, ассоциирует, понимает, передает — это основа его техники; он принимает как само собой разумеющееся знаменитое общение бессознательного с бессознательным, но, естественно, не желает уступить место чему-то неопределенному, неосвоенному, не подчиняющемуся, что в нем является совершенно инородным. Таким образом, настороженность, которую внушает парадоксальная система, по-видимому, выражается, прежде всего, через угрозу, которой она воздействует на стабильность нашего чувства идентичности. Когда наш нарциссизм оказывается пошатнувшимся, мы можем считать себя подвергающимися атаке и защищаемся крайне ожесточенно, обвиняя в подобном результате любую личностную проблематику, будто она и впрямь ответственна за какую-либо техническую ошибку. По этому поводу принято считать, что строгие правила классической техники имеют вторичной функцией защиту аналитика от этой нестабильности. С другой стороны, тенденция к засыпанию, посредством чего аналитик иногда осуществляет нарциссическое отступление, является как бы другим способом защиты — существующая в таком крайнем варианте, она рискует превзойти свою цель, так как, тормозя функциональные способности аналитика, дремота парализует свободную игру парадоксальной системы, которой как раз и следовало бы поддаться. К великому счастью, не так легко ускользнуть от игры: колоссальная мощь, которой располагает представление об объекте (чем крепче оно инсталлировано в своем обитателе, тем сильнее удерживает часть нарциссического либидо последнего), мешает тому, чтобы анализируемый мог реально удерживаться на дистанции.
Исследуя различные виды сопротивлений, которые обычно противопоставляются парадоксальной системе, я пришел к убеждению, что они существуют только потому, что сама система зависит, с одной стороны, от очень архаичного опыта, соответствующего становлению субъекта и, с другой стороны, от простейшего механизма, глубоко укоренившегося в нашем существе и неотделимого от нашей плоти. Рассматриваемая под углом этого первичного механизма парадоксальная система ведет нас прямо в пространство биологии — пространство, куда мы, конечно, не решаемся выйти, хотя Фройд нам ясно указал туда дорогу.
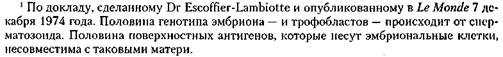 |
Нам известно, что Ф. Жакоб и Р. Фов со своей командой в Институте им. Пастера выявили важное обстоятельство, заставляющее задуматься1.
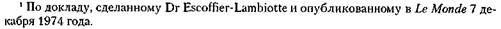 |
Авторы устанавливают сходство между двумя отдельными случаями, в которых иммунные защиты, бдительные в одних случаях по отношению к любому Постороннему вмешательству, одинаково перестают функционировать в других, Речь идет, с одной стороны, о толерантности организма по отношению к злокачественным клеткам и, с другой - о той же самой толерантности материнского организма по отношению к зародышу, развитие которого только таким образом и становится возможным. Другими словами, раковые клетки, так же как и клетки плаценты эмбриона, обрекают на разрушение защитную систему организма, в котором они будут развиваться. Следовательно, со времени зарождения жизни существует особая функция, которой свойственно тормозить запуск иммунной защиты, так как, если бы последняя выступала нормальным образом, она мешала бы росту инородного тела, каковым является зародыш, как это и происходит, может быть, при выкидышах1.
Но также необходимо, чтобы эта функция смогла в свою очередь быть заторможенной в дальнейшем, чтобы субъект был в состоянии признать инородное тело как таковое и защититься. Исходя из этой биологической модели, мне кажется возможным предположить, что репрезентация анализанта ведет себя в психическом пространстве аналитика по образцу трофобласта, то есть она не дает возможности аналитику признавать постоянно его полную инаковость. Если бы это было так, то мы бы лучше понимали ситуации, в которых больше неизвестно — кто есть где, и кто есть кто. Развитие парадоксальной системы должно было бы зависеть отчасти, по крайней мере, от временного или частичного торможения функций, которые позволяют признать другого и защититься. Торможение — о котором я сказал бы, что оно, к счастью, противостоит запуску одной из самых токсичных и, может быть, фундаментальных форм контрпереноса: потребности уничтожить и отвергнуть анализируемого.
Такие рассуждения могут показаться несколько рискованными, но нам, аналитикам, не занимать смелости, когда мы, например, соединяем самые архаические механизмы ребенка с физиологическими моделями инкорпорации прекрасного и отвержения дурного; или же когда мы показываем, как действуют эти механизмы в фантазмах, поддающихся выражению. Напомню еще и о психосоматической практике, которая, подвер
|
|