
Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Ученики
|
|
Я спросил как-то раз В. Э. Мейерхольда, кого ояy счита*вет
своими настоящими учениками. ■ - ■. •
Он ответил без секунды раздумия:
— Зинаиду Райх!
Я сдержал улыбку, но, кажется, он о ней догадался. И добавил:
— И Эйзенштейна... :
— И это все, Всеволод Эмильевич?
— А что вам, мало? Один Эйзенштейн — целая ака
демия!
Так разговор из шуток и не вышел. Он не любил этой темы или, вернее, не очень любил учеников. Не чувствуя в себе никакой маститсости, он не терпел назойливого подчеркивания своего учительства, как моложавая мать не любит рядом с собой взрослых дочерей.
Через некоторое время я снова задал ему тот же вопрос. Он ответил еще более неожиданно:
— Таиров, Радлов, Охлопков... Судить меня за таких
учеников нужно!
Он нарочно назвал имена своих тогдашних противников: разговор происходил в 1936 году. Опять шутка, да еще какая свирепая...
Но я в третий раз вернулся к этой теме, выбрав момент, ' когда, мне казалось, он забыл наши прежние разговоры, и несколько иначе сформулировал вопрос.
На этот раз он назвал мне имена трех актеров ГосТИМа: скажем, М., Ф. и С. Они ничего не представля'ли из себя творчески, но Мейерхольд умело использовал их индивидуальности как краски в спектаклях. По существу же, их даже было трудно назвать актерами. Короче, это был не ответ, а издевательство, и не столько надо мной, сколько над самим собой. Я не любил в нем этого настроения иронической злости и замолчал. Он посмотрел на меня внимательно серыми смеющимися глазами.
— Никогда не называйте себя моим учеником. Замечено, что это не приносит счастья.
Я был моложе его почти на сорок лет, но на даримых мне книгах и портретах он всегда писал «другу» или «дружески».
Однажды я принес ему на подпись бумажку с хода
тайством предоставить из каких-то фондов фотопленку
для работ научно-исследовательской лаборатории. Он по
просил меня, чтобы я написал ее не слишком казенно:
бумага шла к старому большевику Н. А. Милютину, хоро
шо знавшему и любившему Мейерхольда. Письмо должно
было идти от имени самого В. Э. Я написал примерно
так: «Группа моих молодых учеников, занимающихся
исследовательской работой...» Мейерхольд зачеркнул «уче
ников» и вписал «друзей». Получилось теплее, но дело
было не в этом. Он избегал повторять это слово, точно
-действительно из какого-то суеверия.
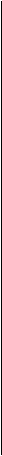

 Иногда в своих докладах и речах он говорил: «мои так называемые ученики», то есть упоминал об учениках только затем, чтобы от них отмежеваться и дать понять, что он не хочет нести за них никакой ответственности.
Иногда в своих докладах и речах он говорил: «мои так называемые ученики», то есть упоминал об учениках только затем, чтобы от них отмежеваться и дать понять, что он не хочет нести за них никакой ответственности.
Я знаю только два случая, когда он слово «ученик» употребил в положительном смысле: первый раз, посвящая режиссерскую работу над «Великодушным рогоносцем» «ученице-другу 3. Н. Райх», и еще, когда надписывал летом 1936 года свой портрет С. М. Эйзенштейну: «Горжусь учеником, уже ставшим мастером. Люблю мастера, уже создавшего школу. Этому ученику, этому мастеру — С. Эйзенштейну мое поклонение. Вс. Мейерхольд». (Сейчас этот портрет хранится в эйзенштейновском фонде в ЦГАЛИ.)
Это все, конечно, неверно.
Учеников у Мейерхольда было много, почти так же много, как у Станиславского. Добрая половина кинематографистов старшего поколения — ученики Мейерхольда. И театральных режиссеров — из поколения, уже выбывающего физически из строя и еще находящегося в строю. Актеры — его ученики — работают в Малом театре, в Художественном, в Театре Вахтангова, в Театре Советской Армии, в Театре Маяковского, в Театре сатиры, в труппах киностудий, в числе преподавателей театральных институтов. Уже прошло то время, когда люди задумывались, прежде чем вписать имя Мейерхольда в анкету отдела кадров в ответе на вопрос, где учился или работал.
Мне кажется, что Мейерхольд открещивался от своих учеников только потому, что он сам еще не хотел переставать чувствовать себя учеником. Он все время ставил себе в своем искусстве новые задачи, и ему мешала преждевременная маститость, седины наставника, покой всезнания.
Вспоминаю его фразы о неприличии позы зазнавшегося «мэтра», о том, что он, как юнец, дрожит перед каждой премьерой|, о том, насколько еще больше в искусстве театра область того, что он не знает, по сравнению с тем, что он знает. Он говорил, что самое лучшее в искусстве — это то, что в нем на каждом новом этапе опять чувствуешь себя учеником...
Он любил говорить об ученичестве как о самом прекрасном возрасте художника, об умении «быть учеником», с восторгом вспоминал своих учителей и не только Станиславского и Немировича-Данченко, но и мастеров старого
Малого театра, которыми он восхищался с галерки, и писателей, которых любил в юности и позднее. И Маяковского и Блока, которые были моложе его, он тоже иногда называл своими учителями.
Он любил в себе «ученика», который ощущает себя дебютантом, любил свое волнение, любил удивляться и восхищаться, ахать, восклицать: «Ох, как это интересно!», любил новое, любил неожиданности, странности, любил непонятное, вернее, еще непонятое, любил понимать, узнавать, добиваться...
И даже в те периоды его биографии, когда он «учительствовал» в самом прямом смысле этого слова: в петроградской Студии на Бородинской перед революцией, на курсах Мастеров сценических постановок в революционном Петрограде в 1918/19 году или в ГВЫРМе и ГВЫТМе в 1921 — 1923 годах в Москве, — он не «обучал», а, скорее «уча», учился сам, и естественно, что результатами такого учения были не экзамены и дипломы, а новые спектакли. Позднее он стал называть свой театр — ГосТИМ конца двадцатых годов — «театром-школой», подчеркивая этим неотделимость творческого процесса от собственно «обучения». К этом типу театра, в котором «учитель» не только передает какие-то знания, а, уча, учится сам в процессе создания новых спектаклей, он мечтал вернуться в новом здании ГосТИМа и планировал его внутреннее устройство, исходя из этой задачи.
И придя в 1938 году вновь к Станиславскому, он тоже пришел, чтобы еще чему-то поучиться, опять на какие-то недели и месяцы стать учеником; самым любопытным, самым внимательным, самым зорким, вечным учеником, с которым он не хотел в себе расстаться.
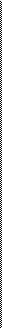 Конечно, среди многих поз, играемых им в жизни, была и эта поза — немножко рассеянного «мэтра» в очках (которых он в жизни еще не носил), но я уже рассказывал, как, придя однажды таким «мэтром» на экзамен актерского техникума, он, позевав час или полтора, когда начали показывать его любимый «Пир во время чумы», забыл эту позу, забыл педагогический церемониал, бросился на сцену, снял пиджак и начал «ставить» пушкинскую «маленькую трагедию», хотя это, наверное, было и «непедагогично» и вообще совершенно практически бессмысленно: «поставленное» никогда не было больше повторено. Просто он раньше не ставил «Пира во время чумы» (хотя и проектировал ставить на радио), и ему этого безудержно захотелось: не для учеников, не для нескольких зрителей, а для самого себя.
Конечно, среди многих поз, играемых им в жизни, была и эта поза — немножко рассеянного «мэтра» в очках (которых он в жизни еще не носил), но я уже рассказывал, как, придя однажды таким «мэтром» на экзамен актерского техникума, он, позевав час или полтора, когда начали показывать его любимый «Пир во время чумы», забыл эту позу, забыл педагогический церемониал, бросился на сцену, снял пиджак и начал «ставить» пушкинскую «маленькую трагедию», хотя это, наверное, было и «непедагогично» и вообще совершенно практически бессмысленно: «поставленное» никогда не было больше повторено. Просто он раньше не ставил «Пира во время чумы» (хотя и проектировал ставить на радио), и ему этого безудержно захотелось: не для учеников, не для нескольких зрителей, а для самого себя.
Он с раздражительным недружелюбием относился больше всего как раз к тем из своих учеников, которые сами уже претендовали на то, чтобы считаться мастерами, «мэтрами», учителями. Он сурово называл их самозванцами, дилетантами, недоучками. Отношение к С. Эйзенштейну — исключение. Трудно и смешно было бы оспорить его мировую славу, да и то, что Эйзенштейн добился признания не в театре, а в кино, существенно меняло дело. Останься Эйзенштейн в театре, вряд ли В. Э. стал бы относиться к нему по-иному, чем к Таирову или Охлопкову.
Когда близкие иногда упрекали его в «непедагогичности» каких-то его поступков или высказываний и ставили ему в пример Станиславского, то и тут (несмотря на то, что он бесконечно уважал Станиславского и любил) В. Э. начинал, защищаясь, утверждать, что Станиславский стал педагогом по преимуществу только потому, что заболел. Как человек когда-то создавал образ бога по собственному подобию, так и Мейерхольд хотел видеть своего любимого учителя таким же, каким он был сам. Прочитайте его статью «Одиночество Станиславского»: изображенный в ней К. С. Станиславский очень чем-то напоминает самого автора статьи. Не так уж много можно узнать из этой статьи о Станиславском и очень многое понять в Мейерхольде.
Как сильная, ярко выраженная личность, как человек, к своим шестидесяти с половиной годам еще не насытившийся ни актерством, ни режиссурой, не начитавшись, не наглядевшись на природу, людей, птиц, собак, не наслушавшись музыки, полный жажды работать, жить, познавать и учиться, Мейерхольд не мог и не хотел понять тех, кто, удовлетворившись узнанным и достигнутым, считал, что с него довольно. Это-то больше всего и раздражало его в тех своих учениках, которых он именовал «так называемыми».
Беда большинства мейерхольдовских учеников была как раз в том, что они были не столько учениками всего Мейерхольда, сколько учениками разных Мейерхольдов, Мейерхольдов отдельных периодов. Отсюда их односторонность и так раздражавшая его ограниченность. Один коренной «гвырмовец», видевший репетиции «Рогоносца», участвовавший в массовках в «Зорях» и «Земле дыбом», помогавший за сценой в «Смерти Тарелкина» и впитавший в себя «крайне левого» Мейерхольда 1921 —1923 годов, рассказывал мне, что он был потрясен, увидев впервые возобновленный в Александрийском театре «Маскарад». Ему долго казалось, что одно исключает другое. Так многим ученым, открывавшим в XX веке новые физические законы, казалось, что каждое новое открытие исключает и перечеркивает всю предыдущую науку. Может быть, преимущество Эйзенштейна как раз заключалось в том, что он, учившийся в Петрограде, сначала увидел «Маскарад», а потом пришел в ГВЫРМ, и его восприятие Мейерхольда с первых дней занятий было синтетично. Он уже знал оба полюса искусства В. Э.: зрелищную роскошь, изобилие красок и романтическую манеру игры в «Маскараде» и постановочный аскетизм и очищенную, граничащую с эксцентриадой, скупую и одновременно смыслово многослойную манеру актерского исполнения «Рогоносца» — сценический стиль «Ильбазай» (Ильинский — Бабанова — Зайчиков), как называли театральные критики тогда эту манеру.
Мейерхольд отказался в дни дискуссии о формализме отречься от «Великодушного рогоносца», хотя был далек от него, хотя уже гораздо раньше не терпел эпигонов манеры «Рогоносца». В искусстве флотовождения есть закон — ход эскадры всегда равен ходу самого тихоходного судна. А Мейерхольд всегда был самым быстроходным судном во флоте русской режиссуры: не мудрено, что этот флагман все время оказывался в одиночестве, теряя свою эскадру.
Вот почему отношения Мейерхольда с учениками так часто бывали драматичны: от одних отказывался он сам, другие отмежевывались от него. Напомним, что у Станиславского тоже временами было не все гладко с учениками: и он наталкивался на непонимание и должен был искать новых.. Потом и эти новые тоже переставали его понимать. И все повторялось. В дневнике Вахтангова есть запись о том, как Станиславский репетировал в Первой студии «Потоп» Ю. Бергера: Вахтангов растерянно и раздраженно обвиняет Станиславского в непоследовательности, ловит его на противоречии с тем, что он еще недавно проповедовал. Должно быть, так бывает всегда, когда ученик и учитель — оба сильные, яркие, творческие личности. Когда-нибудь, может быть, будет написан роман о драме ученичества или учительства. Это великая тема для большого художника.
 «Занимаясь с заинтересовавшими его учениками, Мейерхольд сразу вводил их, минуя школьные азы, в творческий процесс создания роли, будь то пантомима, импровизация или сцена из пьесы. Всего, что было необходимо предварительно знать для этого, учащиеся должны были достигать сами», — вспоминает Алексей Грипич.
«Занимаясь с заинтересовавшими его учениками, Мейерхольд сразу вводил их, минуя школьные азы, в творческий процесс создания роли, будь то пантомима, импровизация или сцена из пьесы. Всего, что было необходимо предварительно знать для этого, учащиеся должны были достигать сами», — вспоминает Алексей Грипич.
«...По природе своей он был человеком нетерпеливым, а педагогика, как известно, требует выдержки и времени», — пишет Сергей Юткевич.
Мейерхольд был замечательным учеником и очень странным учителем: для многих плохим, трудным, никаким: для некоторых, редких, — несравненным. Он сам часто говорил об «умении быть учеником»: для того чтобы быть его учеником, требовалось особое «умение». В чем же оно заключалось? Мне кажется, прежде всего в чувстве независимости и внутренней свободы, которое сочеталось бы с искренним восторгом и способностью к артистическому удивлению. Это не постоянно скептически прищуренный взгляд недоверия, но и не безоглядная отдача, без собственного осмысления. Самыми худшими учениками всегда бывают прирожденные или ранние скептики. Я помню одного такого на репетиции «Бориса Годунова». Мейерхольд был почти в трансе, все были потрясены, а молодой актер, уже искусившийся недоверием, как свидетель многих проработок, подошел ко мне и сказал: «Неплохо, но абсолютно неверно методологически...» Признаюсь, я послал его к черту. Добавлю: судьба его мне известна — он сейчас работает директором клуба. Он ни в чем не виноват: он просто не был художником. Но были и другие — сидевшие разинув рот, ахавшие и аплодировавшие, но мало думавшие. У этих остались чрезвычайно приятные, но довольно смутные воспоминания — и только.
Но и Эйзенштейн не был исключением: его тоже не миновала драма ученичества. В своих автобиографических записках он говорит о ней бегло, но можно догадаться, что уходу в Пролеткульт и переходу в кино предшествовали разочарования и волнения. Не оправдались какие-то надежды на работу рядом с учителем, были холодно встречены им какие-то проекты...
Эйзенштейн несколько раз в последние годы жизни начинал писать свои воспоминания, и существует несколько довольно хаотичных их редакций. И о Мейерхольде он тоже писал разное и по-разному. Остановлюсь только на том, что совпадает во всех редакциях.
«И должен сказать, что никого никогда я, конечно, так не любил, так не обожал и так не боготворил, как своего учителя. Скажет ли когда-нибудь кто-нибудь из моих ребят такое же обо мне? (С. М. Эйзенштейн имел в виду своих слушателей в Киноакадемии.— А. Г.) Не скажет. И дело будет не в моих учениках и во мне, а во мне и в моем учителе. Ибо я недостоин развязать ремни на сандалиях его, хотя носил он валенки в нетопленых режиссерских мастерских на Новинском бульваре... И нельзя жить, не любя, не боготворя, не увлекаясь и не преклоняясь...»
Эйзенштейн делает любопытное заключение: лекции Мейерхольда давали ему несравненно меньше, чем репетиции Мейерхольда.
«Я кое-кого повидал на своем веку...» — говорит он и перечисляет: съемки Чаплина, Станиславского и Шаляпина в лучших ролях, Маяковского на репетиции «Мистерии-буфф», знаменитых парижских певцов Иветт Гильбер и Монтегюса, того самого Монтегюса, которого Ленин ездил слушать на велосипеде через весь Париж «Арагонскую хоту» Фокина и Карсавину в «Шопениане», Гершвина, играющего «Голубую рапсодию», полеты Уточкина и карнавал в Новом Орлеане; слушал речи Ллойд Джорджа в английском парламенте, завтракал с Дугласом Фэрбенксом, поправлял тиару перед съемкой на голове папского нунция Росас-и-Флореса и т. д. «Но ни одно из этих впечатлений не сумеет изгладить никогда из памяти тех впечатлений, которые оставили во мне эти три дня репетиций «Норы» в гимнастическом зале на Новинском бульваре. Я помню беспрерывную дрожь. Это — не холод, это — волнение, это — нервы, взвинченные до предела».
Вспоминая свои занятия у Мейерхольда в ГВЫРМе, Эйзенштейн делает вывод, ставший его кредо в собственной педагогической работе: «научить нельзя — можно только научиться».
Он высказывает своему. учителю Мейерхольду только один упрек: обращаясь к нему с какими-то вопросами о «тайнах» (выражение Эйзенштейна) искусства режиссуры, он наталкивается на насмешливую улыбку...
 Дело тут, как мне кажется, вовсе не в том, что Мейерхольд жречески сохранял какие-то главные «тайны ремесла» для одного себя, как это можно понять из комментариев Эйзенштейна, а в разности их натур. Высокомудрый интеллектуал Эйзенштейн, мне кажется, несколько наивно, а вернее, чересчур догматично относился к тому, что он сам называл «тайнами» ремесла или мастерства. Он верил в абсолютные теоретические законы поэтики, в непогрешимые секреты искусства режиссуры. Но сама концепция «мастерства» у Мейерхольда была гораздо шире, как шире была его индивидуальность по сравнению с индивидуальностью ученика и даже такого, как Сергей Эйзенштейн. Эйзенштейн верил в правила и рецепты, остроумно и тонко определяя их и блестяще формулируя. Мейерхольд в них мало верил, и чем дальше, тем меньше. У него всегда над «правилами», «секретами» и тем, что он называл «азбучными истинами», торжествовал приоритет бесконечно богатого и разнообразного вкуса и вечно ищущей острой мысли, знающей бесчисленные варианты своего выражения. Однажды Мейерхольд сказал: «Я могу добиться одного и того же, и подняв и посадив актера...» Он обладал виртуозным умением использовать свое огромное знание композиционных, пластических, музыкальных, ритмических, эмоционально-психологических закономерностей в искусстве, знание настолько глубокое, что оно в какой-то мере уже стало бессознательным. Для пользования всем этим богатством ему вовсе не нужно было все время держать в голове его опись. Как говорят музыканты, его мастерство находилось в кончиках пальцев. Он был, во-первых, -вторых и -третьих — художник, а теоретик — только «постольку-поскольку», а Эйзенштейн — наоборот: мне кажется, в нем теоретик главенствовал. Из них двоих Моцартом был учитель. Вся художественная практика Мейерхольда — отрицание некоей всеобщей, универсальной системы создания спектакля, «отмычки», равно годной для всех замков; Эйзенштейн же явно тяготел к созданию такой теории. И, разумеется, вопрос ученика Эйзенштейна о «тайнах» ремесла мог у учителя Мейерхольда вызвать недоумение или настроить его насмешливо. Один сотоварищ Эйзенштейна по ГВЫРМу, хорошо помнящий его юность и знавший его зрелым мастером, называл его «мистиком теории».
Дело тут, как мне кажется, вовсе не в том, что Мейерхольд жречески сохранял какие-то главные «тайны ремесла» для одного себя, как это можно понять из комментариев Эйзенштейна, а в разности их натур. Высокомудрый интеллектуал Эйзенштейн, мне кажется, несколько наивно, а вернее, чересчур догматично относился к тому, что он сам называл «тайнами» ремесла или мастерства. Он верил в абсолютные теоретические законы поэтики, в непогрешимые секреты искусства режиссуры. Но сама концепция «мастерства» у Мейерхольда была гораздо шире, как шире была его индивидуальность по сравнению с индивидуальностью ученика и даже такого, как Сергей Эйзенштейн. Эйзенштейн верил в правила и рецепты, остроумно и тонко определяя их и блестяще формулируя. Мейерхольд в них мало верил, и чем дальше, тем меньше. У него всегда над «правилами», «секретами» и тем, что он называл «азбучными истинами», торжествовал приоритет бесконечно богатого и разнообразного вкуса и вечно ищущей острой мысли, знающей бесчисленные варианты своего выражения. Однажды Мейерхольд сказал: «Я могу добиться одного и того же, и подняв и посадив актера...» Он обладал виртуозным умением использовать свое огромное знание композиционных, пластических, музыкальных, ритмических, эмоционально-психологических закономерностей в искусстве, знание настолько глубокое, что оно в какой-то мере уже стало бессознательным. Для пользования всем этим богатством ему вовсе не нужно было все время держать в голове его опись. Как говорят музыканты, его мастерство находилось в кончиках пальцев. Он был, во-первых, -вторых и -третьих — художник, а теоретик — только «постольку-поскольку», а Эйзенштейн — наоборот: мне кажется, в нем теоретик главенствовал. Из них двоих Моцартом был учитель. Вся художественная практика Мейерхольда — отрицание некоей всеобщей, универсальной системы создания спектакля, «отмычки», равно годной для всех замков; Эйзенштейн же явно тяготел к созданию такой теории. И, разумеется, вопрос ученика Эйзенштейна о «тайнах» ремесла мог у учителя Мейерхольда вызвать недоумение или настроить его насмешливо. Один сотоварищ Эйзенштейна по ГВЫРМу, хорошо помнящий его юность и знавший его зрелым мастером, называл его «мистиком теории».
Рассказывая об опыте отношений с Мейерхольдом,
в другом отрывке воспоминаний Эйзенштейн ищет парал
лели своего юношеского конфликта с учителем и конф
ликта Мейерхольда со Станиславским. «Но в те долгие го
ды, когда, уже давно пережив собственную травму, я при
мирился с ним и снова дружил, неизменно казалось,
что в обращении с учениками и последователями он снова
и снова повторно играет собственную травму разрыва со
своим собственным первым учителем... как бы ища оправ
дания и дополнения к тому, что в собственной его юности
совершалось без всякого злого умысла со стороны «отца»,
а принадлежало лишь творческой независимости духа
«прегордого сына». ; .,
Впервые я услышал рассказ С. М. Эйзенштейна об его сложных отношениях с Мейерхольдом еще в начале 1936 года. Группа молодых актеров, ушедшая от Н. П. Хмелева, предложила С. М. Эйзенштейну организовать театр под его руководством. Посредниками в этих переговорах были П. В. Вильямес и В. Я. Шебалин. Кажется, Вильям-су и принадлежала инициатива привлечения Эйзенштейна. Я в этих переговорах представлял бывших хмелевцев. Дело было за обедом у Вильямсов. Присутствовал и Шебалин. Эйзенштейн отнесся к этому непонятно — и иронически и заинтересованно. Он не отказался, вернее, согласился; но отложил свое участие в работе молодого театра до окончания им фильма «Бежин луг», съемки которого были в разгаре. Разумеется, ничего из всего этого не вышло и выйти не могло. И вот в этом разговоре, узнав, что я «мейерхольдовец» и не собираюсь уходить из ГосТИМа, Эйзенштейн весело нарисовал яркую картину моего будущего изгнания оттуда. Я возразил ему, сославшись на письменное разрешение В. Э. на «совместительство». У Эйзенштейна глаза заблестели еще веселее. Он сказал, что единственное, чему он еще может завидовать в жизни, так это молодой наивности, если она, конечно, не переходит той роковой грани, за которой она уже не наив ность, а нечто иное... Я проглотил шпильку, предчувствуя интересный рассказ, и он был нам подарен. В живой импровизации он показался мне более ироничным и комически-гротесковым, чем то, что записал ровно через десять лет С. М. в своих мемуарах патетично и лирично. Если бы Эйзенштейн прожил дольше и написал бы свои воспоминания, предположим в 1956 году, тональность их была бы тоже иной: это необходимо учитывать, оценивая изложенные в них факты. Факты, конечно, не меняются от времени рассказа о них, но отношение к ним рассказчика меняется, и иногда очень резко.
Один критик писал когда-то: «Мейерхольд не счастлив в своих учениках». Я уверен, что будущие биографы Мейерхольда не будут так пессимистичны. История часто пересматривает торопливые выводы современников.
Не стоит снова перечислять множество имен режиссеров, актеров, художников, музыкантов и литераторов, которые в своей юности прошли через руки Мейерхольда: этот список будет гораздо большим, чем можно предположить.
Все ли они вправе считать себя его учениками? Предоставим решать это им самим.

 Я хотел бы суметь рассказать, как однажды парадоксально и выразительно В. Э. реагировал на сообщение о поданном актером X. заявлении об уходе из театра. «Пусть уходит, — сказал Мейерхольд, после того как выслушал ассистентов, объяснявших ему, какие сразу возникнут трудности: ушедшего было нелегко заменить.— Пусть уходит...— Он приподнял правую полу пиджака.— Сколько уж их прошло тут...» — И он загребающими движениями левой ладони показал, сколько их проходило через него. Он замолчал, а левая рука все еще металась над полой пиджака.
Я хотел бы суметь рассказать, как однажды парадоксально и выразительно В. Э. реагировал на сообщение о поданном актером X. заявлении об уходе из театра. «Пусть уходит, — сказал Мейерхольд, после того как выслушал ассистентов, объяснявших ему, какие сразу возникнут трудности: ушедшего было нелегко заменить.— Пусть уходит...— Он приподнял правую полу пиджака.— Сколько уж их прошло тут...» — И он загребающими движениями левой ладони показал, сколько их проходило через него. Он замолчал, а левая рука все еще металась над полой пиджака.
Очень это было наглядно: точно мы все увидели, сколько их было. Кто знал Мейерхольда, представит, как он это показал, а описать словами трудно...
Когда Э. П. Гарин в первый раз подал заявление об уходе из ГосТИМа (он, как и И. В. Ильинский, не раз уходил и возвращался), В. Э. сказал одной актрисе театра: «Гарин — и тот изменил!..» Могу представить его интонацию, поднятые брови и изумленно выпяченные губы. В этом было меньше обиды, чем недоумения. Перед этим Гарин, раньше щедро одаренный мейерхольдовским вниманием, похвалами, нежностью, триумфально сыгравший Павла Гулячкина (актриса М. Суханова, проработавшая с Мейерхольдом пятнадцать лет, вспоминает слова В. Э.: «Я прямо влюблен в Гарина. И утром, когда встаю, и днем, чтобы ни делал, все думаю и мечтаю, как буду ставить сцену Навлуши Гулячкина, — спросите у Зиночки! Если бы не он, Гарин, играл Гулячкина, не такой бы заварился и спектакль!»), Хлестакова, Чацкого, был им серьезно и незаслуженно обижен. Повод для ухода был, но Мейерхольд все же удивлялся, словно хотел еще сказать, что Гарин-то мог бы и потерпеть. Я уже приводил фразу из письма Гарина ко мне но поводу истории этого ухода. Продолжу цитату: «Я обиделся, наверно, захотелось попробовать самостоятельности. Когда мы все жили рядом с Мейерхольдом и смотрели, как он работает, начинало казаться, что это дело нехитрое: у него ведь так легко все получалось». И еще через несколько фраз: «Господи! Какие все мы были наивные идиоты! Если бы кто-нибудь подсмотрел в зеркале будущее!..» Как мы видим, через тридцать с лишним лет Гарин склонен обвинять в невыдержанности одного себя.
Нет, все это было не просто: любить Мейерхольда, работать с ним, переносить его охлаждение, уходить и снова возвращаться, и опять уходить, с тем чтобы через десятки лет винить себя за недостаток терпения и выдержки...
Этот страстный и сложный человек часто наносил незаслуженные горькие обиды преданным друзьям и ученикам. Почти к каждому из них его отношение проходило один и тот же круговой цикл: увлечение, доверие и близость, ревность и подозрительная настороженность. В последней стадии он часто бывал грубо несправедлив. Бывали иногда и возвраты к прежним привязанностям и увлечениям, но очень редко. Они для него не характерны. Чаще бывало противоположное — полный разрыв и только уже на большом отдалении известное смягчение. Инициатива обострения всегда исходила от него самого. Так, например, отношения с Мейерхольдом Эйзенштейна или Ильинского, Бабановой или Гарина — это целые сложные психологические романы. Как это все объяснить? Может быть, еще его ревностью к растущей самостоятельности учеников? Или также свойственным Мейерхольду тяготением к новым людям вокруг себя? Но и эти новые тоже постепенно проходили тот же самый круговой цикл — от увлечения до недоверия, и этим объясняется постоянный человеческий вихрь вокруг него: все эти отталкивания, разрывы, уходы. Его подозрительность все усугубляла, и каждый им же обиженный скоро представлялся его воображению врагом.
«Я люблю страстные ситуации и строю их себе в жизни», — сказал он мне однажды. Он, действительно, строил их в изобилии...
Может быть, его всегда влекло к новым людям из жадности и бесконечного любопытства к жизни, которые совсем не ослабевали у него с годами. Все хорошо известное, знакомое и привычное наскучивало, надоедало и ка-| залось пресным. Ведущая черта его характера — постоянное стремление к новому в себе, в жизни, в своем искусст-§ ве, — может быть, требовала и нового окружения, новых восторженных глаз вокруг, новых голосов, новых характеров и новых столкновений. «Жизнь надо мешать чаще, чтобы она не закисала». Можно ли упрекать его в этом? Может быть, эти приливы и отливы, эти смены, эта постоянная новизна были ему необходимы, чтобы не уставать, не стареть, не становиться равнодушным.
 Отвергнутые и обиженные ученики, однако, редко становились его недругами. Обаяние его творческого гения, нечеловеческого темперамента, огромного, острого ума и на расстоянии подчиняло себе тех, кто покидал его с синяками незаслуженных обид. И — наоборот — на дистанции пространства и времени его влияние еще вырастало. Его вклад в души всех, кто хоть недолго находился вблизи, был слишком велик, чтобы внутренне отречься от него. Это значило бы также отречься от самих себя. Мейерхольд среди множества своих дарований обладал зловещим даром приобретать врагов. Но их круг не совпадал с кругом им лично обиженных. Врагами Мейерхольда были почти всегда те, кто его не знал.
Отвергнутые и обиженные ученики, однако, редко становились его недругами. Обаяние его творческого гения, нечеловеческого темперамента, огромного, острого ума и на расстоянии подчиняло себе тех, кто покидал его с синяками незаслуженных обид. И — наоборот — на дистанции пространства и времени его влияние еще вырастало. Его вклад в души всех, кто хоть недолго находился вблизи, был слишком велик, чтобы внутренне отречься от него. Это значило бы также отречься от самих себя. Мейерхольд среди множества своих дарований обладал зловещим даром приобретать врагов. Но их круг не совпадал с кругом им лично обиженных. Врагами Мейерхольда были почти всегда те, кто его не знал.
В свое время Мейерхольда упрекали еще в том, что он постоянно терял своих лучших учеников, что на каком-то этапе становления они чувствовали потребность вылететь из родного гнезда.
Но разве это не естественно?
Потребность, самостоятельно испытать свои силы не лучше разве долгого школьничества, которое всегда незаметно превращается в иждивенчество? Если бы мейерхольдовские птенцы не начинали вдруг тяготиться учительской опекой и не покидали его, а сидели под его крылом десятилетиями, скольких крупных режиссеров мы недосчитались бы, на сколько интересных театров у нас было бы меньше. В ученичестве у Мейерхольда всегда содержалась закваска будущей самостоятельности. Это мы видим из всей истории советского театра. Странный деспотизм, который окрылял всех, кто под ним находился! И, может быть, было бы гораздо лучше, если бы чаще уходили и бродили по свету, и откалывались, и расходились, и соревновались воспитанники и сосьетеры дорогого, многоуважаемого МХАТ. Ведь когда-то так и было. Люди уходили, основывали новые театры, росли. И сам Мейерхольд, в молодости восторженный ученик Станиславского, исписывавший свои ранние дневники пламенными панегириками учителю, вдруг в один прекрасный день почувствовал необходимость уйти от него. Так же потом поступали и его собственные лучшие ученики. Худшие всегда оставались.
Тогда, рядом с ним, все это казалось не так. Иногда нам попросту хотелось, чтобы Мейерхольд хоть немного перестал быть Мейерхольдом: был бы уживчивее, добродушнее, терпеливее. Но он не удостаивал нас этой милости и упрямо и злонамеренно оставался самим собой: странным, невозможным, непонятным и гениальным.
Может быть, все-таки прав Бальзак, сказавший: «Большое дерево иссушает почву вокруг себя. Оно высасывает все соки, чтобы цвести и плодоносить»?
Не поэтому ли мейерхольдовские семена давали бурный рост и цвет вдали от самого дерева, а все, что росло рядом, казалось незначительным?
Или это обман зрения: лишь закон контраста делал всех маленькими? Мне кажется, что вернее последнее.
У Марины Цветаевой есть замечательный цикл стихов, называвшийся «Ученик». Поэт говорит:
«Есть некий час — как сброшенная клажа:
Когда в себе гордыню укротим.
Час ученичества — он в жизни каждой
Торжественно-неотвратим...»
А дальше — как будто это говорится Мейерхольдом-мучителем:
«Я учу: губам полезно
Раскаленное железо. ' •■ -•--
Бархатных покров полезней - ; ■ '
Гвозди — молодым ступням. ■ •
А еще в ночи беззвездной. '; '.
Под ногой полезны бездны...»
Раскаленного железа и гвоздей хватало. Бездн тоже.
Но те, кто проходили через это, делались мастерами. Наперекор учительской ревности, изменчивости, недружелюбию, подозрительности. Наперекор собственному своему желанию быть послушным, примерным, благополучным. С ним это не удавалось. Он не терпел гордецов и обидчивых, но трижды не терпел этих послушных. Они благоразумно оставались при нем, но он их не замечал. А с непослушными иногда впоследствии примирялся. Не со всеми, но с некоторыми. Со всеми не успел.
Последний вечер перед своим арестом он провел у Э. П. Гарина, с которым за два года от этого расстался конфликтно и резко. Гарин в это время снимал в Ленинграде фильм «Доктор Калюжный». В. Э. пришел неожиданно — простой, приветливый, легкий. Он пил, не очень весело шутил, просидел несколько часов и ушел в светлую, летнюю ленинградскую ночь по пустынному Кировскому проспекту к дому на набережной Карповки, где у него была квартира. Там его уже ждали. Больше его никто никогда не видел...
В это время шел обыск и на его московской квартире, где оставалась 3. Н. Райх.

 Я начал эту главу с имени ученицы, друга и жены В. Э. Мейерхольда — Зинаиды Николаевны Райх. Восемнадцать лет она была его верным спутником, и, говоря о нем, нельзя не рассказать и о ней.
Я начал эту главу с имени ученицы, друга и жены В. Э. Мейерхольда — Зинаиды Николаевны Райх. Восемнадцать лет она была его верным спутником, и, говоря о нем, нельзя не рассказать и о ней.
При жизни у нее было много недругов — теперь их почти нет.
Так часто бывает с большими людьми, а 3. Н. Райх была человеком незаурядным, хотя в данном случае и сам Мейерхольд все сделал для того, чтобы его близость не принижала любимого человека, а поднимала и растила. И он этого достиг.
В 1917 году молодая красивая женщина работала в Петрограде в редакции газеты «Знамя труда», той газеты, которая первая напечатала «Двенадцать» А. Блока и вокруг которой группировались поэты и художники, сразу признавшие Октябрьскую революцию. Там впервые ее встретил Мейерхольд. Но она тогда еще была вся заполнена вспыхнувшим чувством к Сергею Есенину. Ей было двадцать три года, когда она стала его женой. Но брак этот скоро рухнул, и в 1921 году мы видим 3. Н. уже в Москве студенткой ГВЫРМа на Новинском бульваре. Вскоре в запутанных, кривых переулках между Тверской и Большой Никитской можно было встретить бродящих, тесно прижавшихся друг к другу и накрытых одной шинелью мужчину и женщину. Он знаменит, не молод, утомлен и болен. Она пережила тяжелую драму разрыва с мужем и вела полунищее существование с двумя маленькими детьми. Это были Мейерхольд и 3. Н. Райх. Вокруг них шумело много молодежи: требовательных и ревнивых учеников, которые не хотели уступать его кому бы то ни было. Она еще ничего не умела, но у нее был исконный, женский дар — быть на высоте любимого человека; дар, превращавший судомоек в императриц. Полюбив, он сделал ее первой актрисой своего театра с той не знающей оглядки смелостью, с которой Петр I короновал Марту Скавронскую.
На премьере «Великодушного рогоносца» будущая исполнительница роли Стеллы вместе с прославленным постановщиком спектакля вертела мельничные крылья, так как рабочих сцены у молодого театра еще не было, и строго выговаривала своему партнеру, когда он зазевы-вался, глядя на сцену. В 1924 году, тридцати лет, она дебютировала на сцене ГосТИМа в роли Аксюши в «Лесе» и с тех пор играла почти во всех постановках Мейерхольда.
Многое созданное им в этот период его жизни сделано если не под ее прямым влиянием, то ради нее. Некоторых, даже в ближайшем дружеском кругу, это раздражало, и иногда они казались правыми. 3. Н. была горячим, импульсивным человеком, очень прямым, искренним, самолюбивым, и не все советы, даваемые ею, были верхом мудрости. Но относительная правота тех, кто ее осуждал, не была фа тойконечной правотой, с высоты которой нужно судить э|ти две необыкновенные жизни. Я никогда не примыкал к^ лагерю скрытых недругов Зинаиды Николаевны, но и мне приходилось сердиться на нее и жаловаться на ее влияние. Однажды, когда я вслух сетовал на 3. Н., племянница и старая ученица Мейерхольда К. И. Гольцева сказала мне то, что я запомнил почти дословно: «Вы не правы, А. К., — сказала она, — не правы, хотя бы уже потому, что вы не знаете, что если бы не было в жизни Мейерхольда этой огромной, всепоглощающей, страстной любви к ней, то он давно бы превратился в усталого и равнодушного старика. Поверьте мне, перед встречей с 3. Н., в начале двадцатых годов, он казался старше и дряхлее, чем сейчас, через пятнадцать лет. Я видела своими глазами чудо этого омоложения. Если бы не оно, то, может быть, не было бы «Рогоносца», «Леса», «Ревизора», «Дамы с камелиями». Неужели это все не искупает те небольшие оплошности и бестактности, которые иногда делает 3. Н. или он ради нее?..» Это мне показалось убедительным, может быть, потому, что я сам множество раз видел, как «молодел» В. Э. при Зинаиде Николаевне, какую тонизирующую силу влияния имело на него ее простое присутствие рядом.
Рассудительные и благонравные биографы, часто склонны осуждать замечательных людей, героев своих изысканий, за их сердечный выбор. Послушать их — и Пушкин должен был бы остеречься жениться на легкомысленной Натали, и Толстой — вовремя покинуть Софью Андреевну. Даже умный и зоркий И. Бунин не удержался в своей книге о Чехове от запоздалого упрека Антону Павловичу за его брак с актрисой О. Книппер. Мейерхольд получил львиную порцию этих осуждений еще при своей жизни. Иногда они принимали формы почти неприличные. У Мейерхольда была привычка печатать на программках своих спектаклей посвящения. Это он делал еще до революции, делал и после. Он посвящал свои работы Красной Армии, подростку Сереже Вахтангову, сыну Е. Б. Вахтангова, которого очень любил, своему другу пианисту Льву Оборину, гениальному китайскому актеру Мэй Ланьфану, пианисту Софроницкому; посвятил один


 |
спектакль и «ученице-другу 3. Н. Райх». Все принималось как должное, кроме этого последнего посвящения, а оно вызвало непристойную травлю в печати и его и ее. Критик О. С. Литовский в своей книге «Так и было» теперь уже признает, что 3. Н. Райх была талантливой актрисой. Такое же признание делает в своих мемуарах «Сам о себе» И. В. Ильинский, оговаривая, что он был раньше пристрастен к ней и не прав.
Аксюшу в «Лесе» она играла просто отлично, была интересной Анной Андреевной в «Ревизоре», прекрасно играла Веру в «Командарме», Попову в «Медведе» и Мар-герит Готье в «Даме с камелиями». В этой сложной и трудной роли она, кажется, впервые получила признание театральной Москвы. В радиоспектакле «Каменный гость» она играла обе женские роли: Дону Анну и Лауру — и превосходно. Потом последовала Наташа — общая неудача; актрисы, труппы и режиссера. В «Борисе Годунове» она должна была играть Марину. Я называю не все ее роли, а те, которые мне больше нравились.
В. Э. ее любил глубоко, страстно, нежно. В его умелых, сильных руках она стала актрисой-мастером, хотя, конечно, и тут губительно действовал закон контраста: рядом с ним все казались меньше своего действительного роста, так было и с ней. Он усыновил и воспитал ее детей от С. Есенина. Я помню их подростками — похожую на отца Таню и немного напоминающего 3. Н. Костю. Таня стала журналисткой. Костя — инженер-строитель, один из создателей стадиона имени Ленина и новых жилых массивов Москвы.
У Б. Пастернака есть стихотворение «Мейерхольдам», посвященное ему и ей. Поэт метафорически воскрешает в нем библейский миф о сотворении женщины из ребра человека. Этот творец — Мейерхольд-режиссер:
«И, протискавшись в мир из-за дисков
Наобум размещенных светил,
За дрожащую руку артистку Р
На дебют роковой выводил...»
Своим внутренним зрением поэт видел дальше, чем друг дома, милейший и добродушнейший Борис Леонидович: дебют и в самом деле стал роковым, если понимать рок как судьбу, так страшно и прекрасно связавшую две жизни — Мейерхольда и его любимой ученицы.
|
|