
Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Великая генеральная репетиция
|
|
Война с Японией протекала неблагоприятно для России. Ее слабым местом был устаревший флот, который не мог конкурировать с современным японским. Позже выяснилось, что от американских кругов через финансового магната Якова Шиффа в Японию отправлялись средства, чтобы ослабить Россию и с этой стороны.
Армия, флот и мирное население в тылу были деморализованы, еще предстояла кровопролитная битва на суше, что подготовило идеальную почву для агитации. Сформированная в 1902 году партия социал-революционеров отправила по плану Парвуса агитаторов в те индустриальные центры и портовые города, в которых могли возникнуть рабочие беспорядки в Баку, Ростов, Тифлис, Киев и Одессу; в этих городах существовали основные революционные кружки. В начале лета 1904 года броненосец «Потемкин» с бунтующим экипажем вошел в Одессу. Николай II сделал 25 июня 1904 года следующую запись в своем дневнике:
«Получил потрясающее сообщение из Одессы, что экипаж только что прибывшего броненосца «Князь Потемкин-Таврический» поднял восстание, офицеры убиты, а командование кораблем перешло к экипажу; существует опасность, что беспорядки начнутся и в городе…»
Неудивительно, что этот результат отлично проведенной агитационной работы позже получил славу предвестника революционного восстания и стал предметом, одноименного пропагандистского фильма Сергея Эйзенштейна. Начались и крестьянские беспорядки. Со сторонниками царского режима, которые хотели восстановить порядок, агитаторы не миндальничали: когда адъютант царя, генерал Сахаров, был у губернатора южно-русского города Саратова, в местности, где проходили волнения, к нему обратилась женщина с рекомендательным письмом. Он пригласил ее войти и взял письмо. Когда Сахаров начал читать, она вытащила пистолет и застрелила его. Назревшие социальные требования бедных слоев населения революционеры использовали в своих целях для демонтажа и свержения государственной власти. Ни в чем не повинные жертвы войны тоже играли им на руку. Так, один из генералов сообщал царю по возвращении с поля боя, что после первого же поражения появились агитаторы, произносившие подстрекательные речи перед солдатами.
В 1905 году беспорядки достигли своего апогея. Они были вызваны мирной демонстрацией рабочих, устремившихся к Зимнему дворцу, чтобы передать царю петицию с социальными требованиями. Группу возглавлял «сыщик в рясе», как позднее стали называть попа Талона. Царь Николай II намеревался принять делегацию демонстрантов, но был срочно предупрежден своими советчиками о необходимости уехать из Петербурга в этот день из-за попытки покушения на прошлый день богоявления (Эпифании). Полиция открыла огонь, многие демонстранты погибли. Эта катастрофа 9 января 1905 года вошла в историю России как «Кровавое воскресенье».
Для революционеров эта трагедия стала желанным поводом для агитации и организации забастовки, волной прокатившейся по всей стране. Когда Троцкий на следующий день читал в Женеве сообщение о потопленной в крови демонстрации, он уже не мог ни дня оставаться за границей. Вперед, в Россию! Сначала Троцкий вместе с женой приехал к Парвусу в Мюнхен, вручив ему свое сочинение «Россия перед девятым января». Позже он писал об этом:
«Парвус был в восторге от моей работы и написал к этой брошюре предисловие примерно такого содержания: «События подтвердили наши прогнозы. Сейчас уже никто не сможет отрицать, что массовая забастовка является основным инструментом борьбы. 9 января стало началом политической забастовки, и остается только добавить, что революция в России может привести к власти демократическое рабочее правительство».
Фактически требования этой демонстрации имели социальный характер, демонстранты несли иконы и образа, — но кто хотел противоречить Парвусу и Троцкому?
В январе 1905 года Троцкий поехал в Россию. Путь его лежал через Вену и Киев. Позже он вспоминал: «Поток русских эмигрантов уже потек в Россию. Виктор Адлер был занят только русскими делами: он добывал для эмигрантов деньги, паспорта, адреса (…) В его квартире один парикмахер поменял мне прическу, ведь моя внешность была слишком известна людям из русской службы внешней разведки…»
От Адлера Троцкий узнал, что предводитель демонстрации 9 января Гапон позже был разоблачен как агент-провокатор, что он все тщательно продумал, а теперь скрылся за границей. При этом в словах Адлера, казалось, прозвучала романтическая слабость к революонерам, если верить Троцкому:
«…Я только что получил телеграмму от Аксельрода, из которой понял, что Гапон уехал за границу, где объявил себя социал-демократом. Жалко (…) если бы он совсем исчез, осталась бы красивая легенда. Как эмигрант, он может быть только смешон…»
И он добавил с появившейся во взгляде искрой, немного смягчившей жесткость его иронии: «Знаете, лучше, когда такие люди входят в историю как мученики, нежели как партийные товарищи…»
Троцкий был слишком известен полиции, чтобы по ту сторону русской границы официально продолжить свою поездку. Вопрос об остановке в гостиницах по дороге в Петербург не стоял. В Киеве ему помог глазной врач, приютив его в своей клинике. В то время как он для видимости терпеливо носил медицинские повязки, уже известный нам член Большевистского центрального комитета, Леонид Красин, печатал составленные Троцким и Парвусом листовки и плакаты с революционными лозунгами. С ними — в Петербург!
Вслед за Троцким на политической сцене России появился Парвус. Благодаря сильно постаравшемуся Виктору Адлеру он приехал в Петербург с австрийским паспортом, и не просто так, а, как всегда, получив аванс и задание от газеты, на этот раз от «Лейпцигер Фолькецайтунг», на освещение событий в России.
Жену и сына Парвус оставил и забыл, как часть прошлого. Ои кинулся в революционные авантюры с новой подругой. Большинство ведущих членов партии за рубежом, меньшевиков и большевиков, заняли выжидательную позицию. Они отважились вернуться только после выхода в октябре 1905 года манифеста о созыве по «непоколебимой воле» царя Парламента, Думы, и о предоставлении буржуазных свобод и политической амнистии. Поэтому с весны до осени 1905 года инициативу генераторов движения взяли на себя Парвус и Троцкий. Ленин, как всегда, был слишком осторожен; позже, когда он приехал, то уже не мог играть ведущую роль в событиях.
Охранка опять плелась в хвосте, но все же подобралась к нему гораздо ближе, чем он предполагал, и буквально наступала на пятки. 22 ноября 1905 года в тайном отчете шефу петербургской охранки записано:
«По поступившей информации проживающий в последние годы в Мюнхене Александр Лазарев(ич), предположительно Израиль Гельфанд (Гельфонд), список разыскиваемых лиц № 118, известный под псевдонимом «Парвус», член германской социал-демократической партийной газеты «Форвертс», на днях нелегально (sic!) приехал в Петербург с целью издавать независимую социал-демократическую газету и совместно с группой либералов другое издание на языке идиш. Во время своего пребывания в Мюнхене Гельфанд считался одним из руководящих членов редакции газеты «Искра».
Ввиду того, что Гельфанд на основании Высочайшего Указа от 21 октября этого года [3] отныне по закону не может быть привлечен к ответственности за свою преступную деятельность за границей, штаб полиции просит Ваше Превосходительство в случае его появления в столице констатировать его деятельность и установить за ней наблюдение, а также сообщать об этом.
Кроме того, штаб охранки считает необходимым указать на то, что по имеющейся информации нелегально прибывшие в Санкт-Петербург революционеры выбрали ресторан «Палкина» местом сбора для своих единомышленников…»
Только в осторожности, казалось, оба революционера не нуждались: разве не они вскоре сами возглавят Движение, в котором все будет происходить по их усмотрению? Они сразу же завладели одним из средств информации, чтобы через него управлять дальнейшими событиями и заполнить политический вакуум оппозиции.
За несколько дней Парвусу и Троцкому удалось увеличить тираж либеральной «Русской газеты» от 30 000 до 100 000 экземпляров, сделав газету массовым изданием, тираж которой вскоре возрос до полумиллиона экземпляров. При этом они сильно обошли прежнюю большевистскую газету «Новая жизнь», хотя она была более радикальной, чем последняя.
Выходящая два раза в месяц «Искра» обрела себе сестру в виде газеты «Начало», которую вожди большевистского крыла использовали совместно с руководителями меньшевистского крыла, по крайней мере, так было вначале. Оба издания становились все более агрессивными, а не откровенно либеральными средствами информации революционеров, гораздо более радикальными, чем хотелось бы умеренным петербуржским хозяевам.
В «Начале» Парвус как анонимный автор опубликовал «Наши задачи»:
«Революция в России опаздывает. Она оттягивалась европейским капиталом, потому что он снабжал царское самодержавие деньгами и оружием и укреплял его в собственных интересах…»
На этом капитале, утверждал Парвус, лежит ответственность за общественные отношения в России, он способствовал возникновению революционного пролетариата, втянул Россию в войну, которая может подорвать основы государства. В дальнейшем пролетариат должен осознать свое положение и свою историческую роль и превратиться с помощью своей социал-демократической рабочей партии в способное к действиям массовое движение. Оно должно отделиться от либерального буржуазного движения и самостоятельно двинуться к достижению рабочей демократии. Лозунг Парвуса: «Без царя — вместо него — рабочее правительство!»
Эти теоретические и утопически странные высказывания вскоре вызвали сопротивление меньшевистских и даже некоторых большевистских товарищей в их обoей газете. Абстрактным теориям Парвуса они противопоставили список конкретных социальных требований.
После ряда успешно организованных забастовок в октябре был создан первый Рабочий Совет, за который последовали и другие. Его руководящим органом стала Исполнительная комиссия.
Первое заседание Совета проводил беспартийный, более близкий по мировоззрению к меньшевикам, либерально настроенный адвокат, с помощью которого была установлена связь с буржуазной оппозицией.
Наряду с умеренными революционерами, Дейчем и Мартовым, Парвус и Троцкий налаживали публицистические связи, но зашли слишком далеко по сравнению с большинством членов комитета, которые, кстати, даже не хотели понять, почему крестьянское сословие должно быть исключено из программы.
Первый Совет настаивал на социальных требованиях в рабочем законодательстве, таких, как восьмичасовой рабочий день и др., которые не могли быть ограничены только одним классом. Из этого и других случаев выяснилось, что для таких радикалов, как Парвус и Троцкий, вопрос заключался не в выполнении социальных требований самих по себе и уж совсем не в стирании классовых различий.
В октябре 1905 года был провозглашен царский манифест, который выбил оружие из рук буржуазной оппозиции, но не радикальной. Пламенный агитатор Троцкий по-настоящему расцвел. В день провозглашения манифеста он выступал перед толпой студентов, которые восторженно приветствовали манифест. То, что он им сказал, оставалось его мнением и в дальнейшем: «Я крикнул им с высокого балкона: «Это только половина успеха, нам рано праздновать успех, потому что перед нами непримиримый враг!»
Театральным жестом Троцкий у них на глазах разорвал текст манифеста и пустил по ветру обрывки бумаги: «Только интеллигенты были словно громом поражены от сознания своей новой свободы и не хотели вырваться из этого хмельного состояния…»
Рабочий Совет принес революционерам особенно большой успех, когда туда стали стекаться оживленные толпы рабочих. Троцкий как искусный докладчик взял инициативу в свои руки. Чтобы вызвать беспокойство своих товарищей, Парвус и Троцкий затеяли провокационную кампанию, в результате которой, в полном соответствии с их программой, был вбит клин между рабочим классом и либеральной буржуазией.
Было закономерно, что они все же отказались от совместной работы оппозиционных групп и стремились к тому, чтобы власть принадлежала только одному классу. Парвус и Троцкий отклонили предложение товарищей того и другого крыла о создании общего Временного правительства из представителей Рабочего Совета и демократической оппозиции. Вместо этого они хотели добиться забастовки, которая бы парализовала всю страну и в подходящий момент помогла бы пролетариату захватить власть. Для этого было принято постановление под лозунгом «Борьба с игом капитализма» по инициативе Ленина, приехавшего из Швейцарии. На основании этого были арестованы члены Исполнительного комитета.
На эти события общественность реагировала равнодушно, даже иронически. На площади в центре Петербурга один театр поставил сцены из событий последних месяцев в виде сатирического коллажа. Парвус сразу же скупил пятьдесят театральных билетов, чтобы подарить их рабочим.
После ареста первого Исполнительного комитета Совета был избран новый во главе с Троцким и двумя рабочими. Но не успели они приступить к выполнению решений ликвидированного комитета в январе 1906 года, как после обысков в редакциях и офисах Совета Троцкий и Дейч были арестованы.
Рабочий Совет был ликвидирован, редакции газет, призывающие к перевороту, закрыты, газеты конфискованы. Но это не удержало Парвуса, которому до сих пор удавалось избегать облав и арестов, от создания третьего Рабочего Совета с целью форсировать революцию. И это ему удалось. В отличие от Троцкого он был не в состоянии так пленять слушателей. Он зарекомендовал себя как теоретик, стратег и организатор, но, несмотря на свой острый язык, ему не хватало харизматичности и ораторского таланта Троцкого. В этом двадцатишестилетний юноша превосходил своего наставника, хотя тот был старше его на двенадцать лет.
Полиция висела на хвосте у Парвуса и других руководителей организованной еще в декабре 1905 года массовой (безуспешной) забастовки, но ей не удавалось арестовать их, потому что они постоянно меняли места собраний. 3 января 1906 года полиция все же настигла новый Исполнительный комитет (третий) в полном составе — кроме Парвуса — попал в ловушку. Он случайно не присутствовал на собрании и избежал ареста.
Казалось, что с арестами уже покончено, и он, по своей самонадеянной привычке, был уверен, что находится в безопасности. На основании документов, найденных у ранее арестованных, Парвуса нужно было непременно взять. Но из-за того, что он жил в Петербурге ни под своим настоящим именем, ни под указанным в документах псевдонимом «Парвус», да еще вдобавок у своей новой подруги Екатерины Петровны Громан на Невском проспекте, 132/43, его было нелегко найти.
В марте 1906 года, когда Парвус был убежден, что его уже забыли, его вдруг выследили. Он еще не успел раздать те пятьдесят театральных билетов, как услышал рядом с собой голос, заставивший его содрогнуться: «Вы арестованы!»
«Вы арестованы!»
Парвус воспринял арест с холодным цинизмом. Он хорошо знал, что, начиная с этого времени, он будет использовать каждое пережитое здесь мгновение как писатель и пропагандист.
При ознакомлении с тем, что Парвус тогда написал, создается впечатление, будто революционер Парвус действовал по сценарию писателя Парвуса, своего alter ego.
«Я был арестован 21 марта 1906 года по старому стилю, — так начинаются его мемуары об этом времени, — чрезвычайно вежливый капитан полиции обыскал мой письменный стол, а так как он у нас был общим, то заодно и стол моей подруги. Он перевернул всю нашу квартиру, забрал с собой каждый исписанный листок и ставил меня в ближайший полицейский участок, разумеется, в соответствующем сопровождении. В участке я около сорока пяти минут наблюдал за служащими в гражданском и дежурным лейтенантом полиции, выполняющими какие-то письменные работы. Потом меня перепоручили одному дородному сотруднику полиции, вместе с которым мы сели в открытые дрожки. Взглянув на него со стороны, я подумал, что был бы не прочь толкнуть его в бок, чтобы он свалился вниз. Но только какая в том польза?»
Лелея мысль, как бы ему насильно избавиться от охранника, он попытался разыграть из себя невиновного, который всего лишь по ошибке должен был пасть жертвой. Он втянул полицейского в разговор о своей мнимой родине — Богемии, что было записано в фальшивом паспорте, и рассказывал правдивые истории о многодетной семье, которую он там якобы оставил. Когда ему показалось, что он уже завоевал доверие своего визави, он взвесил свои шансы: «Может быть, стоит попробовать? Быстро повернувшись всем корпусом вправо, я бы смог схватить его за шиворот, левой рукой я бы выхватил у него револьвер, всем телом навалился на мужчину и… Но что, если соберутся прохожие и откуда-нибудь прибегут другие охранники? И все же — может быть, сделать все сразу? Если бы я схватил парня двумя руками, разве бы я не смог его удушить? Я исподтишка покосился на своего сопровождающего, сравнивая в уме мощность его шеи с силой моих рук. Жандарм тихонько клевал носом, и ему вряд ли приходило в голову, что в этот момент я взвешивал его шансы на жизнь и смерть…»
Кто знает, стоило ли рисковать, может быть, Парвуса сразу же посадили бы в тюрьму, а может, и так собирались выпустить на следующий день? Он не мог ответить на эти вопросы и потому не поддался искушению и удержался от попытки совершить побег.
Парвуса привезли в тюрьму. Он разглядывал свое новое жилье оценивающим взглядом избалованного заключенного с международным опытом. На первый взгляд его камера в тюрьме, расположенной на берегу Невы, с выкрашенными в белый цвет стенами и лепным потолком показалась ему довольно уютной по сравнению с впечатлением «доменной печи», которое на него произвела кирпичная постройка берлинской тюрьмы.
Список на стене включал все предметы, вплоть до шоколада, которые заключенный мог заказать себе на собственные деньги; позже он будет с гордостью вспоминать, как он, находясь в заключении, шил себе на заказ костюмы и шелковые галстуки.
Скуки тоже можно было не бояться: каталог содержал информацию об огромной тюремной библиотеке, где были книги практически по всем областям знаний и на многих языках.
Когда он знакомился с условиями своего нового жилища, к нему зашел пожилой, сухопарый, явно плохо слышащий надсмотрщик со слуховым рожком и спросил, не нужно ли что-нибудь новому заключенному, оторвав последнего от своего занятия. Когда Парвус позже написал, что попросил дать ему Библию, потому что эта книга его время от времени «интересовала и развлекала», это, скорее, было проявлением его высокомерной позы. Ведь обычно Библия, как и молельная икона, и без того лежали в каждой камере.
«Мне подали Евангелие. Эта необычная книга захватила меня и на этот раз, так происходило всегда, когда я читал ее. Особенно меня интересовала связь между Христом и Иоанном Крестителем, которому образ Спасителя представляется компромиссной фигурой. Иоанн — грубый и жесткий, его речь зла, он непримирим, он наравне с нищими, сам — нищий, лохматый парень, питающийся подножным кормом, он воплощение протеста бедных.
Христос, напротив, редко бывает жестким, он постоянно старается быть посередине. Он не выразитель интересов бедных, он — их защитник, он стоит над обеими партиями. Не в этом ли кроется секрет успеха его учения, а также его трагизм: завоевав мир, оно превратилось в догму?»
Между тем становилось темно. В восемь часов вечера колокольный звон и гул голосов оторвали Парвуса от размышлений. Одиночные камеры были открыты, чтобы заключенные могли вместе помолиться перед сном. Из строгих мужских голосов политических заключенных и обычных преступников получился неблагозвучный хор.
Пережить такое Парвус мог только в русской тюрьме. Дожидаясь допроса, он обдумывал, как его могли вычислить, может, кто-то предал? И что о нем было известно — имя, под которым он приехал, или его личность была фактически идентифицирована? На каждый из этих случаев он подготовил себе соответствующую манеру поведения, а его юридические знания стали для этого ценнейшим инструментом, во всяком случае, он знал, на какие статьи закона стоило обратить внимание.
Между, тем в полицейском участке уже писали отчет, который должен был послужить основанием для протокола допроса:
«Начальник Санкт-Петербургского губернского жандармского управления.
Секретно.
Апрель, 1906 год, № 9105.
По дознанию о втором Исполнительном комитете Совета рабочих депутатов привлечен в качестве обвиняемого некто «Парвус», назвавшийся при задержании австрийским подданным Карлом Карловым Ваверка, на имя которого и предъявил паспорт № 730, выданный Австрийским правительством.
При осмотре называющего себя Ваверка оказалось, что он обрезан по иудейскому закону. В обнаруженных при нем статьях, которые, между прочим, помещались в социал-демократическом журнале «Искра», и касающихся русского народа, подписанных «Парвус», автор везде говорит: «наш народ», «наш солдат» и т. д., что указывает на то, что автор — русский подданный. Все это дает основания к заключению, что арестованный Парвус нелегально называет себя Ваверка.
Ввиду изложенного препровождаю при сем две фотографических карточки «Парвуса» и австрийский паспорт на имя Ваверка и прошу:
1. Установить, кто в действительности изображен на препровождаемых фотографических карточках.
2. Установить, действительно ли выдавался паспорт австрийского правительства на имя Ваверка и где находится названный Ваверка.
Приложение: две фотографии «Парвуса» и паспорт № 730 на имя Карла Ваверка.
Генерал-майор… (подпись неразборчиво)»
В письме есть подстрочная рукописная сноска, касающаяся вопроса идентификации личности на фотографиях: «Изображенный на фотографиях — урожденный Израиль Гельфанд».
Наконец Парвуса вызвали на допрос. Вот что он сам об этом пишет:
«Сначала у меня, как обычно, спросили мои анкетные данные. Я должен был указать имя, место жительства и род занятий моих родителей, а также сообщить полную информацию о моей семье и родственниках. Я сделал это с щепетильной добросовестностью и спокойной совестью, потому что я выдумал себе родителей, детей, родственников в тот момент, когда писал их имена. Легенду моего заявления под вымышленным именем я постарался сохранять и дальше. В первую очередь я должен был установить, что обо мне знает жандармерия (…)
Допрос продолжался в таком вежливом и нежном тоне, какой может быть только у жандармов в России:
— Итак, Вы — иностранец. Зачем. Вы приехали в Россию?
— Очень многие люди приезжают в Россию. Я мог бы Вам назвать имена многих соотечественников, которые приехали сюда как иностранцы, а сейчас занимают высокие чиновничьи посты.
- Это, может быть, и так. Но в Россию не приезжают для того, чтобы быть заключенным в одиночную камеру.
- Заключение зависело не от меня.
- Вы идентифицируете себя с Парвусом?
- Мое литературное имя, разумеется, Парвус. Я написал статьи, опубликованные под этим именем. Я хотел бы знать, в чем меня обвиняют.
— Вы были председателем Совета рабочих депутатов?
— Я отказываюсь давать показания об этом. — «Предали!» — подумал я.
— Мы установили, что Парвус был избран в президиум, что он на пленарном заседании Совета депутатов по неизвестным нам причинам отказался от председательства, но из протоколов мы знаем о постановлениях Парвуса, принятых на заседании.
— Я Вам уже сказал, что Парвус — мой литературный псевдоним. Вам надо будет доказать, что тот Парвус, который выступал на Совете рабочих депутатов, и я — одно лицо.
— Для этого мы должны арестовать Вас.
— Вы мне скажете, как звучит обвинение?
— Вы обвиняетесь по статьям 101 и 126 Уголовного кодекса в том, что Вы участвовали в сообществе, целью которого является подрыв формы правления и свержение общественного порядка, что с этой целью Вы подготовили восстание и приготовили запасы оружия и взрывчатых веществ. Не хотите ли высказаться по этому вопросу.
— Я отказываюсь от показаний.
Меня увели в камеру.
Парвуса это не сломило. Все стало для него понятно. Он втянут в политический процесс Рабочего Совета. «И хорошо — из процесса можно кое-что сделать», — писал он в воспоминаниях. Во всяком случае, он подсчитал, что на заседании Думы весной будет объявлена политическая амнистия.
Это исправило его настроение, и он углубился в произведения политической экономии и истории, чтобы создавать новые проекты.
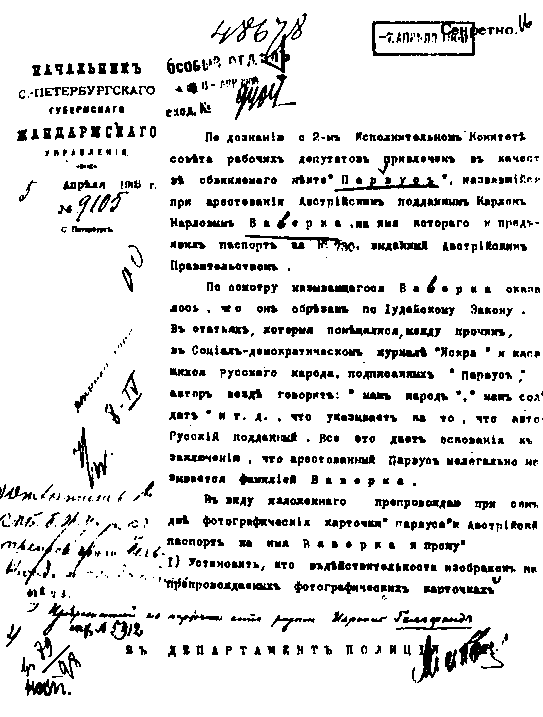
В этом тайном документе особого отдела петербургской полиции констатируется, что Парвус въехал в Россию с паспортом на имя австрийского гражданина Карла Ваверка, чтобы неузнанным участвовать в революции 1905 года.
Наступила весна 1906 года, а вместе с ней пришла и Пасха, которая отмечается в России как величайший праздник года. Неожиданно весь тюремный комплекс наполнился колокольным звоном маленькой тюремной церкви. В полночь, кульминационный момент пасхальной ночи, тюремщик просунул Парвусу в окно, как, впрочем, и всем остальным заключенным, традиционный треугольный пасхальный пирог (символ триединства).
Между тем дело Парвуса медленно распухало. Министерство внутренних дел России отправило запрос в Австро-Венгрию, в Брюнн (ныне — Брно. — Пер.) об идентификации личности сомнительного Карла Ваверка. Ответ пришел уже в апреле. Карл Ваверка был сотрудником политической газеты «Ровноет» (Равенство). В октябре 1905 года он собирался совершить поездку в Россию, попросил оформить ему паспорт. Министерство внутренних дел выдало ему паспорт на три года.
Органы вызвали к себе Ваверка для выяснения ситуации. Он сообщил, что из-за беспорядков в России решил отложить свою поездку. Паспорт он хранил в своей квартире. В ответ на это его попросили в течение двух дней прийти еще раз с паспортом. Через пару дней Ваверка появился в органах и сообщил, что «несмотря на интенсивные поиски», он не сумел найти паспорт. Как он мог оказаться у «Израиля Лазаревича Гельфонда (или Гельфанда)», он «при всем желании» не смог бы объяснить. Возможно, Виктор Адлер поможет внести ясность в это дело?
Депутаты Думы впервые собрались вместе в апреле 1906 года. Только ожидаемая амнистия на этот раз не была объявлена, и Парвус не был освобожден — начался большой политический процесс, на который надеялся Парвус и который хотел использовать как арену для своей политической пропаганды. Для ускорения этого процесса Парвус решил совершить скачок вперед и написал письмо в вышестоящие органы, о чем он, кстати, умалчивает в своих воспоминаниях. В нем он раскрывает свое подлинное лицо, объясняет, что проживал у своей «гражданской жены» Громан и теперь готов «для упрощения и ускорения дела» дать соответствующие объяснения.
Но не произошло ничего, что бы указывало на решение властей в отношении ближайшего будущего Парвуса. Вместо этого Парвуса перевели в Петропавловскую крепость. Это не давало повода надеяться на скорое освобождение, с процессом или без, хотя в этой стране логические размышления не привели бы к правильным выводам и все было возможно.
Полная неопределенность своего положения доконала Парвуса, а ведь он находился в заключении уже третий месяц; как он сам признается, любое прояснение обстановки было бы более приемлемо для него, потому что тогда он смог бы к этому приспособиться. В конце концов он потерял терпение и сам проявил инициативу 23 июня 1906 года он составил заявление в жандармское управление, в котором просил «принимая во внимание семейные обстоятельства, освободить его под залог и разрешить покинуть страну».
Спустя два дня он направил то же прошение прокурору. Министр внутренних дел Макаров, один из самых талантливых членов тогдашнего царского правительства, лично занялся этим делом. В результате он пришел к заключению, что эти и другие подобные заявления «в связи с отсутствием оснований удовлетворить их» не подлежат рассмотрению.
Но одно радостное происшествие повлекло за собой перемены: однажды во время дневной прогулки Парвус неожиданно снова встретил старых друзей: Троцкий и Дейч тоже были здесь! Парвус и Троцкий бросились друг другу в объятия и горячо расцеловались. Спустя мгновение, они играли друг с другом в чехарду, как и остальные заключенные, выполняя предписанную программу ходьбы и движений. Парвус, как всегда в подобных ситуациях, мастер инсценировок, сфотографировался с Троцким и Дейчем в тюремной кухне и спустя много лет с гордостью демонстрировал свои крахмальные воротнички на рубашках.
Если уже во время бурных месяцев петербуржской жизни была видна разница в характерах Парвуса и Троцкого, то в тюрьме она стала еще более яркой. Оба оставили мемуары о времени, проведенном в тюрьме. Если они вместе с документами властей дают картину их поведения, то их характер все же отражается в их высказываниях.
Парвус сообщает, как он постоянно просит принести ему различные предметы, которые заключенные могли получить или заказать бесплатно или за деньги; по его описанию, он постоянно раздражал комендантов охраны, требуя специальное разрешение, ссылаясь при этом на свои отличные знания правового положения. В более позднем сообщении ему представляется особенно важным показать произвол охраны и руководства тюрьмы, которые, казалось, явно не проявляли «сочувствия» к тому, что Парвус стремился выполнить отеческие обязательства по отношению к своему полуторагодовалому сыну.
Троцкий, наоборот, перечисляет здешние удобства, то есть возможность читать газеты на иностранных языках и французскую литературу. В отличие от Парвуса он хвалит хорошее, по его словам, обращение в тюрьме: вместо того чтобы критически изображать надзирателей, он, скорее, с удовольствием сообщает, что персонал в основном, симпатизирует политическим заключенным, при этом проявляется политический темперамент Троцкого. Он пишет:
«Моя жена могла посещать меня два раза в неделю. Дежурные охранники закрывали глаза, когда мы обменивались письмами и рукописями. Один из них, в довольно преклонном возрасте, особенно хорошо обращался с нами. По его просьбе я подарил ему свою книгу с моей фотографией и дарственной надписью».
Если Парвус, описывая ход своих мыслей, высоты и глубины неведения и отчаяния, всегда все выстраивает вокруг своей личности, то Троцкий оставляет свое собственное положение почти без внимания. Он рассматривает все происходящие вокруг него события извне и с интеллектуальным интересом политического мыслителя, который анализирует все, что происходит вокруг него в соответствии с величайшим общественным процессом, и делает отсюда собственные выводы.
Если Парвуса чувство одиночества порой приводило в отчаяние, то Троцкий наслаждался тишиной: «В общем, я не могу пожаловаться на мою тюремную жизнь. Она стала хорошей школой для меня. Я покинул крепко запертую камеру Петропавловской крепости с определенной долей сожаления: здесь был такой покой, такая размеренная тишина, что идеально подходило для интеллектуальной работы».
В то время как Троцкий постоянно работал над новыми теориями, Парвуса больше занимала стратегия его личного выживания техника, позволяющая с помощью гимнастики сохранить физическую форму и дух и распределять время, которое он определял по удару колокола на колокольне, на занятия разного рода.
Стиль мемуаров Троцкого сжатый и остроумный, а у Парвуса — более пространный и сентиментальный.
Оба в своих одиночных камерах усердно изучали новейшие газеты и напряженно прислушивались к шуму, который время от времени долетал до них из города. Если гул голосов нарастал и были слышны пушечные выстрелы, это означало приветствие императорского конвоя или, возможно, подавление новой манифестации протеста? Каждый по-своему оценивал политические процессы и пытался ответить на вопрос: наступит ли спокойствие после открытия объявленного заседания Думы в конце апреля или революция будет продолжаться, подхваченная рабочими массами? Или их революция — революция пролетариата — зашла в тупик, остановившись на фазе Европы 1848 года?
Встреча с Троцким и Дейчем дала Парвусу стимул и облегчила состояние одиночества, которое он так мучительно переносил. Троцкий позже вспоминал первые совместные прогулки по тюремному двору, раскрывая при этом их основные различия:
«Парвус отправился на прогулку со старым Дейчем. Обычно я присоединялся к ним. Неутомимый Дейч разрабатывал план группового побега; он быстро заразил Парвуса этой идеей и упорно пытался убедить и меня присоединиться к ним. Но я не хотел ничего об этом слышать — меня привлекало политическое значение открытого против нас процесса гораздо больше, чем побег.
Кроме того, в конце концов, у этого плана появилось слишком много сторонников. В тюремной библиотеке обнаружили ящик со слесарными инструментами — и все осталось в прошлом. Честно говоря, тюремное руководство тайно подстроило это, потому что оно подозревало собственных жандармов в провокации инцидента с целью достижения изменений тюремных порядков.
Вместо этого Дейч вскоре должен был планировать свой четвертый побег из Сибири, а не из Петербурга…»
И все же Парвуса могли навещать не только его гражданская жена», как он называл в официальных документах свою спутницу жизни, но и друзья. Даже постаревший Каутский постарался приехать в Петербург, верная Роза Люксембург тоже приехала, чтобы нанести визит заключенным товарищам Парвусу и Троцкому.
Но в судьбе Парвуса все еще не было никакой ясности. Между тем заключенный, вынужденный таким образом испытывать собственное терпение, хотел проверить, на что он мог рассчитывать в худшем случае. Если судить по первому допросу, он мог быть осужден по статьям 101 и 126 — за участие в обществе по подготовке вооруженного переворота, что в общей сложности составило бы восемь лет. Не считая общественного процесса…
Только процесс, которого Парвус ожидал с таким нетерпением, для которого он уже заготовил большую, эффектную защитительную речь, полную острых формулировок, не состоялся. Хуже того: на него были допущены только руководители первого Рабочего Совета. Парвус не удостоился получить известность, выпавшую на долю этой группы благодаря процессу, Троцкий же вошел в нее.
Парвус получил свой приговор, который был вынесен на особом заседании Министерства внутренних дел в административном порядке 7 июля 1906 года, на четвертом месяце его заключения. Он гласил: три года ссылки в Сибирь, точнее в Туруханск, расположенный в окрестностях Енисейска, недалеко от Полярного круга.
Однако сам приговор потряс Парвуса меньше, чем его временная мера наказания. Получить только три года было для его революционного достоинства почти унизительным. Это означало, что правительство считало его или не опасным, или не обладающим большим политическим влиянием. Он не заслужил даже политического процесса!
Не успел Парвус получить на руки приговор, как уже начал сочинять новые прошения. На этот раз в письме, адресованном лично министру внутренних дел, он выразил опасение в отношении своего состояния здоровья.
Придумав себе диагноз: «хроническая атония почек с катаром желудка», якобы болезнь в случае ссылки могла бы лишить его уже в 39-летнем возрасте «научной работоспособности или даже привести к преждевременной смерти». Поэтому ему бы лучше вместо ссылки разрешить лечение «на целебных минеральных водах в Карлсбаде». Спустя три дня Екатерина Громан обратилась с еще одним прошением: в нем она просила начальника жандармского управления позволить Парвусу добираться от Красноярска до места назначения за свой счет, «потому что поездка по этапу тюремным транспортом могла бы оказаться очень опасной для его пошатнувшегося здоровья…»
Спустя неделю, третьего августа, ей пришла в голову идея еще лучше. Она предложила непосредственно министру внутренних дел: «Принимая во внимание явно уже изначально пошатнувшееся здоровье мужа, из-за которого он может не пережить подобную поездку, послать его только в район Нарым без дальнейшей поездки на лошадях». То есть в совсем другое место.
Это прошение тоже осталось без ответа, вообще-то были основания не принимать его всерьез. Зато очень интересна написанная от руки заметка министерского чиновника, нацарапанная на полях письма, которая, вероятно, послужила основанием для отклонения прошения: «Из Нарыма легко убежать». Последующие прошения не успели посыпаться, так как Парвус буквально через неделю после последней, упомянутой выше попытки освобождения был выслан вместе с небольшой группой других политических заключенных. Вот что было написано в запоздалом ответе русских органов на вопрос австрийцев о том, как Парвусу удалось завладеть паспортом Карла Ваверка:
«…Упомянутый… с настоящим именем Израиль Лазаев(ич) Гельфанд находится в ссылке в Туруханске, в окрестностях Енисейска, поэтому получить скорый ответ о том, где он взял паспорт Ваверка, в настоящее время не представляется возможным…»
Но когда это письмо русских дошло до получателя в австро-венгерском министерстве, его содержание уже сильно устарело. Путь небольшой конвоируемой группы заключенных к месту назначения проходил по железной дороге, затем пароходом, потом опять по железной дороге, на повозках, на лодках, в общей сложности он продлился несколько недель. Он задержался еще и потому, что в это время года движение судов на северных сибирских реках было ограничено. Поэтому маленькая группа конвоируемых вместе с охраной была вынуждена передвигаться дальше на маленьких лодках.
Заключенные пытались использовать это обстоятельно в качестве шанса на побег, каждый раз при виде лодки, как правило, уже полной, они отказывались садиться в нее. Во время ночевки они великодушно угощали охранников взятыми с собой специально для этой цели напитками — четырнадцать бутылок 95-процентного алкоголя. Таким образом, некоторым из них удалось ночью улизнуть через окно. Парвус же, наоборот, дождался благоприятного момента, и когда все погружались в лодку, воспользовался беспорядком среди толкающих друг друга пассажиров — заключенных, крестьян, ремесленников — и незаметно исчез.
Добравшись до ближайшего крупного города, Красноярска, он переоделся как крестьянин-мужик и сел в поезд, направляющийся в Петербург. Он ехал в вагоне последнего класса, ел и пил с крестьянами, играл с ними в карты. Но когда понял, что общими у них стали не только еда, но и блохи, пришел к выводу, что «легко разыгрывать из себя мужика, но гораздо труднее жить вместе с другими мужиками…». В следующем городе он переоделся в джентльмена.
Теперь он выглядел так элегантно, что его даже не признал тот заключенный, с которым он еще недавно вместе сидел в тюрьме: Лев Дейч. Однажды Парвус на одной из станций, увидел стоящего у газетного киоска Дейча, который, разумеется, уже давно бежал, он был более опытным в этих делах. Когда Парвус сдержанно поздоровался с ним, Дейч только рассеянно посмотрел на него и не узнал или не хотел узнавать, потому что ему надо было постоянно быть начеку.
И в Петербурге новый облик Парвуса был хорошей маскировкой. Там на него с безразличием смотрели даже те жандармы, которые с ним уже были знакомы. Таким образом, Парвус чувствовал себя относительно уверенным и снял себе номер в гостинице. У него хватило смелости остановиться здесь и осмотреться, подумать, что ему делать дальше, вместо того чтобы сразу двинуться в Западную Европу. Но уже на следующий день он узнал через своих контактных лиц, что документы, с которыми он в этот раз путешествовал, были уже готовы. Поэтому он, не возвращаясь в свой отель, двинулся дальше, остановившись в следующем.
Уже через несколько дней ему удалось перейти границу, и он опять оказался в Германии. На этот раз он оставил в России свою гражданскую жену и их общего сына, который еще станет известным как Леон Гельфанд.
В глазах революционеров революция провалилась. Они игнорировали ее результат — первую конституцию в России с гарантированными буржуазными свободами и созданием парламента — Думы.
Чтобы прийти к своей цели, Парвус с удовольствием бы перескочил через фазу либерализма, являющуюся, по учению его наставника Маркса, предпосылкой для дальнейшего этапа общественного развития. Но сейчас было уже поздно. Потому что еще в 1906 году то там, то здесь вспыхивали отдельные забастовки и беспорядки, но для пожара, который бы смог охватить всю страну, этого было недостаточно. Постепенно страсти улеглись.
Ленин не уставал повторять: «Революцию надо делать не с народом, а с профессиональными революционерами!»
Хотя Парвус слушал это без особого удовольствия, потому что это противоречило его теории массовой революции, он все же должен был согласиться, что даже с профессиональными революционерами сейчас нельзя сделать Революцию, потому что все они сидят за решеткой.
Парвус по-прежнему находил себе применение как публицист, автор воззваний, теоретик партийной прессы в Совете и организации движения, а Троцкий — как харизматичный предводитель масс. Позже появилось крылатое выражение, характеризующее роль обоих: «Троцкий играл в первом Совете рабочих депутатов первую скрипку, а Парвус сочинял для этого ноты». Сам Парвус в своем резюме тоже находит место для художественных сравнений: «Мы были не чем иным, как струнами арфы, на которых играла буря революции…»
Была ли революция 1905 года сама по себе провалом, или она выглядела так в глазах Парвуса, в любом случае она послужила для него уроком. Для него было важно извлечь из этих событий пользу на тот случай, когда представится такой шанс. В этом смысле 1905 год стал генеральной репетицией великого замысла.
|
|